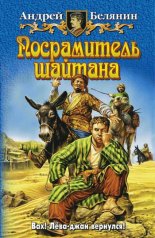Герой должен быть один Олди Генри
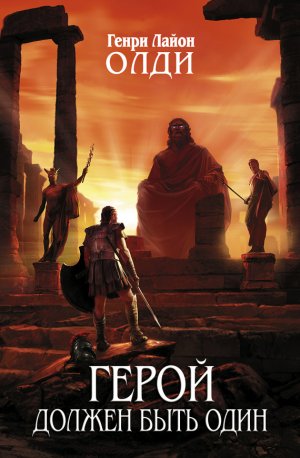
Да и идущий человек уже пересек двор и исчез, как показалось Амфитриону, слегка кивнув на прощание.
– Я согласен, – медленно проговорил Автолик, и в глазах его вновь появилось прежнее насмешливое выражение. – Когда ты хочешь, чтобы я перебрался в Фивы?
Когда дробный конский топот затих, а колесницы Амфитриона и его сопровождающих скрылись за поворотом дороги, но пыль, поднятая ими, еще не успела осесть, – человек в драной хламиде с капюшоном по-хозяйски вошел в дом, поднявшись на террасу, скинул свое рванье и нахально уселся в кресло, с которого не так давно поднялся уехавший Амфитрион.
Это оказался темноволосый юноша с горбатым породистым носом, одетый в щегольской хитон, подпоясанный искусно расшитым поясом, и красно-коричневые сандалии из мягкой кожи, которые юноша поленился снять. Отхлебнув из недопитой чаши, незваный гость улыбнулся, но глаза его при этом оставались серьезными.
Не бывает у юношей таких глаз, чем-то похожих на глаза приподнявшегося в соседнем кресле Автолика.
– Радуйся,[22] отец.
Это сказал не юноша.
Это сказал Автолик.
– Привет, сынок, – беззаботно отозвался юноша. – Как жизнь, как настроение? Говорят, собираешься в Фивы?
– Я согласился, отец. Увидел тебя и – согласился.
– Ты у меня всегда был понятливым. Амфитрион, между прочим, неглуп… и он прав – готовить надо обоих. Одинаково. На всякий случай.
– Готовить – к чему?
– Ко всему. Людям нужен герой. И твоему дедушке там, на Олимпе, тоже нужен герой. Куда ни плюнь – всем нужен герой…
И юноша весьма метко запустил обглоданной птичьей ножкой в висевший на стене шлем – знаменитый кожаный шлем Автолика, усеянный кабаньими клыками.
…А колесницы Амфитриона в это время неспешно пылили по извилистой дороге прочь от Аргоса, и по обе стороны от дороги возвышались девственно-зеленые холмы. Изредка в отдалении можно было заметить пасущиеся стада, напоминавшие снежные шапки гор. Стояла ранняя осень, солнце припекало, и ничто не нарушало покой раскинувшегося вокруг мирного пейзажа.
Кони шли медленно – а куда спешить-то? – и так же неторопливо текли мысли Амфитриона, на время доверившего поводья вознице.
Впрочем, мысли его были медленными, но отнюдь не такими мирными, как окружающий пейзаж.
Автолик в конце концов согласился – и это было хорошо. Не только искусству борьбы научит он подрастающих близнецов – но и наверняка передаст им немалую долю своей знаменитой хитрости, которую Автолик унаследовал от отца своего, Гермеса-Психопомпа, то есть Проводника душ.
А борьба без хитрости – как копье без наконечника.
Кастор Диоскур тоже согласился учить братьев бою в полном вооружении – и это опять же хорошо. Биться с Кастором, хоть на копьях, хоть на мечах, Амфитрион без крайней нужды не стал бы. Силен лаконец Кастор, брат неукротимого Полидевка, силен и беспощаден. Одна беда – горд непомерно. Возомнил себя лучшим колесничим Пелопоннеса – да только ли Пелопоннеса? Ладно, пускай тешит самолюбие…
Амфитрион помимо воли самодовольно усмехнулся, огладив бороду.
Нет уж, колесничному делу он и сам сыновей обучит. Кастор, правда, может обидеться… Ну и Тартар с ним! Лишь бы приехал в Фивы, как обещал, а там уговорим, удержим. Глядишь, и брат его, Полидевк, кулачный боец, объявится – не вытерпит, сперва переучивать возьмется, после показывать новое, ну и (чем Мойры не шутят?!) застрянет в палестре на год-два…
Разные учителя понадобятся. И не только – воины. Кстати, прямо перед отъездом Амфитриона явился в Фивы Лин, брат божественного Орфея. Вроде как поселиться решил… Хвала Аполлону Мусагету,[23] ежели так – лучшего наставника-кифареда и не сыскать!
Молоды будущие учителя, молоды да горячи. Лину – тридцать один, самый зрелый, Автолику – почти тридцать, Кастору – тому вовсе двадцать пять сровнялось. Можно было и постарше сыскать – можно, да нельзя. Нашел Амфитрион именно тех, кого хотел найти. Упрям и зол Кастор, хитер и вынослив Автолик, Лин все Орфею его таланта простить не может, – сурово учить будут, многого потребуют от детей, не пожалеют по малолетству, послабления не дадут.
Вот тогда, Олимпиец, поглядим – кто рассмеется последним! Все знают, что Алкид – твой сын; и лишь мы с тобой, грозный Дий, Зевс-Отец, Бронтей-громовник, знаем правду. Знаем и оба будем молчать. Я – потому что дороги мне жизни детей и жены (да и своя небезразлична). Ты – потому что дороги тебе твоя честь и мужское достоинство. Да, я промолчу, Олимпиец, я проглочу все слова, которые хотел бы бросить тебе в лицо; Эльпистик уже заплатил за мой длинный язык крюком в собственном затылке – хватит! Я промолчу. Я не буду улыбаться исподтишка в твоих храмах.
Но мы-то с тобой будем знать правду, Олимпиец, ночной вор!
К Данае ты явился золотым дождем, к Европе – быком, к Алкмене же ты пришел мною – значит, мой облик тебе пришелся впору! По плечу, по росту, по мерке… тесно не было, Громовержец?
И ты будешь вздрагивать, видя, что земной человек, смертный, сын смертного, делает то, что должен был совершать полубог, сын великого Зевса!
Да он и будет полубогом для всех, кроме нас с тобой…
Все свершится, все произойдет так, как ты хотел… только ты, Олимпиец, тут будешь ни при чем!
Ведь так? Ну ответь, ударь молнией, громыхни с ясного неба!
Тебе нужен герой, равный богам?
Ты его получишь.
И это будет единственная месть, которую я, Амфитрион Персеид, могу себе позволить.
Из-за очередного поворота дороги показались несколько глинобитных хижин с тростниковыми крышами – деревня. Ничего особенного в ней не было, во время походов Амфитрион повидал великое множество таких поселений – и с ликованием встречавших победителя, и угрюмо молчавших, и черных, сгоревших, с трупами на порогах бывших домов.
И вот таких, мирных, деловитых, похожих друг на друга, как близнецы, в своих ежедневных заботах.
В другой раз Амфитрион проехал бы мимо, не задерживаясь, но сейчас его внимание привлекла толпа людей на окраине деревни, с трех сторон обступившая что-то, видимо, местный алтарь, потому что над ним поднимался в небо густой, с копотью дым.
Амфитрион тронул за плечо возницу, и тот послушно придержал коней. Тогда Амфитрион выбрался из колесницы и направился к толпе, заодно разминая затекшие ноги.
На него никто не обратил особого внимания. Ну, остановился какой-то богатый путник, захотел почтить богов вместе со всеми или просто решил поглазеть – что с того?
– …приношу эти тяжелые колосья, и плоды деревьев наших, и масло благоуханных олив – тебе, юный полубог, Безымянный Герой, Истребитель Чудовищ, сын державного Зевса и прекрасной Алкмены, твоей последней земной женщины, о Дий-Тучегонитель…
Амфитрион вздрогнул от неожиданности, но этого никто не заметил, а сам лавагет тут же привычно взял себя в руки, продолжая внимать седому высохшему жрецу, чье лицо напоминало вырезанную из дерева маску.
– …прими жертву нашу, герой-младенец, прими то, что приносим мы тебе от чистого сердца, и пусть укрепится дух твой, и удесятерятся силы…
Жрец вещал что-то еще, но Амфитрион уже не слушал его.
Эти люди знали! Здесь, в отдаленной и глухой арголидской деревушке, люди знали, что у его жены родился сын от Зевса; его, Амфитриона, позор оборачивался для них надеждой на будущего героя, Истребителя Чудовищ, и эти забитые крестьяне уже приносили ребенку жертвы, видя в нем грядущего избавителя.
Им не нужен сын Амфитриона.
Им не нужен такой же, как они.
Им нужен герой-полубог.
Забитые селяне и грозный Зевс – им нужно одно и то же.
«И они его получат, – озлобленно думал Амфитрион, садясь в колесницу и хлопая возницу по спине. – Они забывают, что полубог в то же время – получеловек… Они получат героя!..»
Жрец продолжал бубнить свое, люди беззвучно шептали молитвы – а возница уколол лошадей стрекалом, упряжка рванула с места в карьер, словно почуяв настроение хозяина, и колесница Амфитриона (а следом за ней и две другие) скрылась в облаке пыли за поворотом дороги.
– У них будет герой, – бормотал Амфитрион, сжимая тяжелые кулаки, – будет… О Зевс-соперник, неужели это и есть твой ответ?!
Небо молчало и постепенно темнело.
Когда оно окончательно нахмурилось, а колесницы успели умчаться далеко от арголидского селения, – из сумрачных теней выбрались четыре фигуры и направились к деревенскому жертвеннику, одиноко стоявшему посреди ночной тишины.
Один из пришельцев, одетый в шерстяной фарос, неспешно шел впереди; двое других, в коротких хитонах, подпоясанных простыми веревками, вели под руки последнего – совершенно обнаженного мужчину средних лет, чье тело, похоже, было натерто маслом, потому что кожа ведомого поблескивала, отражая призрачный свет восходящей луны.
Голый мужчина дышал часто и тяжело, белки его вытаращенных от ужаса глаз чуть ли не светились в окружающей темноте, но шел человек не сопротивляясь, словно в трансе переставляя негнущиеся ноги.
И лицо его было лицом раба.
Идущий первым остановился у жертвенника, неторопливо огляделся по сторонам, сгреб в кучу остатки хвороста у западной стороны алтаря, подсунул под нее клок сена и ударил несколько раз кресалом. Брызнули искры, вспыхнул робкий огонек – и костер начал разгораться.
Двое державших обнаженного мужчину, словно повинуясь неслышному приказу, глухо завыли-замычали, но в их полузверином реве отчетливо проступал внутренний ритм, засасывающий, отнимающий волю; вскоре они уже раскачивались из стороны в сторону, как одержимые, – лишь стоявший у алтаря оставался недвижим.
И его сильный глубокий голос вплелся в песнь-вой, накладываясь и перекрывая:
– Жертву прими, Избавитель, младенец, Герой Безымянный, – жертву прими не по воле отца твоего, но тех, кто древней Громовержца…
– Тартар! Слышу Тартар! – поддержали сразу два голоса. – Слышим, отцы наши!.. недолго уже… недолго ждать…
– Волею Павших приносим мы жертву ночную, безмолвную дань по обычаю пращуров наших – не тех, кто воссел на Олимпе, богами назвавшись, но тех, кто низвержен до срока…
– Тартар! Слышу Тартар!..
Жрец в накидке еще выкрикивал какие-то слова – непонятные, нечеловеческие, – а двое его помощников уже опрокинули жертву спиной на алтарь. У обнаженного мужчины от жара затрещали волосы, хребет его, казалось, сейчас переломится, но он молчал, и лишь глаза его расширились еще больше от невероятного ужаса.
– Кровь нашей жертвы, рекою пролейся, кипящей рекою, впадающей в Тартар; рекою от Павших к Герою, от устья к истоку, от прошлого к дням настоящим… о медношеие, о змееногие, о уступившие подлости ваших соперников – ваших детей…
– О-о-о… отцы наши… недолго осталось ждать!
Кремневый нож, тускло отсвечивающий бликами костра, с хрустом вошел в левый бок жертвы; тело дернулось, но ни звука не сорвалось с плотно сжатых губ. Лезвие ровно двинулось наискось вверх, взламывая ребра, потом словно наткнулось на какую-то преграду… неуловимое круговое движение – и тело жертвы обмякло, а жрец торжествующе поднял черный в свете луны, еще пульсирующий комок.
Сердце.
Кровь залила алтарь; часть ее попала в костер и негодующе зашипела, возносясь сладковатым смрадом.
– Я слышу Павших, – голос жреца резко изменился, рокоча, подобно львиному рыку. – Они довольны. Они благословляют Безымянного. И недалек тот день, когда Избавитель сам принесет Павшим обильные жертвы.
В это время в далеких Фивах маленький Алкид со звериным рычанием катался по ложу, разрывая покрывало в клочья и брызжа пеной, выступившей на губах, а рыдающая Алкмена вместе с двумя няньками все никак не могли утихомирить или хотя бы удержать его, пока в брата не вцепился горько плачущий Ификл.
– Алки-и-ид! Они плохие! Не отвечай им! Мама-а! Они плохие! Они зовут Алкида! Не отдавай его, мама-а-а!..
Но никто не вслушивался в странные слова, которые выкрикивал сквозь рыдания маленький Ификл.
Наутро мальчики никак не могли вспомнить, что случилось ночью. Наверное, обоим просто приснился плохой сон. Впрочем, ни Алкмене, ни нянькам тоже не хотелось вспоминать об этом кошмаре.
Но и забыть его они не могли.
А костер в арголидской деревушке уже угас, лишь слабо тлели угли, подергиваясь серым налетом пепла. Удалились трое, растворились в ночи, унося с собой тайну страшного жертвоприношения, – и никто не заметил, как от растущего неподалеку дикого ореха отделилась юношеская фигура в потрепанной хламиде с капюшоном.
– Вот оно, значит, как… – задумчиво произнес юноша, обращаясь исключительно к самому себе. – Кровавая река от Павших к Герою? Никто из Семьи не мог предвидеть такого – ни отец, ни дядя… ни я.
Внезапно, словно приняв какое-то решение, юноша хлопнул в ладоши, легко подпрыгнул – и исчез. Взлетел? Скрылся меж деревьями? Или его вовсе не существовало? Примерещилось? Только кому, если рядом никого не было?
Кто знает?
По возвращении в Фивы Амфитрион незамедлительно пошел к Креонту договариваться о выделении земли в черте города под палестру – частную гимнастическую школу. Тут его ожидала приятная неожиданность: Креонт, хитро глядя на друга, заявил, что если Амфитрион не возражает против обучения в новой палестре детей некоторых знатных фиванцев (естественно, за немалую плату), то он, басилей Креонт, завтра же прикажет начать строительство на обширном пустыре в десяти минутах ходьбы от дома Амфитриона.
Причем две трети расходов возьмет на себя.
Амфитрион не сразу понял, при чем тут его возражения и откуда взялась такая щедрость – не только же из дружеских чувств? – но потом сообразил, что палестра с известными на всю Элладу учителями сразу добавит славы Фивам и лично Креонту, а основная тяжесть расходов все равно ляжет на казну.
Они договорились, что открытие новой палестры состоится через год – как раз к этому времени собранные Амфитрионом учителя обещали разделаться с текущими заботами и прибыть в Фивы, – и расстались весьма довольные друг другом.
Вечером Амфитрион уединился с Алкменой в мегароне, слушая ее рассказ о случившемся за время его отсутствия. Между ними стоял столик на гнутых ножках в виде львиных лап, и Амфитрион время от времени тянулся к ближайшему блюду, брал свежеиспеченную лепешку, обмакивал ее в чашу с желтым тягучим медом и отправлял в рот с подчеркнутым удовольствием.
Сладкое он ел редко, но лепешки жена пекла собственноручно, а умение выбирать на базаре лучший мед было гордостью Алкмены; кроме того, она очень любила смотреть, как Амфитрион ест.
Это наполняло ее спокойствием и уверенностью.
…Амфитрион протянул свободную руку, и Алкмена, сидящая рядом на низкой скамеечке, счастливо потерлась о его ладонь щекой.
– И еще Тефия десять дней назад родила, – подумав, сказала она, имея в виду одну из своих доверенных рабынь-финикиянок. – Девочку. Здоровую и горластую. Я у Тефии спрашиваю – от кого, мол? – а она смеется и не отвечает. Только что тут отвечать, когда девочка – вылитый Филид-караульщик! Одни ресницы Тефии, длиннющие… Я еще дивлюсь, что Филид все вокруг дома нашего околачивается!
– Бедная девочка, – пробормотал Амфитрион, с трудом припомнив обросшую физиономию Филида-караульщика. – Чем она богов-то прогневала? Дать, что ли, твоей Тефии вольную? – пусть Филид ее замуж берет…
Алкмена отломила от лепешки кусочек, повертела в пальцах, но есть не стала.
– Не надо, – усмехнулась она. – Я Тефии уже говорила – хочешь вольную? Так она в крик! За что, мол, гоните, госпожа, пропаду я без вас, лучше плетей дайте, если есть вина моя… Еле успокоила. А то от плача молоко горкнет. Ну вот, кажется, и все. Ничего больше не случалось. А как у тебя дела с палестрой?
– Отлично, – Амфитрион облизал медовые усы и незаметно поморщился. – Креонт расщедрился – небось видение ему было! Две трети расходов на себя берет. Стадион, бассейн, гимнасий крытый… пусть Микены завидуют!
– Пусть завидуют, – согласилась Алкмена, зная, что видением Креонта была его собственная жена Навсикая, с которой Алкмена не раз уже успела переговорить по поводу палестры. – А когда управитесь?
– Да не раньше чем через год. В лучшем случае, к следующей осени.
Они замолчали, думая каждый о своем.
Амфитрион размышлял, стоит ли рассказывать жене о тощем оборванце, которого Амфитрион видел во дворе Автолика и который всколыхнул в нем давние тревожные воспоминания; и еще – надо ли говорить о жертвоприношении в честь их малолетнего сына (о Зевс, помню, помню – твоего, воистину твоего сына!..), или лучше не волновать Алкмену попусту.
Алкмена же думала, стоит ли рассказывать мужу о странных приступах у Алкида, которые в последние полгода вроде бы стали случаться пореже, а знахарка Галинтиада сказала, что с возрастом они и вовсе прекратятся; или не стоит волновать лишний раз мужа, и без того обремененного многими заботами.
«Нет, ни к чему», – решили оба и улыбнулись друг другу.
– К следующей осени, – повторил Амфитрион. – А еще через полгода, весной, отдам мальчиков в палестру. Как говорится, кости мои, а мясо учителей. Пусть учат…
Сперва Алкмена не поняла.
– Как весной? – спросила она. – Ведь в палестру с двенадцати лет отдают!
– Правильно, – кивнул Амфитрион. – С двенадцати.
– Так им же тогда только-только шесть исполнится!
– Да. Шесть с небольшим.
– Но…
Не о тяготах учебы подумала Алкмена в первую очередь, не о строгости учителей – нет, другая мысль пойманной птицей забилась в материнском сознании.
– Но ведь старшие мальчики будут их обижать!
Амфитрион встал и отошел к стене, возле которой располагалась стойка с его копьями.
– Будут, – тихо ответил он, глядя на бронзовые наконечники. – Обязательно будут. Я очень на это надеюсь.
И суровая тень упала на его лицо.
Стасим II
Утро.
Солнечный зайчик прыгает по траве, заигрывая с надменной фиалкой, но та не обращает на него внимания, и зайчик обиженно перебирается на куст можжевельника, где, грустный, сидит на веточке.
Под ним, прямо на земле, лежит человек в обнимку с лошадью.
Так кажется глупому солнечному зайчику.
Потом человек шевелится, и лошадь шевелится, и – даже если ты еще глупее солнечного зайчика – становится совершенно ясно, что человеческий торс без видимой границы вырастает из гнедого конского туловища; но лицо странного конечеловека не выражает ни малейшей озабоченности подобным положением вещей.
Зайчик испуганно шарахается в сторону, но любопытство побеждает, и он сперва с робостью касается левого заднего копыта, после перебегает на круп и вдоль хребта скачет вверх, от коня к человеку, пока не останавливается между лопатками, запутавшись в гриве каштановых волос, едва тронутых сединой.
Кентавр, как незадолго до того фиалка, не обращает на проделки солнечного зайчика никакого внимания. Его лицо бесстрастно, морщины не тяготят высокий лоб, и чуть раскосые глаза под густыми бровями смотрят внимательно и спокойно.
Кажется, что он прислушивается.
– Это ты, Гермий? – тихо спрашивает кентавр.
Густой и низкий, голос его подобен шуму ветра в вершинах гигантских сосен, растущих неподалеку.
Тишина.
Кентавр вслушивается в тишину.
– Ты просишь позволения войти? – немного удивленно произносит он.
Тишина.
Кентавр кивает тишине.
– Ну что ж, входи, – говорит он. – Будь моим гостем.
Из тишины и покоя, спугнув бедного солнечного зайчика, выходит стройный темноволосый юноша. Ноздри его тонкого с горбинкой носа слегка подрагивают, словно юноша волнуется и пытается скрыть это.
– Здравствуй, Хирон, – бросает юноша, вертя в руках небольшой жезл-кадуцей, перевитый двумя змеями.
– Здравствуй, Гермий, – отвечает кентавр. – Добро пожаловать на Пелион.
И кажется, что все вокруг: сосны, кусты можжевельника, пещера неподалеку, земля, трава, фиалки – вздыхает полной грудью, приветствуя гостя.
– Давненько я не бывал у тебя, Хирон…
– Шутишь, Гермий? Ты вообще бывал у меня всего один раз – в тот день, когда Семья клялась черными водами Стикса, что Пелион – мой и что без моего разрешения ни один из вас не вступит на эту гору.
– Ни один из НАС, Хирон. Из НАС. Ты ведь тоже сын Крона-Павшего, Хозяина Времени, и время не властно над тобой. Почему ты так упрямо отделяешь себя от Семьи?
– Это не моя Семья, Гермий. В свое время я промолчал, и Павшие стали Павшими, а Семья – Семьей. Возможно, это случилось, даже если бы я и не промолчал, и сейчас я находился бы в Тартаре, а ты звал бы меня Хироном-Павшим. Да, я сын Крона, я младше Аида, но старше Колебателя Земли, и все считают, что мое место – в Семье. И только я знаю, что мое место – здесь, на Пелионе.
– Возможно, ты был прав, удалившись на эту благословенную гору от дрязг Семьи… Интересно, сплетни тоже являются на Пелион лишь после Хиронова разрешения?
– Какие именно?
– Ну, к примеру, мне интересно, что знает мудрый Хирон о Мусорщике-Одиночке?
– То же, что и все, – что он родился. То, о чем все успели забыть, – что их двое. И то, о чем не задумывается никто, – Амфитрион самолюбив, и он не тот человек, которым можно пренебречь.
– Сейчас ты узнаешь еще кое-что, кентавр-отшельник. Этому ребенку уже приносят жертвы – в том числе и человеческие. Я видел это.
Неуловимым движением Хирон поднялся на все четыре ноги и слегка затанцевал на месте, почти не цокая копытами. Хвост кентавра хлестнул по лоснящемуся крупу, словно отгоняя назойливого слепня, сильные пальцы рук переплелись, прежде спокойное лицо потемнело, и между косматыми бровями залегла глубокая морщина.
Это длилось какое-то мгновение, после чего Хирон снова стал прежним.
Он слабо улыбнулся, как будто извиняясь, и опустился на траву.
– Ты удивил меня, Гермий. Я полагал, что разучился удивляться, и теперь могу признать свое заблуждение. Человеческие жертвы с самого детства?
– Да.
– И даже, может быть, с самого рождения?
– Об этом я не подумал, Хирон… Полагаю, что – да.
– И ты подозреваешь связь между ребенком и Тартаром?
– Подозреваю? Я уверен в этом! Любому из Семьи – кроме тебя, Хирон, но ты не причисляешь себя к Семье – когда-то приносили человеческие жертвы, и поэтому каждый из нас знает о своей связи с Тартаром и способен в случае чего воззвать к Павшим.
– Мальчик – его зовут Алкид? – не из Семьи. В лучшем случае – он полубог.
– Получеловек.
– Так говоришь ты, Гермий. Так говорят в Семье. Я же говорю по-другому. Может быть, потому, что для некоторых в Семье я сам, Хирон Пелионский, – полуконь.
– Тогда почему «в лучшем случае»? Алкид – мой брат по отцу, значит…
– Значит – или не значит. После Алкида у Младшего были дети?
– Нет.
– Почти за шесть лет – ни одного?!
– Ни одного. Но ведь папа поклялся не прикасаться больше к земным женщинам!
– Тогда это не я отшельник, а Младший. Что само по себе удивительно. Полубог, получеловек, просто человек – если в душу этого ребенка стучится Тартар… Скажи, Гермий, – мне давно не приносят жертв, тем паче человеческих, и я не припомню их вкуса – в подобных случаях ты способен закрыться и не ответить на зов Павших?
– Разумеется. Это не так уж сложно.
– Для тебя. Но не для младенца. Я хорошо знал своего отца, я знал его лучше других, как знают отцов только внебрачные дети, порождения сиюминутной страсти, – и уверен, что сам Крон, Хозяин Времени, никогда не додумался бы до такого. Это подсказали ему другие – чужаки, те, кто явился в наш мир неожиданно, кто вежливо улыбался, когда люди звали нас богами; те, кто называл себя Павшими еще до великой битвы, в которой они встали на сторону Крона-Временщика и были низвержены в Тартар вместе с ним. Да, Младший – великий боец, ибо только великий боец мог рискнуть призвать в союзники старших родичей, Сторуких, Бриарея, Гия и Котта… Только сила могла призвать силу.
Хирон помолчал.
– Ты не помнишь чужаков, Гермий, – ты родился после Титаномахии,[24] – а я помню. Они были прекрасны и…
– И ужасны одновременно. Я знаю, Хирон. Я видел лик Медузы на щите Афины. Это было именно так – прекрасный ужас. Наверное, мне попросту повезло, что я родился после… Но не время предаваться воспоминаниям, Хирон! Наши ли с тобой предки, чужаки ли, пришедшие ниоткуда, те и другие сразу – если в душу этого ребенка стучится Тартар, то ничего доброго это не предвещает. А у маленького Алкида случаются приступы безумия – болтливые няньки трезвонят об этом по всем Фивам!
– Ты пробовал говорить с отцом?
– Ха! О чем? Он и раньше-то не жаловал советчиков, а в последнее время и вовсе стал нетерпим к любому мнению, кроме собственного! Папа убежден, что приступы безумия – дело рук Геры, не любящей Алкида; и Супруга не раз получала за это добрую выволочку. Естественно, она впадала в благородное негодование, корчила из себя оскорбленную невинность – и делала это столь неумело, что я в конце концов ей поверил. Похоже, Гера действительно здесь ни при чем.
– Ты парадоксален, Гермий. Все, включая Младшего, убеждены в том, что именно ревнивая Гера насылает безумие на юного Алкида, – ты же утверждаешь, что это не так. Все уверены, что никакие жертвы, в том числе и человеческие, не помешают сыну Зевса и Алкмены стать Истребителем Чудовищ (или, если хочешь, Мусорщиком-Одиночкой), – ты же опасаешься Павших, стучащихся в дверь неокрепшей детской души. Послушай, Гермий, – зачем ты пришел ко мне? Чего ты хочешь?
– Выговориться. Ты – единственный, кто способен посмотреть на все это со стороны, без личного интереса.
– Уже нет. И мне хотелось бы знать, что ты предпримешь дальше. После того, как выговоришься и старый кентавр успеет тебе надоесть.
– Я познакомлюсь с близнецами поближе… Поближе с близнецами – фраза, достойная певца-аэда! Я попробую стать им другом, спутником, немного учителем, немного нянькой; я буду заглядывать им в глаза и вслушиваться в биение сердец, я вытру пену с губ безумного Алкида, я зайду в тайники его души, где по углам копится пыль Тартара, ночным сновидением я приникну к щеке спящего Ификла, я взвешу братьев на своих весах…
Гермий помолчал, как незадолго до того Хирон.
– И если я увижу, что они опасны, – жестко закончил он, – я убью их обоих. Что бы ни предпринял потом отец, как бы ни гневался Владыка и ни ликовали Посейдон с Герой – я убью их. Мне кажется, я единственный, кто не побоится сделать это открыто.
Хирон долгим взглядом смотрел на юное лицо Лукавого, очень похожее в этот миг на лицо его отца, Дия-Громовержца, Зевса Олимпийского, каким он был много веков назад, перед великой битвой.
– Не спеши, – наконец выговорил кентавр. – Я не советую тебе, я просто говорю: не спеши. Если бы я даже знал, что ребенок вырастет и убьет меня, то я не стал бы из-за этого убивать его – не стал бы убивать настоящее ради будущего. И вот что… Я разрешаю тебе приходить на Пелион без моего дозволения. Приходи просто так. Но только в одном случае – если ты придешь вместе с этими детьми. Договорились?
И Гермий молча кивнул.
Эписодий третий
– Душно, – с некоторым раздражением бросил Автолик, утирая лицо заранее припасенным куском ткани. – Наверное, гроза будет…
– Еще бы, – в тон ему отозвался Амфитрион, завистливо глядя на голого борца. – Гелиос, видать, взбесился… Хорошо тебе, Автолик, а мою одежду хоть выжимай! Так ведь домой голым не пойдешь…
Оба мужчины сидели на краю бордюра, окружавшего площадку для прыжков, и с вожделением косились на далекую гряду сизых туч; третий, гибкий как горный лев Кастор Диоскур, чуть поодаль возился с учебным копьем – то ли наконечник утяжелял, то ли просто так убивал время.
Из крытого гимнасия донесся сдавленный вопль.
– Поликтора поймали, – удовлетворенно сообщил Автолик, раздувая ноздри. – Эй, Кастор, слышишь – твоего любимчика лупят! Говорил же тебе вчера – отгони его от Алкида, не давай песком кормить… Вот и докормился, оболтус! Сейчас его Амфитриадики чем-нибудь похуже песочка угостят, пока Поликторова свита в умывальне плещется…
Тонкие черты лица Кастора исказила недобрая усмешка. Всякий, увидевший Диоскура впервые, рисковал недооценить белокурого красавчика, но после подобной усмешки любой предпочел бы не иметь Кастора в числе своих врагов. Вспыльчивый, гордый, постоянно пытавшийся ни в чем не уступить своему брату Полидевку – несмотря на то, что их мать, Леда-этолийка, назвала братьев «Диоскурами», то есть «юношами Громовержца», людская молва считала сыном Зевса одного Полидевка – Кастор отличался болезненным самолюбием и полным отсутствием чувства юмора.
«Поколение героев», – неожиданно вспомнил Амфитрион. Да, так не раз говаривал слепой Тиресий, когда на старика нападал очередной приступ болтливости. «Все мы, – говорил Тиресий, – поколение героев; воины, прорицатели, братоубийцы, мудрецы, безумцы, истребители чудовищ и людей – герои… Это не доблесть, не знак отличия, не привилегия – скорее это болезнь; или даже не так – это некий врожденный признак, как цвет волос или форма носа».
Герои.
Уроды?
Мост между людьми и богами?
Песнопевец Орфей, ни разу в жизни не обагривший рук чужой кровью; убийцы Пелопиды Атрей и Фиест; праведник Эак, безумец Беллерофонт, лгун Тантал, Персей-Горгоноубийца; непредсказуемый Автолик, упрямый Кастор; он сам, Амфитрион Персеид, дети его, Алкид и Ификл, воюющие сейчас с дылдой Поликтором, чья мамаша на всех перекрестках трезвонит о своем происхождении от Вакха-Диониса и в подтверждение этого увязалась бегать с менадами…
Герои?
Все?
Полубоги, боги на четверть, на треть, на одну пятую… отцы, сыновья, внуки, правнуки?
Зачем мы?
Зачем мы все?!
…За последние три года, прошедшие со дня основания новой палестры, у Амфитриона часто находилось время для размышлений. Жизнь текла размеренно и спокойно, не отягощенная происшествиями, боги забыли про семивратные Фивы, перестав баловать их своим опасным вниманием; Амфитрион был богат, знатен, прославлен и взыскан судьбой, счастлив женой и детьми, любим друзьями…
Все это было правдой.
Как правдой было еще и то, что он до сих пор не научился прощать обиды и гордиться милостью с чужого плеча, чье бы оно ни было, это плечо.
Просто Амфитрион научился жить под острием невидимого меча.
А еще он узнал о приступах безумия у Алкида – случавшихся регулярно, два-три раза в год.
Через шесть месяцев после начала занятий Алкида прихватило прямо в палестре; к счастью, это произошло почти на закате, когда, кроме задержавшихся у сломанной колесницы Амфитриона с сыновьями, вокруг никого не было. К счастью – потому что, попытавшись скрутить беснующегося Алкида, Амфитрион был отброшен в сторону, затылком ударился об угол колесничного основания и на миг потерял сознание.
Очнувшись, он увидел Ификла, склонившегося над обессиленным братом, – и не стал спрашивать, кто остановил Алкида, или того демона, что сидел в Алкиде.
С этого дня Амфитрион, подобно Алкмене, никогда не путал мальчишек, различая их мгновенно и безошибочно; и еще с этого дня он перестал приносить жертвы Гере.
«Поколение героев», – снова подумал Амфитрион.