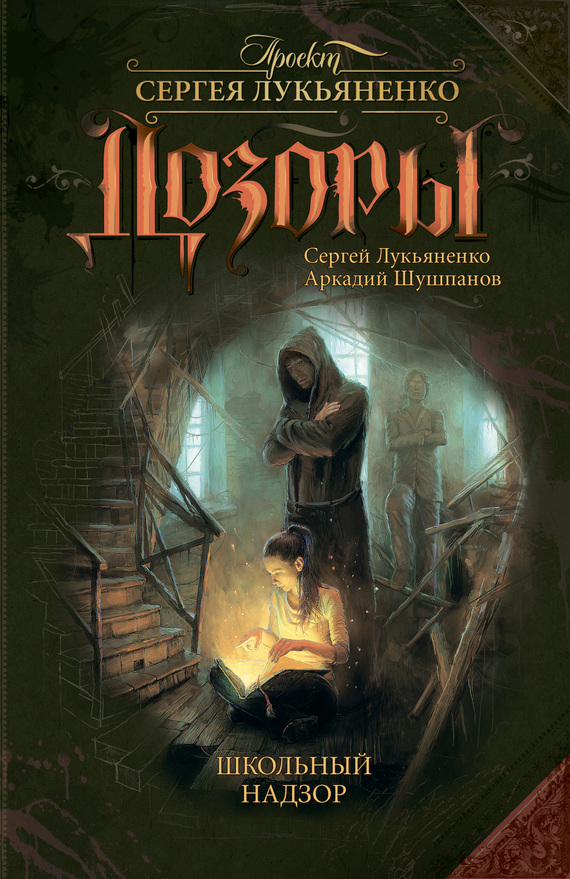И эхо летит по горам Хоссейни Халед

Я долго думал, с чего начать. Непростая задачка для человека, которому должно быть за восемьдесят. Мой точный возраст для меня загадка, как и для многих афганцев моего поколения, но я уверен в сделанном приближении, поскольку довольно живо помню драку с одним моим другом, а позднее – шурином, Сабуром, в тот день, когда узнали о том, что Надир-шаха застрелили насмерть, и о том, что сын его, юный Захир, взошел на трон. Это было в 1933 году. Я мог бы начать с тех времен. Или с других. История – она как поезд в пути: неважно, когда ты вскочил в него, рано или поздно доберешься до нужной станции. Но, думаю, стоит начать этот сказ с того, чем он закончится. Да, думаю, есть смысл подпереть эту историю Нилой Вахдати.
Мы познакомились в 1949-м, в тот год, когда она вышла замуж за господина Вахдати. Тогда я уже два года проработал на господина Сулеймана Вахдати, переехав в Кабул в 1946-м из Шадбага, деревни, где я родился: я работал год на другую семью, в том же районе. Обстоятельства моего отъезда из Шадбага – не повод для гордости, господин Маркос. Будем считать это моим первым покаянием: скажу, что душила меня жизнь, какую я вел в деревне с двумя моими сестрами, одна из них была инвалидом. Это никак меня не обеляет, но я был юн, господин Маркос, жаден до мира, полон мечтаний, пусть скромных и расплывчатых, и я представлял, как юность моя утекает, а перспективы все более сужаются. Вот и уехал. Чтобы помочь сестрам материально, да, правда. Но и чтобы сбежать.
Поскольку господин Вахдати нанял меня на полный рабочий день, я поселился у него в доме. В те дни состояние дома никак не походило на то плачевное, что вы застали, прибыв в Кабул в 2002 году, господин Маркос. Был он тогда красив и величествен. Сверкающе белый, будто усыпан алмазами. От въездных ворот вела широкая заасфальтированная аллея. Посетители попадали в прихожую с высокими потолками, украшенную высокими глиняными вазами и круглым зеркалом, вставленным в резную раму орехового дерева, – в точности на том месте, где вы ненадолго повесили старую домашнюю фотографию вашей подруги детства на пляже. Мраморный пол гостиной блестел и частично был застелен темно-красным туркменским ковром. Нет теперь того ковра, нет и кожаных диванов, кофейного столика ручной работы, шахмат из лазурита и высокого буфета красного дерева. Мало что уцелело из той шикарной мебели, и, опасаюсь, она вся не в том состоянии, что была некогда.
Впервые войдя в отделанную камнем кухню, я прямо рот разинул. Подумал, что такой кухни хватит, чтоб накормить всю мою отчую деревню Шадбаг. В моем ведении оказались: плита на шесть конфорок, холодильник, тостер, уйма кастрюль, сковородок, ножей и всяких приспособлений. Ванные комнаты – все четыре – облицованы были затейливо вырезанным мрамором и фаянсовыми раковинами. Помните такие квадратные углубления в умывальной столешнице, господин Маркос? Когда-то в них были вставлены лазуриты.
А еще был задний двор. Как-нибудь устройтесь у себя в кабинете наверху, господин Маркос, посмотрите вниз и попытайтесь представить такое. В сад можно было попасть с полукруглой веранды, огражденной балюстрадой, увитой зелеными лозами. Лужайка в те дни была сочно-зеленой, украшали ее цветочные клумбы – жасмин, шиповник, герань, тюльпаны – и окружали два ряда фруктовых деревьев. Можно было улечься под любое вишневое дерево, господин Маркос, закрыть глаза, слушать, как ветер протискивается меж листьев, и думать, что нет на земле места лучше.
Сам я обитал в хижине на задах сада. В ней было окно, чистые стены, покрашенные в белый, и молодому неженатому человеку со скромными нуждами вроде моих пространства хватало. У меня была кровать, стол и стул и в достатке места, чтобы расстилать молельный коврик пять раз в день. Меня все устраивало тогда – и устраивает теперь.
Я готовил для господина Вахдати – этому навыку я научился, сначала наблюдая за моей покойной матерью, а позднее – у престарелого узбекского повара, трудившегося в кабульской семье, где я сам работал год его помощником. К тому же я – к моему удовольствию – служил шофером господина Вахдати. Он владел моделью «шевроле» середины 1940-х, голубой, с открытым верхом, в ней были голубые виниловые сиденья в тон и хромированные колпаки, – красивая машина, притягивала взгляды, куда бы я ни ехал. Он разрешил мне водить, потому что я зарекомендовал себя осмотрительным опытным шофером, и к тому же он принадлежал к той редкой разновидности мужчин, которым не нравится управлять самим.
Пожалуйста, не подумайте, что я хвастаю, господин Маркос, когда говорю, что был хорошим слугой. Внимательным наблюдением я постиг предпочтения и неприятия господина Вахдати, его пунктики и любимые мозоли. Также я узнал его привычки и ритуалы. К примеру, каждое утро после завтрака ему нравилось прогуливаться. Однако гулять в одиночку он не любил, и от меня требовалось сопровождать его. Я, разумеется, подчинялся его желаниям, хотя и не видел смысла в своей компании. Он за всю прогулку перемолвливался со мной едва ли одним словом и будто целиком погружался в собственные мысли. Шагал он быстро, руки смыкал за спиной, кивал прохожим, и каблуки его начищенных штиблет щелкали по мостовой. А поскольку его длинные ноги отмеряли шаги, какие мне были не под силу, я все время отставал и вынужден был догонять. Остаток дня он в основном проводил наверху за чтением или игрой в шахматы с самим собой. Он обожал рисовать, хотя оценить его умений я не мог, – по крайней мере, в те времена, поскольку свои работы он мне никогда не показывал, но я частенько заставал его в кабинете у окна или на веранде, когда лоб его сосредоточенно хмурился, а угольный карандаш сновал и кружил над блокнотом для набросков.
Раз в несколько дней я возил его по городу. Раз в неделю он навещал свою мать. Бывали и семейные сборища. И хотя господин Вахдати в основном их избегал, иногда по случаю все же посещал, и я возил его на похороны, дни рождений, свадьбы. Раз в месяц мы ездили с ним в магазин художественных товаров, где он пополнял запасы пастельных карандашей, угля, ластиков, точилок и альбомов для рисования. Иногда ему нравилось забираться на заднее сиденье и просто кататься. Я спрашивал: Куда поедем, сахиб? – а он пожимал плечами, и тогда я говорил: Будь по вашему, сахиб, – переключал скорость и стартовал. Я часами кружил по городу – без цели, без причины, от одного района к другому, вдоль реки Кабул, наверх к Бала-Хиссару, иногда – ко дворцу Дар-уль-Аман. Иногда мы выезжали из Кабула и добирались до озера Карга, там я останавливал машину у воды. Глушил мотор, и господин Вахдати сидел на заднем сиденье совершенно неподвижно, не говоря мне ни слова, будто его это вполне устраивало – открутить вниз окно и смотреть на птиц, что сновали с дерева на дерево, и на прожилки солнечного света, пронизывавшие озеро и разбегавшиеся по воде тысячами крошечных прыгучих пятен. Я глядел на него в зеркальце заднего вида, а он смотрел на меня так, будто был самым одиноким человеком в мире.
Раз в месяц господин Вахдати – вполне щедро – позволял мне взять машину и съездить в Шадбаг, мою родную деревню, повидаться с Парваной и ее мужем Сабуром. Когда бы ни приезжал я в деревню, меня встречали орды вопящих детишек, они скакали вокруг машины, шлепали ее по бортам, стучали в окно. Кое-кто из этих маленьких сорванцов даже пытался забраться на крышу, и приходилось их отгонять – еще поцарапают краску или помнут бока.
Смотри-ка, Наби, – говаривал Сабур. – Ты у нас знаменитость.
Поскольку его дети – Абдулла и Пари – остались без матери (Парвана – их мачеха), я старался быть с ними внимательным, особенно с мальчиком постарше, ибо он в этом, кажется, нуждался сильнее всего. Я предлагал ему лично покататься на машине, но он всегда настаивал, что поедет с крошкой-сестрой, держа ее на коленях, покуда мы кружили по дороге вокруг Шадбага. Я позволял ему включать дворники, гудеть в клаксон. Показал, как включать фары и переводить их с ближнего света на дальний.
После того как весь этот ажиотаж вокруг автомобиля утихал, я пил чай с сестрой и Сабуром, рассказывал им про жизнь в Кабуле. Старался не слишком много вещать про господина Вахдати. Я, по правде сказать, очень его любил, потому что он хорошо со мной обращался, и говорить о нем за его спиной казалось мне предательством. Будь я менее сдержанным наймитом, я бы рассказал им, что Сулейман Вахдати – загадочное существо, человек, вроде бы довольный перспективой прожить остаток дней на богатое наследство, человек без профессии, без видимых увлечений и, судя по всему, без желания оставить по себе какой бы то ни было след в мире. Я бы рассказал им, что он проводил дни своей жизни без направления или назначения. Вроде тех бесцельных поездок, что мы с ним предпринимали. Жизнь на заднем сиденье, наблюдаемая в размазанном движении. Безразличная жизнь.
Вот что я бы им поведал – но не стал. И правильно сделал. Ибо сильно ошибся бы.
Однажды господин Вахдати вышел на двор в шикарном костюме в тонкую полоску – я у него такого раньше не видел – и распорядился отвезти его в один богатый район города. Когда мы прибыли, он велел оставить машину рядом с прекрасным домом за высокой оградой, и я видел, как он позвонил в ворота, слуга открыл ему и он вошел. Дом был огромен, больше, чем у господина Вахдати, и еще красивее. Высокие стройные кипарисы украшали подъездную аллею, а также и густые цветочные кусты, кои я не признал. Двор был в два с лишним раза больше, чем у господина Вахдати, а стены вокруг него так высоки, что даже если один человек встанет на плечи другому, вряд ли сможет заглянуть внутрь. Я догадался, что тут богатство другого масштаба.
Стоял погожий день начала лета, небеса сияли солнцем. Теплый воздух вплывал в открытые мною окна. Хоть работа шофера – вести машину, большую часть времени он проводит в ожидании. На улице рядом с магазином, на холостом ходу; рядом с залом свадьбы, слушая приглушенную музыку. Чтобы убить время, я сыграл в пару карточных игр. Потом карты меня утомили и я вышел из машины, прошелся в одну сторону, потом в другую. Опять сел внутрь и подумал, что, может, удастся вздремнуть, но тут вернулся господин Вахдати.
И вдруг ворота распахнулись и появилась черноволосая молодая женщина. На ней были очки от солнца и оранжевое платье с короткими рукавами, что оканчивалось чуть выше колен. Ноги у нее были голые, а также и босые. Не знаю, заметила ли она, что я сижу в машине, но если и заметила, никак этого не показала. Она уперлась пяткой в стену, подол ее платья чуть задрался и явил часть бедра под ним. Я почувствовал, как у меня от щек к шее растекается жар.
Позвольте сделать еще одно признание, господин Маркос, – оно отвратительного свойства и не оставляет мне пространства для антимоний. В те времена мне было к тридцати – мужчина в расцвете потребностей в женском обществе. В отличие от многих мужчин, с которыми я вырос в деревне, – молодых людей, что отродясь не видали обнаженное бедро взрослой женщины и женились отчасти ради позволения наконец обозреть эдакие виды, – у меня кое-какой опыт был. В Кабуле я нашел и иногда посещал заведения, где нужды молодых людей утолялись и конфиденциально, и с удобством. Я упоминаю это лишь для того, чтобы заявить: ни одна шлюха, с которой я когда-либо возлегал, не могла сравниться с этим прекрасным изящным существом, кое появилось из большого дома.
Опершись о стену, она зажгла сигарету и закурила – неспешно и с чарующей грацией, держа ее кончиками двух пальцев и прикрывая ладонью всякий раз, когда подносила сигарету к губам. Я завороженно вперивался в нее. Изгиб ее изящного запястья напомнил мне иллюстрацию, что я раз видал в одной глянцевой поэтической книжке: женщина с длинными ресницами и волнистыми темными волосами лежит с возлюбленным в саду и бледными хрупкими пальцами протягивает ему чашу с вином. Вдруг что-то захватило внимание женщины дальше по улице в противоположном направлении, и я воспользовался краткой паузой и причесал пальцами волосы, которые от жары уже начали слипаться. Когда она вновь обернулась, я опять замер. Она сделала еще несколько затяжек, раздавила окурок о стену и неспешно ушла внутрь.
Я наконец смог перевести дух.
Тем вечером господин Вахдати позвал меня в гостиную и сказал:
– У меня новости, Наби. Я женюсь.
Похоже, я все-таки переоценил его склонность к уединению.
Весть о его помолвке распространилась стремительно. Равно как и сплетни. Я слышал их от других работников, что посещали дом господина Вахдати. Самым говорливым оказался Захид, садовник, приходивший трижды в неделю ухаживать за лужайкой и подстригать кусты и деревья, – неприятный тип с отвратительной привычкой прицокивать языком после каждой фразы, – тем самым языком, каким он метал сплетни так же походя, как бросал горстями удобрения. Он был из тех вечных трудяг, что, как и я, работали в округе поварами, садовниками и посыльными. Один или два вечера в неделю, по окончании трудового дня, они втискивались ко мне в хижину попить чаю после ужина. Не помню, как этот ритуал возник, но, стоило ему завестись, я уже не мог его пресечь – не желал показаться грубым, или негостеприимным, или, того хуже, зазнайкой по отношению к себе подобным.
И вот однажды за таким чаем Захид сообщил остальным, что семья господина Вахдати не одобрила его брак, потому что у невесты дурной нрав. Он сказал, всем известно, что в Кабуле у нее нет ни нанга, ни намуза – нет уважительной репутации то есть, – и хоть ей всего двадцать, над ней уже «весь город потешается», как над машиной господина Вахдати. Но хуже всего вот что: он сказал, что она и не пыталась опровергать эти обвинения – она писала о них стихи. После этих слов по комнате пронесся неодобрительный ропот. Один из этих болтунов сказал, что у него в деревне за такое ей бы уже глотку перерезали.
Тут-то я встал и сказал им, что с меня хватит. Я выбранил их за то, что они сплетничают, как старухи за шитьем, и напомнил, что без таких людей, как господин Вахдати, мы и нам подобные торчали бы в своих деревнях и собирали коровий навоз. Где ваша преданность, ваше уважение? – спросил я.
На миг наступила тишина, и я решил, что произвел впечатление на этих недоумков, но тут раздался смех. Захид сказал, что я лижу господскую задницу и, может, новоявленная хозяйка дома напишет обо мне стих и назовет его «Ода Наби, лизуну многих задов». Под их рев и гогот я возмущенно вышел вон.
Но ушел я недалеко. Их сплетни и отвращали меня, и завораживали. Вопреки выказываемой праведности, вопреки всем моим разговорам об уместности и конфиденциальности, я все ж расположился так, чтобы все слышать. Не пожелал упустить ни одной мерзкой подробности.
Помолвка длилась всего какие-то дни и увенчалась не помпезной церемонией с живыми музыкантами, танцорами и всеобщим увеселением, а кратким визитом муллы и свидетеля и росписями на бумаге. И менее чем через две недели с того дня, как я впервые ее увидел, госпожа Вахдати вселилась в дом.
Позвольте мне прервать мой рассказ ненадолго, господин Маркос, и сообщить, что буду в дальнейшем именовать жену господина Вахдати Нилой. Излишне говорить, что подобных вольностей мне тогда бло не дозволено, да я бы и сам их не допустил, даже если бы мне предложили. Я всегда обращался к ней «биби-сахиб», с почтением, как и полагалось. Но для целей этого письма я отставлю этикет и стану звать ее так, как всегда о ней думал.
Итак, с самого начала я знал, что этот брак – несчастливый. Редко видел я нежные взгляды в этой паре или слышал любовное слово. Эти двое жили в одном доме, но пути их, похоже, не пересекались вовсе.
По утрам я подавал господину Вахдати его традиционный завтрак – поджаренный наан, полчашки грецких орехов, зеленый чай с чуточкой кардамона, без сахара, и одно вареное яйцо. Ему нравилось, чтобы желток вытекал, когда протыкаешь яйцо, и поначалу я никак не мог уловить точное время варки для такой консистенции и очень поэтому переживал. Пока я сопровождал господина Вахдати на ежеутренней прогулке, Нила спала, частенько до полудня или далее. К ее пробуждению у меня для господина Вахдати уже был готов обед.
Работая все утро, я мучительно ждал мига, когда Нила толкнет сетчатую дверь из гостиной на веранду. Я проигрывал в уме, как она будет выглядеть в тот или иной день. Будут ли у нее волосы подобраны кверху, гадал я, стянуты в пучок у шеи или я увижу их распущенными, ниспадающими ей на плечи? Будет ли она в очках от солнца? Выберет ли сандалии? Облачится в синюю шелковую рубаху с поясом или в малиновую с большими круглыми пуговицами?
Когда же наконец она появлялась, я находил себе занятие во дворе – делал вид, что капот автомобиля нуждается в полировке, или обнаруживал куст шиповника, который требовалось полить, – и все время глазел на нее. Смотрел, как она вздевает очки – протереть глаза – или стаскивает резинку с волос и отбрасывает назад голову – чтобы рассыпались ее блестящие темные кудри; смотрел, как она усаживается, уперев подбородок в колени, глядит в сад, вяло потягивает сигарету или закидывает ногу на ногу и болтает ступней вверх-вниз, – жест, для меня означавший скуку или беспокойство, а может, и едва сдерживаемое беззаботное лукавство.
Господин Вахдати временами сиживал с ней, но чаще нет. Большую часть дня он, как и прежде, проводил за чтением у себя в кабинете, за рисованием; его повседневных привычек женитьба почти никак не изменила. Нила обычно писала – либо в гостиной, либо на веранде: карандаш в руке, листы бумаги соскальзывают к ней на колени, всегда с сигаретой. Вечерами я подавал ужин, и ели они оба в подчеркнутой тишине, опустив глаза в тарелки с рисом, и молчание прерывалось лишь тихими «спасибо» да звяканьем вилок и ложек по фарфору.
Раз-два в неделю я возил Нилу, когда ей требовались пачка сигарет или свежий набор ручек, новый блокнот, косметика. Если знал заранее о нашем с ней выезде, я непременно причесывался и чистил зубы. Умывался и натирал резаным лимоном пальцы, чтобы вытравить запах лука, выбивал из костюма пыль и надраивал ботинки. Мой костюм – оливкового цвета – достался мне от господина Вахдати, и я надеялся, что он не сообщил этого Ниле, хотя, подозревал я, мог. Не из зловредности, а потому, что люди такого положения, как господин Вахдати, частенько не догадываются, как маленькие, обыденные вещи вроде этой могут опозорить человека вроде меня. Иногда я даже надевал каракулевую шапку, принадлежавшую моему покойному отцу. Вставал перед зеркалом и то так ее набекрень надену, то эдак, очень уж мне хотелось выглядеть представительно в глазах Нилы – настолько, что даже сядь мне оса на нос, ей пришлось бы меня ужалить, чтоб я обратил на нее внимание.
Стоило нам выехать на дорогу, как я начинал искать небольшие объездные пути до точки назначения, чтобы по возможности продлить нашу поездку, пусть на минуту или две, не более, иначе Нила бы что-нибудь заподозрила, – лишь бы побыть с ней подольше. Я вел машину, вцепившись обеими руками в руль, вперив взгляд в дорогу. Применял жесткий самоконтроль и не глядел на нее в зеркальце – кроме тех случаев, когда она обращалась ко мне сама. Я довольствовался самим фактом ее присутствия на заднем сиденье, дыханьем многих ее ароматов – дорогого мыла, лосьона, духов, жвачки, сигаретного дыма. Этого обычно хватало, чтобы меня окрылить.
В автомобиле и произошла наша первая беседа. Наша первая настоящая беседа – если не считать тот миллион раз, когда она просила притащить то или отвезти се. Я вез ее в аптеку забрать лекарство, и она сказала:
– Какая она, твоя деревня, Наби? Как она, бишь, называется?
– Шадбаг, биби-сахиб.
– Шадбаг, точно. И какая она? Расскажи.
– Да немного чего есть рассказать, биби-сахиб. Деревня, как другие.
– Ой, ну наверняка же есть какая-нибудь особенность.
Я сохранял спокойствие, хотя внутри запаниковал, пытаясь вспомнить что-нибудь эдакое – занятную странность, которая могла бы ее заинтересовать, развлечь ее. Без толку. Что мог кто-то вроде меня, деревенщина, маленький человек с маленькой жизнью, сказать исключительного, чтобы поразило такую женщину, как она?
– Виноград у нас отменный, – сказал я, но не успел я выговорить эти слова, как пожелал отхлестать по щекам себя самого. Виноград?
– Да ну, – промолвила она без выражения.
– Очень сладкий.
– А.
Изнутри я умирал тысячей смертей. Почуял, как влага начинает скапливаться у меня подмышками.
– Есть один особый сорт, – вытолкнул я из внезапно пересохшего рта. – Говорят, растет только в Шадбаге. Очень нежный, знаете ли, очень уязвимый. Если попробовать вырастить его в другом месте, хоть бы и в соседней деревне, он зачахнет и погибнет. Умрет. Он умирает от печали, говорят люди из Шадбага, но это, разумеется, неправда. Все дело в почве и воде. Но люди говорят, биби-сахиб. От печали.
– Это и впрямь мило, Наби.
Я украдкой глянул в водительское зеркало и увидел, что она смотрит в окно, а еще я обнаружил, к своему вящему облегчению, что уголки ее рта чуть приподнялись – тенью улыбки. Воодушевившись, я выпалил:
– Можно я вам еще одну историю расскажу, биби-сахиб?
– Само собой.
Щелкнула зажигалка, ко мне с заднего сиденья поплыл дым.
– У нас в Шадбаге есть мулла. В любой деревне есть, конечно. Нашего звать мулла Шекиб, и он великий рассказчик. Сколько он знает историй – уму непостижимо. Но одну он нам все время рассказывал, дескать, если взглянуть на ладони любого мусульманина – где угодно в мире, – увидишь нечто совершенно поразительное. На всех – одинаковые линии. Что это означает? Это означает, что на левой руке мусульманина линии образуют число восемьдесят один, а на правой – восемнадцать. Вычитаем восемнадцать из восьмидесяти одного и что получаем? Шестьдесят три. Возраст смерти Пророка, да пребудет он в мире.
Я услышал тихий смешок с заднего сиденья.
– Так вот, однажды шел через деревню путник и, конечно, присел с муллой Шекибом отужинать, все как полагается. Путник выслушал эту историю, поразмыслил над ней и сказал: «Мулла Шекиб, при всем уважении, я как-то встретил еврея, и, клянусь, у него на ладонях были те же линии. Как вы это истолкуете?» А мулла Шекиб отвечает: «Значит, этот еврей в душе – мусульманин».
Ее внезапный взрыв хохота заворожил меня до конца дня. Будто – да простит меня Господь за такое богохульство – этот смех спустился ко мне прямо с Небес, из сада праведных, как гласит Книга, где текут реки и вечны цветы и тень в нем.
Поймите, не одна лишь краса ее, господин Маркос, так меня чаровала, хотя и ее одной было бы достаточно. Не встречал я никогда в жизни такой девушки, как Нила. Все, что она делала, ее речи, походка, облаченья, улыбка – все для меня было в новинку. Нила шла наперекор каждому представленью, какое имел я о том, как женщина должна вести себя, и черта эта встречала стойкое неодобрение у людей вроде Захида и, конечно, Сабура, да и любого мужчины в моей деревне, и любой женщины, однако, по мне, это лишь добавляло ей шарма и загадочности.
Вот так смех ее звенел у меня в ушах, я продолжил выполнять свою работу, а позже, когда другие батраки собрались на чай, я улыбался и заглушал их гогот сладостным звоном ее смеха и гордился тем, что моя байка слегка отвлекла ее от неудовольствия, что имела она в браке. Нила – необычайная женщина, и я отправился спать той ночью, ощущая, что, быть может, и я сам не такой уж обычный. Вот какое действие она производила на меня.
Вскоре мы с Нилой уже беседовали ежедневно – как правило, поздним утром, когда она усаживалась попить кофе на веранде. Я под каким-нибудь предлогом забредал во двор и вот уж стоял, опираясь на лопату или с чашкой зеленого чая, и разговаривал с ней. Она выбрала меня, и я почел это за честь. Я не просто слуга, стало быть. Я уже поминал эту бессовестную жабу, Захида, а была еще Хазара, женщина с вытянутым лицом, прачка, приходившая дважды в неделю. Но Нила выбрала меня. Думаю, я был тот единственный человек из всех, включая ее супруга, с кем хоть немного облегчалось ее одиночество. Обычно говорила в основном она, и меня это вполне устраивало: я счастлив был служить сосудом, что принимал в себя ее истории. Она, к примеру, поведала мне об охотничьей вылазке в Джелалабад, которую предприняла вместе с отцом, и как ее неделями преследовали кошмарные виденья остекленевших глаз убитого оленя. Она рассказала, что посещала с матерью Францию, когда была ребенком, до Второй мировой. Чтобы туда добраться, они ехали на поезде и плыли на корабле. Она описала, каково это – ощущать ребрами перестук колес. А еще ей запомнились занавески, что висели на крючках, и раздельные купе, и ритмичное пыхтенье и шипенье паровоза. Рассказала мне о шести неделях, что провела год назад в Индии с отцом, когда очень болела.
По временам, когда она отвлекалась, чтобы стряхнуть пепел в блюдце, я украдкой смотрел на красный лак у нее на пальцах ног, золотистый глянец ее бритых икр, высокий свод стопы, а еще, каждый раз, – на ее полные, идеальной формы груди. Есть же на этой земле мужчина, грезил я, кто касается этих грудей и целует их, занимаясь с ней любовью. Что еще делать тебе в жизни, если достиг такого? Куда идти мужчине после того, как добрался он до вершины мира? Великим волевым усилием отводил я взгляд в безопасное место, когда она ко мне поворачивалась.
Все более обвыкаясь, во время этой нашей утренней болтовни она принялась высказывать жалобы на господина Вахдати. Однажды сказала, что считает его холодным, а временами – высокомерным.
– Он был со мной щедр, – заметил я.
Она пренебрежительно махнула рукой:
– Наби, прошу тебя. Не надо вот этого.
Я вежливо потупился. Сказанное ею не было полной неправдой. Господин Вахдати, к примеру, и впрямь имел привычку поправлять мою речь с видом превосходства, которое можно было принять – вероятно, безошибочно – за высокомерие. Иногда я входил в комнату с блюдом сладостей, ставил его перед сахибом, доливал ему чаю, сметал со стола крошки, но он обращал на меня не больше внимания, чем на муху, ползущую по сетчатой двери, и тем низводил меня до полной незначительности – не поднимая взгляда. Впрочем, если вдуматься, это все мелочи, если учесть, что знавал я людей, живших по соседству, на которых я когда-то работал, – они били своих слуг палками и ремнями.
– В нем нет никакой веселости, никакого авантюризма, – сказала она, уныло помешивая кофе. – Сулейман – угрюмый старик в силках юного тела.
Я слегка опешил от такой внезапной прямоты.
– Это правда, что господину Вахдати поразительно уютно его уединение, – сказал я, выбрав в пользу осторожной дипломатичности.
– Может, ему лучше жить с матерью. Как думаешь, Наби? Они отличная пара, ей-ей.
Мать господина Вахдати была грузной, довольно чопорной женщиной, обитала в другой части города – с непременной свитой слуг и двумя обожаемыми собаками. Над этими собаками она тряслась и обращалась с ними не как с равными ее слугам, а ставила их рангом выше – и не одним. Собаки те были маленькими, лысыми, отвратительными существами, пугливыми, беспокойными, и их постоянно сносило на дребезжащий визгливый лай. Я терпеть их не мог, потому что не успевал войти в дом, как они прыгали мне на ноги и бестолково пытались по ним взобраться.
Мне было ясно, что всякий раз, когда отвозил я Нилу и господина Вахдати в дом к старухе, воздух на заднем сиденье тяжелел от напряжения, и я видел по обиженной нахмуренности Нилы, что они ссорились. Помню, когда мои родители ругались, они не успокаивались, пока не объявится бесспорный победитель. Таким способом они закупоривали размолвки, законопачивали их приговором, чтобы те не просачивались в спокойное течение следующего дня. У Вахдати было иначе. Их ссоры не заканчивались, а, скорее, рассасывались, будто капля чернил в чаше с водой, но поволока оставалась.
Не нужно никакой интеллектуальной акробатики, чтобы предположить, что старуха союз не одобрила, а Нила об этом знала.
Мы с Нилой вели эти разговоры, а у меня в голове раз за разом всплывал один и тот же вопрос. Почему она вышла замуж за господина Вахдати? Чтобы задать его вслух, мне недоставало храбрости. Подобный переход границы приличий был моей натуре противен. Я мог лишь предположить, что для некоторых людей, особенно для женщин, брак – даже такой несчастливый, как этот, – побег от еще большего несчастья.
Однажды, осенью 1950-го, Нила призвала меня к себе.
– Отвези меня в Шадбаг, – сказала она. Сказала, что хочет проведать мою семью, повидать места, откуда я родом. Сказала, что я подаю ей еду и вожу ее по Кабулу уже год, а она обо мне почти ничего не знает. Ее просьба, мягко говоря, смутила меня – столь необычно для человека ее положения просить отвезти ее куда-то и познакомить с семьей слуги. В равной мере меня воодушевил столь острый интерес Нилы ко мне, однако я с тревогой ожидал, сколько переживу неловкости и стыда, когда покажу ей нищету моей родины.
И вот в одно пасмурное утро мы отправились в путь. На ней были шпильки и персиковое платье без рукавов, но я не счел возможным для себя что-либо ей советовать. По дороге она спрашивала про деревню, о знакомых мне людях, о моей сестре и Сабуре, об их детях.
– Назови мне их имена.
– Ну, – начал я, – есть Абдулла, ему почти девять. Его родная мать умерла в прошлом году, он пасынок моей сестры Парваны. У него есть сестра Пари, ей почти два. Парвана родила мальчика прошлой зимой, звали его Омар, но он умер двухнедельным.
– Что случилось?
– Зима, биби-сахиб. Она сходит на деревни и забирает одного-двух детей каждый год. Остается лишь надеяться, что в этом году твой дом она не тронет.
– Боже, – пробормотала она.
– Если же о радостном, – сказал я, – сестра опять беременна.
В деревне нас по традиции встретила ватага босоногих детей, понесшихся за машиной, однако стоило Ниле выбраться с заднего сиденья, как дети умолкли и сдали назад – может, испугавшись, что она их сейчас отругает. Но Нила проявила великое терпение и доброту. Присела на корточки, улыбнулась, поговорила с каждым, пожала им руки, потрепала по замурзанным щекам, поворошила немытые патлы. К моему смущению, вокруг начали собираться люди. Байтулла, друг детства, смотрел с края крыши, присев на корточки вместе со своими братьями, точно стая ворон, и все жевали насвай. А отец его, сам мулла Шекиб, и трое других белобородых мужчин сидели в тени под стеной, лениво перебирали четки и с неудовольствием вперяли в Нилу и ее голые руки свои безвозрастные взоры.
Я представил Нилу Сабуру, и мы в сопровождении толпы зевак двинулись к их с Парваной глинобитной хижине. На пороге Нила настояла на том, что снимет туфли, хотя Сабур сказал ей, что в этом нет нужды. Когда вошли в комнату, я увидел Парвану – она молча сидела в углу, свернувшись в застывший клубок. Она поприветствовала Нилу еле слышно, почти шепотом.
Сабур вскинул брови на Абдуллу:
– Неси чай, малец.
– Нет-нет, что вы, – сказала Нила, усаживаясь на пол рядом с Парваной. – Это лишнее.
Но Абдулла уже исчез в соседней комнате, что, я знал, служила и кухней, и спальней ему и Пари. Полог мутного целлофана, прибитый к дверному косяку, отделял ее от той, где мы собрались. Я сидел, теребил ключи от машины и жалел, что не было возможности предупредить сестру об этом визите, дать ей время хоть немного прибраться. Растрескавшиеся глинобитные стены почернели от сажи, драный матрас под Нилой покрыт пылью, одинокое окно в комнате обсижено мухами.
– Милый ковер, – сказала Нила жизнерадостно, ведя по нему пальцами. Ярко-красный, с узором из отпечатков слоновьих ног. То был единственный предмет из всего, чем владели Сабур с Парваной, имевший хоть какую-то ценность, но и его продадут, как потом окажется, той же зимой.
– Это моего отца, – сказал Сабур.
– Туркменский?
– Да.
– Я так люблю овечью шерсть, которую они используют. Потрясающее мастерство.
Сабур кивнул. Он ни разу не взглянул в ее сторону – даже когда говорил с ней.
Зашуршал целлофан: Абдулла вернулся с подносом, уставленным чашками, опустил его на пол перед Нилой. Налил ей и сел, скрестив ноги, напротив. Нила попыталась с ним заговорить, подбросив несколько простых вопросов, но Абдулла лишь кивал бритой головой, бормотал одно– или двухсложные ответы и насупленно пялился на нее. Я сделал в уме зарубку: поговорить с мальчиком, мягко укорить его за такое поведение. Скажу по-дружески, он мне очень нравился – такой был серьезный и самостоятельный.
– На каком вы месяце? – спросила Нила Парвану.
Сестра склонила голову и ответила, что ожидает ребенка зимой.
– Такая благодать вам, – сказала Нила, – вы ждете ребенка. И такой у вас вежливый пасынок. – Она улыбнулась Абдулле, но у того лицо ничего не выразило.
Парвана пробормотала нечто, смахивавшее на «спасибо».
– А есть ведь еще и малышка, если я правильно помню? – спросила Нила. – Пари?
– Она спит, – буркнул Абдулла.
– А. Я слыхала, она прелесть.
– Иди за сестрой, – сказал Сабур.
Абдулла помялся, переводя взгляд с отца на Нилу, после чего встал и с очевидной неохотой пошел за Пари.
Если б было у меня хоть какое-то желание – даже в этот поздний час – как-то оправдать себя, я бы сказал, что связь между Абдуллой и его младшей сестренкой была обыкновенной. Но это не так. Никому, кроме Господа, неведомо, отчего эти двое выбрали друг друга. Загадка. Такого притяжения между людьми я не видал никогда. По правде сказать, Абдулла для Пари был в той же мере отцом, в какой и братом. Во младенчестве, когда она плакала по ночам, он соскакивал с койки и укачивал ее. Он сам взял на себя обязанность менять ей испачканные простынки, пеленать ее, убаюкивать. Его терпение с нею не имело границ. Он носил ее с собой по деревне и показывал всем, будто она – самая желанная в мире награда.
Когда он принес еще сонную Пари в комнату, Нила попросила разрешения взять ее на руки. Абдулла вручил сестру, состроив подозрительную мину, будто сработал в нем какой-то инстинктивный сигнал тревоги.
– Ах, какая лапочка, – воскликнула Нила, а ее неловкие покачивания выдали в ней неопытность обращения с малышами.
Пари изумленно поглядела на Нилу, перевела взгляд на Абдуллу и заплакала. Он быстро забрал сестру у Нилы.
– Какие глаза! – сказала Нила. – А какие щечки! Ну не милашка ли, Наби?
– Это точно, биби-сахиб, – сказал я.
– И имя у нее идеальное – Пари. Она и впрямь красавица – как фея.
Абдулла смотрел на Нилу, качал Пари на руках, лицо у него затуманилось.
На пути в Кабул Нила развалилась на заднем сиденье, упершись головой в стекло. Долго она молчала. И вдруг зарыдала.
Я съехал на обочину.
Не скоро она заговорила. Плечи у нее тряслись, она всхлипывала в ладони. Наконец высморкалась в платок.
– Спасибо, Наби, – сказала она.
– За что, биби-сахиб?
– За то, что свозил меня. Это большая честь – познакомиться с твоей семьей.
– Это им честь. И мне. Вы нас почтили.
– Чудесные у твоей сестры дети.
Она сняла очки и промокнула глаза.
Я мгновенье раздумывал, что делать дальше, поначалу решив помолчать. Но она же плакала при мне, и эта доверительность требовала теплых слов. Я тихонько сказал:
– У вас будет сын, биби-сахиб. Иншалла, Господь о том позаботится. Подождите.
– Вряд ли Он позаботится. Даже Он не может.
– Конечно, сможет, биби-сахиб. Вы так юны. Если будет на то Его желание, все случится.
– Ты не понимаешь, – сказала она устало. Никогда я не видел ее такой утомленной, опустошенной. – Все исчезло. Они все из меня выцарапали в Индии. Я порожняя внутри.
Нечего мне было на это ответить. Я мечтал перелезть к ней на заднее сиденье, обнять, успокоить поцелуями. Сам не зная, что делаю, я потянулся к ней и взял за руку. Подумал, она выдернет ладонь, но ее пальцы благодарно сжали мои, и так мы сидели в авто, глядя не друг на друга, а лишь на равнины вокруг, желтые, чахлые, по всему окоему, насупившиеся дренажными канавами, проткнутые кустами да камнями, с возней какой-то жизни там и сям. Я держал Нилу за руку и смотрел на горы и столбы электропередач. Проследил глазами за грузовиком, тащившимся вдали, за хвостом его выхлопа – я счастлив был бы сидеть так до самой темноты.
– Отвези меня домой, – наконец сказала она, выпуская мою руку. – Хочу лечь сегодня пораньше.
– Да, биби-сахиб.
Я откашлялся и слегка неверной рукой включил первую передачу.
Она отправилась к себе в спальню и не выходила оттуда несколько дней. Такое случалось и раньше. Временами она подтаскивала кресло к окну своей спальни наверху, усаживалась, курила, болтала ногой и равнодушно глазела наружу. Не разговаривала. Не вылезала из ночной рубашки. Не мылась, не чистила зубы, не причесывалась. На сей раз она даже не ела, и вот это вызвало у господина Вахдати не свойственную ему тревогу.
На четвертый день раздался стук в ворота. Я открыл высокому пожилому человеку в безупречно отутюженном костюме и сияющих штиблетах. Было нечто внушительное и довольно отталкивающее в его манере угрожающе нависать и в его взгляде, что проницал насквозь, а также в том, как он держал полированную трость двумя руками, будто скипетр. Он не успел произнести и слова, а я уже почуял, что передо мной человек, привыкший повелевать.
– Насколько я понимаю, дочь моя приболела, – сказал он.
Вот, значит, ее отец. Мы прежде никогда не встречались.
– Да, сахиб. Боюсь, что так, – ответил я.
– Тогда прочь с дороги, молодой человек.
Он протиснулся мимо меня.
Я нашел себе занятие в саду – взялся колоть дрова для плиты. С того места, где я работал, отлично просматривалось окно Нилиной спальни. За стеклом показался ее отец, согнутый в талии, склонившийся к Ниле, одной рукой он сжал Ниле плечо. На лице у нее возникло такое выражение, какое бывает у людей, если их вдруг пугает внезапный громкий звук – вроде петарды или двери, хлопнувшей от порыва ветра.
В тот вечер она поела.
А несколько дней спустя Нила призвала меня в дом и сообщила, что собирается закатить гулянку. Когда господин Вахдати был холост, мы почти никогда не устраивали сборищ у себя. Нила же, переехав, устраивала их два-три раза в месяц. За день до празднества Нила выдавала мне подробные инструкции, какие закуски и блюда мне предстоит готовить, и я отправлялся на рынок за всем необходимым. Главным среди этого необходимого был алкоголь, и я его никогда раньше не приобретал, поскольку господин Вахдати не пил – отнюдь не по религиозным соображениям, а просто потому, что ему не нравились последствия. Нила же, напротив, хорошо знала некие заведения – «аптеки», как она их шутливо именовала, – где за двойной эквивалент моей месячной зарплаты можно было купить из-под полы бутылку «лекарства». У меня по поводу этого поручения были смешанные чувства: получалось, что я – пособник греховодства, но, как всегда, возможность порадовать Нилу перевешивала все остальное.
Важно понимать, господин Маркос, что гулянья у нас в Шадбаге – хоть свадьбу мы праздновали, хоть обрезание – происходили в двух раздельных домах, один для женщин, другой для мужчин. На праздниках у Нилы мужчины и женщины общались вперемешку. Большинство женщин одевались, как Нила, – в платья, обнажавшие руки целиком и значительную часть ног. Эти женщины курили и пили, и в бокалах у них плескались напитки бесцветные, или красные, или медного оттенка; женщины рассказывали анекдоты, смеялись и касались рук мужчин, женатых, насколько я знал, на других женщинах, тоже присутствовавших в комнате. Я носил маленькие блюда с болани и люля-кебабами с одного конца прокуренной комнаты до другого, от одной группки гостей до другой, а проигрыватель крутил пластинки. Не афганскую музыку, а нечто, называемое Нилой «джазом», – такая музыка, узнал я много лет спустя, нравится и вам, господин Маркос. На мой слух эти случайные треньканья пианино и странный вой труб казались мешаниной, лишенной гармонии. Но Ниле нравилось, и я не раз слышал, как она говорит гостям, что им просто необходимо послушать ту или иную запись. Весь вечер она не расставалась с бокалом и уделяла ему куда больше внимания, чем еде, которую я подносил.
Господин Вахдати для развлечения гостей прикладывал довольно скромные усилия. Делал вид, что светски общается, но чаще сидел в углу с отстраненным выражением лица, крутил в стакане минералку, а если кто-нибудь к нему обращался, улыбался вежливо, но зубов не обнажал. Имел привычку удаляться, когда гости начинали просить Нилу почитать ее стихи.
Я особенно любил эту часть вечера. Стоило ей начать, я всегда находил, чем себя занять, лишь бы оставаться поблизости. Я замирал с полотенцем в руке и напрягал слух. Стихи Нилы не походили ни на что из того, на чем я вырос. Как вам хорошо известно, мы, афганцы, обожаем свою поэзию; даже самые необразованные из нас могут прочесть наизусть из Хафиза, Хайяма или Саади. Помните, господин Маркос, вы говорили мне в прошлом году, как сильно любите афганцев? И когда я спросил, за что, вы рассмеялись и ответили: Потому что даже ваши уличные граффитисты разбрызгивают по стенам Руми.
Но стихи Нилы пренебрегали традицией. Они не следовали никакому заданному размеру или рисунку рифмы. Не живописали они и привычных вещей – деревья, весенние цветы или бюльбюлей. Нила писала о любви, и под любовью я не имею в виду суфийские алканья Руми или Хафиза, а вполне физическую любовь. Она писала, как шепчутся любовники на одной подушке, прикасаясь друг к другу. Она писала об удовольствии. Я никогда не слышал, чтобы женщины так выражались. Я стоял и слушал, как хрипловатый голос Нилы вплывает в прихожую, закрывал глаза, а уши у меня горели: я представлял, что она читает их мне и это мы – любовники из ее стихов, – покуда кто-нибудь не просил чаю или яичницы, и лишь тогда развеивались чары, Нила звала меня, и я бежал на ее зов.
Той ночью стих, который она выбрала прочесть, поймал меня врасплох. Он был о человеке и его жене, деревенских, о том, как оплакивают они младенца, коего отняла зимняя стужа. Гостям, похоже, стихотворение понравилось – судя по их кивкам и одобрительному бормотанию, а также по сердечным аплодисментам после того, как Нила оторвала взгляд от страницы текста. И все же я почувствовал удивление и разочарование: горе моей сестры использовали для развлечения гостей, и я никак не мог стряхнуть некое смутное чувство совершенного предательства.