Железный Совет Мьевиль Чайна
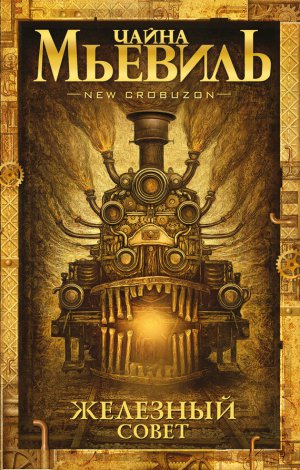
Иуде лезут в голову песенки о Ткачах. Страшилки для детей вроде: «Сказал он мне: «Считай, она твоя», но задушил, и вот она ничья. Паук, паук, паук-свинья» – и прочие балаганные дурачества. Но, глядя на это существо на гребне холма, источающее несвет – или это свет? – Иуда понимает, что все известные ему песни не имеют смысла и ничего не объясняют.
Паук завис в сложной неподвижности. Черная, как смоль, капля тела, ни одного светлого пятнышка на голове. Четыре длинные изогнутые лапы упираются в землю острыми кинжалами-когтями, еще четыре, покороче, подняты вверх и застыли в воздухе, словно паук находится в центре паутины. Длиной он в десять, а то и двенадцать футов, и – что это? – он поворачивается, поворачивается медленно, плавно, точно спускается на паутинке, и все вокруг замирает. Иуда чувствует, как его тянет вперед, словно весь мир опутан паутиной и паук с каждым движением подтягивает ее к себе.
Униженный всхлип вырывается из горла Иуды. Это невидимые путы Ткача исторгают его. Всхлип – что-то вроде дани непроизвольного восхищения.
Склон холма усыпан мужчинами и женщинами с железной дороги: они стоят, как приклеенные, и смотрят, некоторые пытаются убежать, иные глупцы стараются подобраться поближе, точно к алтарю, но большинство просто стоит и смотрит, как Иуда.
– Не трогайте его, не подходите близко, это же чертов Ткач, – кричит кто-то далеко внизу.
Громадный паук поворачивается. Камни продолжают петь, и Ткач вместе с ними.
Его голос идет из-под камней. Он точно трепет в пыли.
– …РАЗ И РАЗ И РАЗ И ДВА КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ СИНЬ ЧЕРНЫЙ СГИНЬ КОЧКОРЕЗЫ ТРАЛИТЬ РВИ ВРИ ВИРА ЛИРА И КОНТРАКТ МОИ ШПАЛЫ ЗАПОЗДАЛЫЙ ДЕТКИ КЛЕТКИ КАМНЕТЕС И ПЯТИЛЕТКА ТВОЙ ЗВУК МЕДЛЕННЫЙ ЛОВУШКИ СТУК РИТМ В ОРУДИИ И КАМНЕ…
Голос превращается в ритмичный лай, от которого подпрыгивают мелкие камешки.
– …ЖРИ РИТМ ЖРИ ЗВУК ДАЙ ПУЛЬС СЕРДЦА СТУК МАГ…
Мысли и структура вещей пойманы в ловушку и втягиваются в Ткача.
– …ТОЧИ И ТРИ ЛЮБИ ЗАБУДЬ ЧТО БЫЛО ЗАБУДЬ ЗАБУДЬ ТЕБЯ ЗОВУТ РАКА-МАДЕВА РАКОМ ДЕВА ОТСКОЧИ ТОРЧИ НАПЕРЕКОР ТОМУ ЧТО БУДЕТ СТРОЙ…
Ткач поджимает передние лапы и тут же роняет их, слегка пошатнувшись, а сам все пухнет и продолжает впитывать свет, пока Иуде не начинает казаться, что и он сам, и земля под его ногами, и дающие ему опору чахлые деревца – это всего лишь старый выцветший гобелен, по которому бежит живой паук.
Одну за другой поднимая острые, точно ножи, лапы, Ткач приближается к краю пропасти и танцует вдоль него, с хитроватой игривостью оборачиваясь, чтобы взглянуть черными созвездиями яйцевидных глаз на обесцвеченных мужчин и женщин, которые крадутся за ним. При каждом повороте его головы они застывают и отшатываются, но стоит ему отвернуться и продолжить путь, как они снова тащатся за ним, словно привязанные.
Тварь соскальзывает с края утеса, и люди бегут смотреть, как огромный паук неверной походкой, словно идущая на шпильках девушка, ковыляет по отвесной стене. Он разгоняется, бежит, нелепо колышась всем телом, во весь опор несется к мосту, к балкам и фермам, пронзающим скалу на полпути ко дну ущелья, и вдруг прыгает и оказывается на недостроенном мосту, где, уменьшенный расстоянием, сначала вертится вокруг своей оси, кувыркается, а потом, будто колесо без обода, легко вкатывается туда, где днем мартышками висят и трудятся переделанные.
– …ЛОМАЙ ЛОМАЙ… – Голос паука слышен так ясно, как будто он стоит рядом с Иудой. – ЖМИ КИСТЬ ДЫХАНЬЕ ЗАДЕРЖАВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЖДУТ ДЬЯВОЛЫ ДВИЖЕНЬЯ ВОСХИЩЕНЬЯ ПОХИЩЕНЬЯ СТРОЙ ПОСТРОЙ БАШНИ ВЗДОХ ВЫСОК КУРС НА ЗВЕЗДУ И ЧИСТ ТЫ ПРЕКРАСЕН ВО ВРЕМЕНИ ТОМ РАВНИННЫЙ ПАРА ЧЕЛОВЕК…
Внезапно Ткач исчезает, и рассеянный ночной свет снова заливает взор Иуды. Ткач исчезает, но пятно в форме паука еще долго стоит перед глазами людей, прежде чем они понимают, что на мосту никого нет, и, отвернувшись, расходятся. Кто-то плачет.
На следующий день нескольких человек находят мертвыми. Они лежат, глядя бесцветными глазами в ткань палатки или в небо, и тихо, радостно улыбаются.
Один старый сумасшедший прошел со строителями много миль, молча наблюдая за тем, как орудуют кувалдами молотобойцы и продают забвение шлюхи, и стал чем-то вроде полкового знамени, талисмана удачи. После паука он вдруг забрался на гору над устьем тоннеля и сначала понес какую-то тарабарщину, а потом заговорил нормально. Он объявил себя пророком паука, а рабочие, хотя и не повиновались его приказам, все же поглядывали на старика с уважением.
Вот старик проходит меж вынужденно бездействующими путейцами, кричит строителям тоннеля, чтобы они бросали заступы и голышом бежали на север, в неизведанные земли. Он велит им совокупляться с пауками в пыли, ведь на рабочих – обрывки пряжи паука. Они – это новая раса.
– Мы видели Ткача, – говорит Иуда. – Не многим выпадает такое. А мы видели.
На следующий день забастовку объявляют женщины.
– Нет, – говорят они мужикам, которые подходят к палаткам и пялятся на них, ничего не понимая. Женщины встречают их с оружием в руках: они теперь сами себе милиция, патрули в драных юбках.
Женщин несколько десятков, и они полны такой решимости, что самим удивительно. Гонят прочь всех подряд: молотобойцев, проходчиков, жандармов. Те, получив от ворот поворот, не уходят. Возникает стихийная демонстрация протеста мрачных, изголодавшихся по ласке мужчин. Поднимается ропот. Одни отходят подрочить за скалы, другие просто отступают. Но не все.
Две толпы пылят, сойдясь вплотную. Приходят жандармы, но что делать, не знают: женщины ничего не нарушают, просто отказывают мужчинам, а те просто ждут.
– Нет монет – ласки нет, – говорит Анн-Гари. – Нет монет – ласки нет, нет монет – ласки нет.
– Авансом больше не даем, – говорит она Иуде. – С тех пор как мы здесь, а денег нет, все они ходят и ходят к нам в кредит. И свои, и жандармы, а теперь еще и новенькие. А эти женщин давно не видели; от них потом все болит, Иуда. Приходят и говорят: «Запиши на мой счет, девочка», и ведь не откажешь, хотя и знаешь, что они никогда не заплатят. Кира глаз потеряла. Приходит к ней один проходчик – запиши, мол, на мой счет, она отказалась, а он ей кулачищем как двинет, глаз-то и вон. Белладонне руку сломали. Так что нет монет – ласки нет, Иуда. Теперь деньги только вперед.
Женщины защищают Потрах. На улицах патрули с дубинками и стилетами; есть и передний край. За детьми присматривают по очереди. Наверняка не все женщины рады такому повороту событий, но несогласные молчат из солидарности. Анн-Гари и другие покачивают юбками и хохочут на глазах у мужчин. Иуда не единственный друг разъяренных шлюх. Он, Шон Саллерван, Толстоног и еще несколько человек наблюдают за ними.
– Да ладно вам, девчонки, что вы затеяли? – говорит, улыбаясь, один бригадир. – В чем проблема? Чего вы добиваетесь? Вы нужны нам, красотки.
– Все, Джон, больше вы нас не обманете, – отвечает Анн-Гари. – Хватит обещаний. Платите, а до тех пор никаких ласк.
– Нет у нас денег, Анн, ты же знаешь, лапушка.
– Не наша проблема. Пусть ваш Правли вам заплатит, тогда и мы… – И она виляет бедрами.
В ту ночь кучка мужчин, то ли обозленных, то ли навеселе, пытается проложить себе путь сквозь кордон, но женщины набрасываются на них и избивают с такой яростью, что те отступают, прикрывая разбитые головы руками, вопя не только от боли, но и от изумления.
– Ах ты, стерва такая! – кричит один. – Ты мне башку разбила, стерва, дрянь!
Женщины не пускают к себе мужчин и на следующий день, и это уже не выглядит забавным. Один вытаскивает из штанов свой член и трясет им со словами:
– Платы захотели? Ну так я вам заплачу. Нате, подавитесь, грязные шлюхи, вам бы только деньги загребать!
В толпе мужчин есть такие, кто искренне любит своих спутниц по долгому пути, и они быстро затыкают наглецу рот, но кое-кто радостно хлопает.
– Деньги получите – добро пожаловать, – отвечают женщины. – Вопросы не к нам, ублюдки озабоченные.
Попытка проникнуть в лагерь силой повторяется. На этот раз заводилами становятся проходчики. Они собираются карать и насиловать. Но затея не удается: женщины-переделанные, посланные полоскать белье возле Потраха, поднимают тревогу. Они замечают крадущихся мужчин и начинают визжать; те бросаются на женщин, чтобы заткнуть им рты. Тут на помощь прибегает отряд проституток.
В потасовке несколько мужчин получают удары кинжалами, какой-то женщине разбивают лицо, а когда проститутки одолевают непрошеных гостей, одну из переделанных обнаруживают лежащей без сознания: она контужена, из головы течет кровь. Нормальные женщины, помешкав немного, относят ее в свой лагерь, чтобы оказать помощь.
Утром объявляют забастовку проходчики. Они собираются у входа в тоннель. Бригадиры сбегаются на торг. Рабочие выдвигают своего переговорщика: тощего мужчину, несильного геомага, чьи ладони почернели от базальта, который он превращает в жидкую грязь.
Он говорит:
– Мы войдем внутрь, когда девчонки снова пустят нас внутрь.
Его люди смеются.
– У нас тоже есть потребности, – добавляет он.
Проститутки и проходчики заявили о своих требованиях. Землекопы работать не хотят, путеукладчики не могут, вот они и сидят на солнышке, дуются в кости да карты или дерутся. В лагере становится небезопасно, как в степях. Вечный поезд стоит. Жандармы и бригадиры совещаются. Идет теплый дождь, от которого не становится свежее.
– Сношайтесь с пауками, – вещает сумасшедший старик. – Пришло время перемен.
Все тихо. Только строительство моста идет своим чередом, но теперь по вечерам рабочие, закончив трудиться, пересекают ущелье, чтобы своими глазами взглянуть на забастовку. Они приходят – колючие хотчи, тренированные и обузданные переделкой обезьяны, переделанные люди с телами приматов. Они хотят видеть бунт и ходят от одного края ущелья к другому.
Газетчики с вечного поезда, которые посылают свои истории в город с оказиями, внезапно получают новую тему для освещения. Один из них делает гелиотип женского пикета.
– Не знаю, что и написать, – жалуется он Иуде. – В «Перебранке» не приветствуют статей о шлюхах.
– Сохрани столько пластин, сколько сможешь, – советует ему Иуда. – Такое не следует забывать. Это важно.
На самом деле это выросшая в нем странная тварь, святое нутро Иуды глаголет через него. При мысли о том, что он слышит голос этого существа, Иуда на мгновение лишается дара речи.
– Все мы дети паука, – вещает старый сумасшедший.
На скалах находят переписанные вручную экземпляры «Буйного бродяги».
Это не три забастовки, и даже не две с половиной. Это одна стачка, против общего врага и с общей целью. Женщины нам не противницы. Их не в чем винить. Нет монет – ласки нет, говорят они нам: так пусть это станет и нашим девизом! Мы не уложим больше ни одной шпалы, ни одного рельса, пока обещанные нам деньги не станут нашими. Они начали, мы подхватим. Наш девиз: «Нет монет – ласки нет!»
Как только надсмотрщики понимают, что мужчины и женщины не перестанут бастовать, сломив друг друга взаимными обвинениями, наступает перемена. Иуда чувствует это, когда замечает, как с новой деловитостью начинают сновать туда-сюда бригадиры.
Уже становится жарко; Иуда обливается потом, когда идет, не позавтракав, вместе с другими праздными рабочими к устью тоннеля. Проходчики выстраиваются в боевом порядке, вскинув на плечо заступы. Перед ними встают жандармы и бригадиры с отрядом переделанных в цепях.
– Ну давайте, подходите, – говорит один из надсмотрщиков.
Иуда его знает: им всегда прикрываются, когда нужно принять непопулярные меры. Появляется делегация проституток – двенадцать женщин во главе с Анн-Гари. Проходчики начинают выкрикивать обидные слова. Женщины молчат и только смотрят. Позади них, точно бык, сопит поезд.
Надсмотрщик выходит вперед и останавливается напротив переделанных. Повернувшись к забастовщикам спиной, он разглядывает разношерстную толпу существ, снабженных излишками металла и чужой плоти. Иуда замечает, как Анн-Гари шепчет что-то Толстоногу и еще одному мужчине, а те кивают, не оборачиваясь. Взгляды обоих устремлены к переделанным. Один из них – мужчина с резиновыми трубками, выходящими из тела и вновь входящими в него, – ловит взгляд Толстонога и едва заметно склоняет голову. Рядом с ним – совсем молодой парень, из шеи которого растут хитиновые ноги.
– Берите заступы, – командует бригадир переделанным. – И марш в тоннель, камни дробить. Указания получите на месте.
Ответом ему – молчание и неподвижность. Между переделанными и бастующими вклиниваются жандармы.
– Берите заступы. В тоннель – шагом марш. Копать до конца. Тоннель должен быть пройден.
И снова все молчат. Люди с вечного поезда знают, как используют рабочую силу переделанных, и многие начинают заранее кричать: «Штрейкбрехеры, подонки». Но крики скоро стихают, потому что никто из переделанных не трогается с места.
– Берите заступы.
Когда и на третий раз никто не подчиняется, надсмотрщик берется за хлыст. Тот со свистом взвивается в воздух и опускается. Раздается крик, и один из переделов падает, закрывая окровавленное лицо.
Раздаются испуганные крики, некоторые переделанные начинают двигаться, но кто-то из них отдает негромкий приказ, и все остаются на своих местах, кроме одного, который срывается с места и бежит к устью тоннеля с воплем:
– Я не хочу и не буду, вы меня не заставите, это дурацкий план!
Никто на него не смотрит, и он скрывается в темноте. Юноша с тараканьими ногами на шее дрожит и упорно не отрывает глаз от земли. За его спиной человек с трубками что-то говорит.
– Берите заступы.
Надсмотрщик надвигается на переделанных.
Что-то вскипает внутри Иуды. Вокруг него поднимаются ропот и гнев.
– Берите заступы, или мне придется вмешаться и обезвредить смутьянов. Заступы берите и в тоннель, а не то…
Люди начинают кричать, но голос надсмотрщика перекрывает их крики.
– А не то мне придется принять меры против…
Нарочито медленно он обводит взглядом объятых страхом переделов, одного за другим, долго смотрит на человека с трубками, единственного, кто не отводит глаз, а потом хватает дрожащего парнишку, который кричит и вырывается.
– А не то мне придется принять меры против этого заводилы, – заканчивает надсмотрщик.
Мгновение никто в толпе не произносит ни звука. Тогда надсмотрщик жестом подзывает к себе двоих жандармов, и толпа тут же взрывается воплями, а жандармы сбивают парня с ног.
И, как это бывало, когда пели копьеруки, Иуда видит сгустившееся время. Он наблюдает, как опускаются полицейские дубинки, как юноша неумело прикрывает руками свою голову и хитиновые ножки. Он успевает проследить полет птиц над собравшимися здесь, успевает разглядеть все лица в толпе, ставшие вдруг неодолимо притягательными.
Все поражены и заворожены происходящим. Передел с трубками, который опекал парнишку, стоит, стиснув зубы. Укладчики, напротив, разинули рты от жалости, а проходчики из-под прикрытия скалы смотрят с тупым недоумением, даже страхом, и повсюду, куда ни посмотрит Иуда, пока защелкиваются наручники и жандармы сдерживают толпу, он видит колебание. Все напряженно колеблются, глядят друг на друга, на воющего парнишку, на палки, снова друг на друга; колеблются даже жандармы, все медленнее нанося удары, а их коллеги неуверенно поднимают оружие. Нарастают голоса.
Иуда замечает Анн-Гари: подруги держат ее, а та царапает ногтями воздух с таким видом, будто вот-вот умрет от ярости. А люди кругом подавляют дрожь, точно перед прыжком в ледяную воду, и всё переглядываются, выжидая, и тут Иуда чувствует, как что-то внутри него рвется наружу, это его странная доброта вырывается на свободу и подталкивает их, и он улыбается, несмотря на кровавую жару, и все приходят в движение.
Но первый шаг делает не Иуда – он никогда не бывает в числе первых – и не передел с трубками, не Толстоног и даже не Шон, а какой-то совершенно неизвестный проходчик, стоящий в первых рядах. Он выходит вперед и поднимает руку. Этот рабочий словно проламывается через напряжение, утвердившееся в мире, разбивает его и выплескивается во время, как вода, перехлынувшая устье капилляра, за проходчиком устремляются другие, и вот уже Анн-Гари бежит вперед, и переделанный пытается удержать дубинки и кнуты жандармов, и сам Иуда тоже бежит и вцепляется своими загрубевшими от работы руками в глотку кого-то в форме.
Горячечный звон затапливает уши Иуды, и он слышит только биение собственной ярости. Он поворачивается и дерется так, как его научили драться на железной дороге. Иуда не слышит выстрелов, только чувствует, как пули прошивают воздух. Колдовская энергия вскипает в нем, и, сцепившись с жандармом, он инстинктивно превращает его рубашку в голема, который сдавливает тело противника. Иуда бежит и сражается, и все безжизненное, чего касаются его руки, на миг обретает иллюзию жизни и, повинуясь его приказам, вступает в бой.
У жандармов есть кремневые ружья и кнуты, но их самих слишком мало. Есть среди них и маги, но куда им до милицейских: ни плевков сгустками энергии, ни превращения нападающих в кого-нибудь – только самые примитивные заклинания, с которыми рабочие справляются и продолжают борьбу.
Среди укладчиков кактов больше, чем среди надсмотрщиков. Эти громадины налетают на охранников ТЖТ и обрушивают на них зеленые кулачищи, буквально ломая их пополам. Они прикрывают своих друзей, а у жандармов нет дискометов, чтобы разрезать растительную плоть.
Передел с трубками утаскивает тело парня с ногами насекомого. На ходу он вытаскивает из кармана кусок угля и мусолит его во рту, черня губы. Двигается он бегом. Те из жандармов, кто еще способен пошевелиться, отступают. Другие устилают землю бок о бок с изувеченными переделанными и нормальными людьми. Все заканчивается очень быстро.
Иуда бежит. С него капает пот. Жандармы, окруженные сбросившими кандалы переделанными, размахивают оружием, затем стреляют, и переделанные падают. У поезда жандармы перестраиваются.
– Нам надо… – кричит Иуда.
Рядом с ним – передел с трубками, который кивает и тоже кричит, и сразу появляются те, кто подчиняется ему: другие переделанные и свободные люди, мужчины и женщины, среди них Анн-Гари и Шон, и все они выполняют команды ни на кого не похожего человека.
– Да, – говорит он Иуде. – Со мной.
Они срезают угол, пробежав через заросли мертвых деревьев, и вот перед ними вечный поезд. Он выдыхает дым и плюется паром, когда разношерстная толпа окружает его. Его предохранительная решетка ощерилась, точно целая пасть гнилых зубов. Топки пышут огнем так, будто поезд через трубы всасывает энергию солнца. И везде люди – одни прыгают с поезда, другие устремляются к нему. Соскакивают с коек на крышах вагонов, с открытых платформ, где спят вольнонаемные, отовсюду, таращат глаза на приближающихся жандармов и забастовщиков, кричат. На бегу и жандармы, и забастовщики пытаются склонить их на свою сторону.
– …они, они…
– …ложись, это ублюдки переделанные…
– …они стреляли в нас, избивали…
– …разойдись, ублюдки, а то всех перестреляю…
– …стойте, ради Джаббера, черт, стойте, черт вас дери…
Жандармы с ружьями наголо неровным строем окружают поезд, и две волны: любопытствующих – с одной стороны и бастующих рабочих, проституток, переделанных – с другой, застывают на месте. Жандармы отступают к вращающейся орудийной башне.
Мгновение все колеблются между дальнейшим напором и смятением. Анн-Гари и человек с трубками подходят ближе. У мужчины бесстрастный вид, у Анн-Гари – наоборот. За их спинами выстраивается армия переделанных. Они не шагают, а рывками переставляют ноги; на некоторых еще видны обрывки цепей и кольца от оков, снятых при помощи камня или украденного ключа. Они не шагают, они чуть не падают с каждым движением ног, и солнце ярко играет на их изувеченных телах. В его лучах остро поблескивают лезвия самодельных клинков.
Переделанные отрывают планки от изгороди, за которой им приходилось жить, размахивают снятыми с ног цепями. Они вооружаются осколками, черепками от горшков, вделанными в дерево. Скоро их уже не десятки, а сотни.
– Господи, кто их выпустил, что вы наделали? – раздается чей-то истерический вопль.
Неведомая сущность внутри Иуды вспучивается от желания видеть их. Она раздувает его, ворочается, как ребенок во чреве матери. Иуда кричит, приветствуя и предостерегая восставших.
Четвероногие мужчины, словно бизоны, везут на своих спинах седоков с бесчисленными конечностями; бегут женщины на удлиненных руках, сделанных из конечностей животных; другие мужчины топочут ногами-поршнями, напоминая ожившие отбойные молотки; есть тут и женщины, сплошь покрытые кошачьими усами или щупальцами в палец толщиной, с кабаньими клыками или бивнями, выточенными из мрамора, со сцепленными шестернями на месте рта, со множеством собачьих или кошачьих хвостов, заменяющих юбку, с каплями чернильного пота из насильно привитых желез, с выделениями всех цветов радуги; и все это скопление преступников, всю разношерстную толпу сближает одно – близость свободы.
Жандармы убрались, спрятались в своей бронированной конуре – орудийной башне. Иные похватали мулов и лошадей из общественного загона и умчались прочь.
– Нет, нет, нет.
Многие проходчики и путейцы напуганы освобождением переделанных. Никто не знает, кто это сделал и как. Кто-то украл ключи, и все зашевелилось в поселении кандальников (хотя не все вышли на волю, некоторые по-прежнему льнут к своим цепям).
– Не для того мы здесь. Не для того все было. – Проходчик кричит Шону Саллервану, не желая разговаривать ни с Анн-Гари, ни с главой переделанных, разминающих конечности. – И я не хотел, чтобы того мальчишку избили, потому что он ничего не сделал, но это же глупо. Что вы, черт возьми, затеваете? А? Мы уже…
Проходчик бросает взгляд на переделанного, который, помаргивая, смотрит на него. Его слегка передергивает.
– Ты только не обижайся, мужик. – Теперь он обращается к переделанному. – Слушай, не мое это сраное дело. Ты же видел, мы больше не дадим им избивать вас просто так. Но ведь вам нельзя, вам надо вернуться, это… – Он тычет пальцем в орудийную башню.
Но поздно. Осада началась, наступила странная тишина.
– Черт возьми, люди погибли, – говорит проходчик. – Они погибли, их нет больше.
Парень с тараканьими ногами погиб. Других переделанных скосили пули. Одного какта раскроило летящей доской. Кучей лежат трупы жандармов, изувеченные тяжелыми молотами, заостренными кольями и другим эрзац-оружием дорожных рабочих. Отупевшие от горя провожатые толпятся у могил.
Возвращаются охотники. Проститутки сидят на скалах в забытой богами сердцевине мира и смотрят на поезд. Кочегары и тормозные кондукторы волнуются, когда ошалевшие от свободы переделанные набиваются в кабину паровоза и тянут за рычаги, а те, которые снабжены собственными котлами, поворовывают кокс. Люди озадаченно бродят туда-сюда и спрашивают друг у друга, что происходит. Они смотрят на солнце, смотрят, как покачиваются мертвые стволы, и ждут, когда кто-нибудь возьмет власть.
Ими владеет особого рода беспокойство – кругом такая тишина, но ясно, что долго она не продержится. Жандармы захватили огневую точку и примыкающий к ней вагон; остальные под контролем переделанных. Жарко; скрежещет, вращаясь, орудийная башня.
Вольнонаемные видят в Саллерване с Толстоногом вождей переделанной толпы, но рядом с ними стоят Анн-Гари и пронизанный трубками мужчина, которого, как выясняет Иуда, зовут Узман.
– Веди своих парней обратно. Что они тут делают? – говорит переговорщик от рабочих. Он указывает на башню. – Смотри, что там готовится. Против тебя. Короче, вот наши требования. Ты заводишь своих обратно, нам платят зарплату, и никто не будет наказан…
Он обращается к Шону, но отвечает Узман.
– То есть вы получите деньги, а мы должны отдать обратно его? Поезд?
Он смеется, и становится ясно, что предложение свободных – чистое безумие. Те хотят, чтобы переделанные добровольно отказались от свободы! Узман смеется.
– Мы еще не решили, что будем делать дальше, – говорит он. – Но мы решим.
Все кричат, как на уличном митинге: жандармы в башне спорят между собой, переделанные доказывают что-то переделанным, укладчики, механики, проходчики – все бранятся. Из орудийной башни доносятся звуки: там над чем-то работают. Забастовщики наблюдают из-за баррикад. Луна в небе расколота на две почти ровные половины: темную и светлую. Она убывает. При лунном свете, а также в лучах прожекторов и фосфорном свечении заклятий мужчины и женщины вечного поезда собираются на сходку.
– Мы не можем просто ждать, – говорит Толстоног. – Люди уже бегут. Одни боги знают, сколько жандармов сбежало – лошадей почти не осталось. Дрезин тоже. А ведь это не просто надсмотрщики убегают, Узман. Мы должны принудить их сдаться.
– Зачем? – открывает рот Анн-Гари; тварь внутри Иуды начинает шевелиться. – Зачем нам это? Чего ты хочешь от них, хавер? Они ничего не могут нам дать. Сейчас они просто напуганы, потому и сидят в башне, но когда им придется выбрасывать дерьмо наружу, вот тогда они и откроют пальбу.
Эти четверо говорят на повышенных тонах. Толпа медленно поворачивается к ним.
– Нам надо выдвинуть требования, – говорит Толстоног. – Они приведут подкрепление. К тому времени наши требования должны быть готовы.
Вмешивается Шон:
– Какие требования? Освободить проклятых переделанных? Никогда этого не будет. Признать новые гильдии? Чего именно мы хотим?
– Надо придумать, – отвечает Толстоног. – Надо послать в Нью-Кробюзон своих гонцов, пусть они поговорят с тамошними гильдиями и выработают совместные требования. Если мы сможем заручиться их поддержкой…
– Ты бредишь. Разве они пойдут на это? Ради нас? Нет, нам самим надо взять ситуацию в свои руки. Отныне это все наше, – говорит Узман.
Раздаются свист и проклятия в адрес переделанных. Анн-Гари кричит; она так взволнована, что ее загадочный акцент снова становится заметен.
– Заткнись, – говорит она оратору. – Не проклинай переделанных, сам от этого лучше не станешь. Зачем мы здесь? Вы дрались. А вы, – она оборачивается к проходчикам, – забастовали. Из-за нас. – (Сопровождающие ее проститутки кивают.) – Но почему вы дрались с жандармами? Потому что они, вот эти самые переделанные, не сорвали вашу забастовку. Не сорвали. Ради вас они выдержали побои. Ради того, чтобы ваша забастовка продолжалась. И ради нас. Ради меня.
Анн-Гари протягивает руку к Узману, хватает его и притягивает к себе; тот молча, хотя и удивленно, поддается. Девушка целует его прямо в рот. Он переделанный, это небывалое нарушение приличий. Все вокруг возмущены, шокированы, но Анн-Гари кричит во весь голос:
– Переделанные забастовали ради нас, чтобы вас не сломили. Мы бастовали против вас, а вы – против нас, но переделанные – они за всех нас, дураков. И вы это знаете. Вы сражались за них. А теперь их же презираете? Это они спасли вашу чертову забастовку, да и нашу тоже, хотя мы и бастовали друг против друга. – И она снова целует Узмана; одни проститутки в ужасе, другие в восхищении. – Говорю вам, если кто-нибудь и заслуживает службы в кредит, то это чертовы переделанные.
Ближайшие к Анн-Гари и самые воинственные проститутки нарочито стараются прикоснуться к Узману.
– Мы должны заручиться поддержкой! – кричит Толстоног.
Но его никто не слушает. Все слушают Анн-Гари. Иуда делает из пыли голема.
Уже глубокая ночь, но почти никто не спит. Голем Иуды выше его самого, его скрепляют масло и грязная вода. Старик, объявивший себя пророком паука, стоит за спиной Анн-Гари и выкрикивает какие-то туманные похвалы ей, пока девушка спорит с Толстоногом.
Со стороны поезда к ним приближается жандарм, размахивая белым флагом.
– Они хотят поговорить, – говорит женщина на хитиновых колесах.
– Подождите! – кричит он на ходу. – Мы хотим покончить со всем этим. Хватит взаимных обвинений. Мы замолвим за вас слово перед ТЖТ, выбьем у них денег. Никто не останется внакладе. И с вами, переделанные, мы можем договориться. Может, вам скостят срок. Мы обо всем договоримся. У нас масса возможностей.
Радостный гнев освещает лицо Анн-Гари. Парламентер шарахается от нее, но та устремляется мимо него к поезду, а за ней мчатся переделанные, Толстоног, Узман и Иуда, который на ходу шлепает своего голема по заду, точно младенца, и тот, разбуженный заклятием, мчится за ним. Те, кто видит голема, от изумления разевают рты.
Толстоног кричит Анн-Гари:
– Постой, подожди, куда ты? Подожди же!
Узман тоже что-то кричит, но, пока осаждающие поезд переделанные прячутся за частоколом, Анн-Гари останавливается прямо перед башней. В руках у нее ружье.
Узман с Толстоногом кричат на девушку, но она продолжает шагать по ничейной земле перед поездом. Только голем Иуды следует за ней. Башенное орудие поворачивается к Анн-Гари. Она неловко вскидывает ружье. Кроме фигуры из масла и грязи, возле нее никого нет.
– Никаких сделок с вами, ублюдки! – кричит она и спускает курок, невзирая на то что пули не могут пробить броню.
Гремит выстрел, переделанные бросаются к ней на выручку, с башни доносится голос капитана, он что-то приказывает своим людям: Иуде не разобрать, это «Не стрелять» или «Огонь!». Он велит голему прикрыть собой Анн-Гари, и тут же раздается одиночный выстрел, а следом начинается целая ружейная канонада.
Все, кроме голема и Анн-Гари, бросаются на землю, повсюду крики и кровь. Выстрелы прекращаются. Трое валяются на земле. Остальные, в основном переделанные, но и нормальные тоже, зовут на помощь. Анн-Гари молчит. Плотная субстанция голема изрешечена пулями.
– Нет, нет, нет! – кричит капитан. – Я не…
Но переделанные не ждут. Они кричат. Кто-то оттаскивает Анн-Гари назад. Иуда видит ее лицо, ее улыбку, и он чувствует, что улыбается сам.
Начинается маленькая война.
– Что ты делаешь?! – визжит Толстоног на Анн-Гари, но его вопрос уже не имеет смысла.
Жандармы, вольнонаемные, проститутки и переделанные вступают в общую потасовку, но понемногу дело проясняется: с одной стороны – переделанные и их друзья, с другой – жандармы и все, кто не приемлет неистового восторга освобожденных. Иуде страшно, но он ни на миг не жалеет о рождении этого буйного ребенка.
Переделанные атакуют башню, вооружившись мушкетами, самодельными бомбардами и собственными конечностями-молотами. Они обстреливают башню камнями и кусками рельсов, которые со звоном отскакивают от брони. Рядом с Иудой – человек с наростом из клешней краба на подбородке; внезапно он падает, сраженный пулей жандарма. Иуда отправляет своего голема в обход башни, и земляная плоть того крошится от пуль.
Он не слышит выстрела тяжелого орудия у себя над головой. Просто перевернутая двуколка, между колесами которой залегли люди, вдруг становится огненным столбом, из которого во все стороны летят острые, как ножи, осколки дерева и брызжет кровь, а в следующий миг на ее месте уже дымится обугленная воронка. Иуда мигает. Он видит обломки. Он видит, что потемневшее существо, ползущее к нему и оставляющее влажный улиточий след, – это женщина, чья обожженная кожа покрылась копотью, словно по сырому мясу пошла черная паутина трещин. Иуда удивляется, почему женщина молчит, хотя у нее горят волосы, – но тут же понимает, что это он ничего не слышит. В ушах звенит. Орудийный ствол, как вальяжный курильщик, выпускает кольцо дыма.
Башня поворачивается. Мятежники – переделанные, проститутки и примкнувшие к ним вольнонаемные – бегут прочь.
Иуда встает. Медленно. Делает шаг, его голем тоже. Орудие поворачивается рывками – видимо, механизмы плохо смазаны. Голем прижимается своим грязным телом к товарному вагону. Карикатурно подражая движениям Иуды, он подтягивается на руках и влезает на крышу, оставляя на стене жирный отпечаток.
Орудие на башне стреляет снова. Снаряд пронзает облако жирного дыма, и в нескольких ярдах от башни часть полотна встает дыбом, люди летят с него в разные стороны. Ставя ноги на выступы и в пазы, голем карабкается на башню. Даже стволы ружей, из которых целятся в него жандармы, он использует как ступени и поручни. С безразличием к себе, невозможным для существа мыслящего и чувствующего, он лезет наверх, теряя по дороге куски плоти, уменьшаясь в размерах, и достигает цели, несмотря на палки и заостренные колья, которые пронзают его гравийно-грязевое тело и отнимают силы, несмотря даже на потерю обеих ног, которые падают на броню двумя бесформенными кучками, точно испражнения. Орудие разворачивается, и по команде Иуды голем засовывает в его ствол руку.
Ствол доходит ему как раз до плеча. Орудие заткнуто заговоренной грязью, из которой состоял голем. Раздается выстрел, и пушка странно дергается, точно поперхнувшись снарядом. Ствол разносит на куски, голем превращается в дождь из грязи. Дым и пламя вырываются наружу, башня содрогается, ее верхушка вспыхивает мрачным светом и раскрывается, не выдержав брутального напора, точно с силой разжатый кулак.
Клубы едкого дыма рвутся вверх, и вместе с градом осколков из башни выпадает убитый. Остов пушки бесцельно вертится. Иуда весь заляпан останками голема. Мятежники радостно кричат. Он их не слышит, но видит.
Повстанцы захватывают поезд. Жандармы выбрасывают ружья и выходят наружу, окровавленные, с обожженными, слезящимися глазами.
– Нет, нет, нет! – кричит Узман; он ест уголь, его бицепсы играют.
Толстоног, Анн-Гари и еще несколько человек, которых Иуда уже узнает в лицо, пытаются остановить избиение, когда оно становится слишком похожим на убийство, отбирают ножи. Люди кричат, но уступают. Жандармов сажают на цепь там, где раньше сидели переделанные.
– Что теперь?
Эти слова Иуда слышит повсюду, куда бы ни пошел.
Теперь поезд принадлежит переделанным. Они мастерят флаги для своей внезапно обретенной родины и размахивают ими с вершины взорванной башни. Никто не ложится спать. Надзиратели скрываются в пустыне, а с ними уходят многие вольнонаемные и некоторые проститутки.
– Ради всех богов, пошлите сообщение в город, – говорит Толстоног. – Нам надо наладить связь, – добавляет он, и Узман кивает.
Вокруг них толпятся другие вожди нежданного бунта: они спорят до хрипоты, хоть им и не хватает слов, принимают решения.
Анн-Гари обращается ко всем:
– Нельзя поворачивать, назад мы не пойдем, только вперед.
И она показывает на пустыню.
Восставшие выбирают посланцев. Гонцов. Среди них – переделанный с железными ногами на паровом ходу; растопырившись во все стороны, они со страшной скоростью вносят его на вершину любой горы, в то время как торс болтается над ними, точно безвольный пассажир. Другой – мускулистый мужчина, превращенный в странное шестиногое существо: ниже пояса от его тела отходит шея огромной двуногой ящерицы из тех, которых полуприручили для езды обитатели бесплодной пустыни. Он кажется очень высоким, так как стоит на своих ногах рептилии, вывернутых коленями назад, за ними начинается упругий хвост; когтистые передние лапы у него прямо под человеческим туловищем. Много месяцев он служил разведчиком, возил на себе жандарма с ружьем за спиной.
– Ступайте, – говорит им Узман. – Держитесь поближе к дороге. И подальше от людей. Идите в города. Идите в лагеря рабочих, в Развилку. И, ради Джаббера и дьявола, в Нью-Кробюзон. Расскажите им. Расскажите новым гильдиям. Скажите, что нам нужна помощь. Сделайте так, чтоб они пришли. Если они нас поддержат, если остановят ради нас работу, то мы этот бой выиграем. Переделанных, свободных – всех ведите.
Они кивают и говорят: «Узман», как будто в самом его имени содержится утверждение.
Посланцы уезжают на лошадях, поднимая клубы пыли. Человек-насекомое на паровом ходу мгновенно срывается с места. Узловатый человек-рептилия набирает скорость, скача по ошметкам вересковых зарослей вдоль железнодорожного полотна. Птицы и другие летучие твари наблюдают за ними с высоты. Те, у кого нет крыльев, в ужасе шарахаются в стороны, словно завидевший опасность косяк морских рыб.
Проститутки стали пускать к себе мужчин, но на жестких условиях, без оружия и в присутствии женской охраны. После того как Анн-Гари поцеловала Узмана, некоторые не отказывают даже переделанным.
– В Нью-Кробюзоне такое на каждом шагу, – говорит Анн-Гари. – Нормальные сплошь и рядом трахаются с переделанными. А что, если кто-то попадает на пенитенциарную фабрику, жена от него сразу уходит?
– Ну, в общем, да. Считается, что иначе неприлично.
– Но в городе так делают на каждом шагу, а кроме того, ложатся друг с другом люди, хепри, водяные.
– Верно, – отвечает Иуда. – Но это полагается скрывать. А эти женщины… твои женщины… они же не прячутся.
Анн-Гари смотрит на луну, ждет, пока та пройдет у нее над головой, и наблюдает, как ее последний отсвет тает за скелетом моста.
– Городские гильдии нам не помогут, – говорит она. – Такого, как здесь, еще не было.
На фермах моста под ними движутся факельные огни. Мостостроители вернулись к работе сами, без надсмотрщиков.
– Что ты им сказала? – спрашивает Иуда.
– Правду, – отвечает Анн-Гари. – Объяснила, что нельзя останавливаться. Потому что наступает Переделка.
Через три дня, на восходе солнца, возвращается паровой передел-паук. Он долго пьет и только потом начинает говорить.
– Они идут, – сообщает он. – Жандармы. Их сотни. У них новый поезд.
Это пассажирский поезд особого назначения, объясняет он, с которого сняли всех туристов и искателей удачи, ехавших в глубь континента.
Вольнонаемные почти все разбежались. Но некоторые, хотя и обиженные тем, что их неожиданно уравняли с переделанными, все же стали частью этого нового города, надеясь своими глазами увидеть, что будет дальше. Вместе со всеми они пришли на собрание обитателей поезда, на сходку. Есть среди них и идейные, не хуже переделанных: они входят в команду диверсантов, отправленную разбирать пути позади поезда. А машинисты, кочегары и тормозные кондукторы останутся обучать переделанных.
Они движутся назад через преображенную ими же местность. Та и раньше не была неизменной: жизнь то просыпалась в ней, то замирала. Они проходят там, где земля, когда в нее вгрызались, была каменной, а теперь стала похожа на пятнистую кожу ящерицы, сочащуюся молочно-белой кровью на стыках рельсов. В других местах земля уподобилась книжной обложке, где из нанесенных костылями ран торчат клочья бумаги. Чтобы задержать преследователей, строители убирают рельсы.
Строительство наоборот. Все навыки и умения рабочих служат для того, чтобы разобрать пути, вытащить костыли, унести подальше рельсы и шпалы, разбросать камни. Они перепахивают дорожное полотно и собираются домой.
Но…
– Баррикаду снесли, – сообщают вернувшиеся разведчики. – Рельсы и шпалы привезли с собой. Пути кладут заново. Через три дня жандармы будут в лагере.
В тоннеле горит свет; идет строительство.
– Что вы делаете? – спрашивает Иуда.
– Заканчиваем тоннель, – отвечает Анн-Гари. – И мост. Осталось совсем немного.
Ее влияние растет. Анн-Гари и больше, и меньше, чем вождь, размышляет Иуда: она личность, в которой сконцентрированы разнообразные желания и жажда перемен.
В темных влажных недрах люди вгрызаются в последние ярды камня. Иуда смотрит вниз, на мост. Новодел кажется ему смехотворным: ненадежное кружево из металла и дерева, на скорую руку брошенное поверх настоящей конструкции. Всего лишь эрзац – мостом его можно назвать с большой натяжкой.
К своему удивлению, Иуда попадает в состав тайного совета, разрабатывающего стратегию. Встречи происходят в горах: Шон, Узман, Анн-Гари, Толстоног, Иуда. Параллельно в среде рабочих возникает шумное вече.
Каждую ночь рабочие собираются при свете газовых фонарей. Сначала все было вполне жизнерадостно – выпивка, кости, амуры; но по мере того, как жандармы приближаются, а Узман и его сподвижники на командных высотах разрабатывают план действий, характер сходок меняется. Люди с поезда начинают именовать друг друга братьями.
Но вот на сходку приходит Анн-Гари и посягает на мужские разговоры. С ней приходят другие женщины, они вклиниваются в мужскую компанию. Не все этому рады, иные пытаются заткнуть Анн-Гари рот.






