Двуликий Берия Соколов Борис
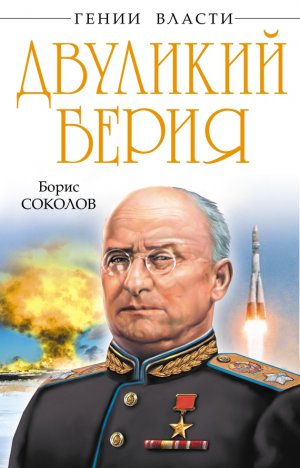
Словом, Микеладзе уехал в Грузию и об этом досадном недоразумении начали потихоньку забывать, но не все, разумеется.
Когда умер председатель Совнаркома Абхазии Лакоба (в декабре 1936 года; Берию после ареста обвинили в том, что он будто бы отравил Лакобу. – Б. С.), его смерть связали с Микеладзе. А там вот какой случай произошел. Еще при жизни Лакобы на его даче из его же револьвера застрелилась дочь председателя Госбанка Розенгольца. Увязали и с этим фактом. Выстроили версию – специально из Москвы следователь приехал! – будто бы эта девушка подслушала разговоры заговорщиков и ее таким образом «убрали». ГПУ Абхазии к расследованию не допустили. Состоялся суд, и несколько человек были осуждены к расстрелу, в том числе и «террорист» Микеладзе. Правда, я слышал, что московские следователи обещали ему освобождение и выдачу других документов. Якобы его расстрел был фиктивным, а решение по Микеладзе принималось чуть ли не на самом «верху». Исходили из того, что сломить Микеладзе не удалось – он был действительно очень сильным человеком, – и решили взять уговорами. Но утверждать, что бывшему руководителю ГПУ Абхазии удалось в действительности избежать тогда расстрела, я, естественно, не могу».
Бывший начальник сталинской охраны генерал-лейтенант Н.С. Власик описал инцидент под Гаграми несколько иначе: «Летом 1935 года было произведено покушение на товарища Сталина. Это произошло на юге. Товарищ Сталин отдыхал на даче недалеко от Гагр.
На маленьком катере, который был переправлен на Черное море с Невы из Ленинграда Ягодой, т. Сталин совершал прогулки по морю. С ним была только охрана. Направление было взято на мыс Пицунда. Зайдя в бухту, мы вышли на берег, отдохнули, закусили, погуляли, пробыв на берегу несколько часов. Затем сели в катер и отправились домой. На мысе Пицунда есть маяк, и недалеко от маяка на берегу бухты находился пост погранохраны. Когда мы вышли из бухты и повернули в направлении Гагр, с берега раздались выстрелы. Нас обстреливали.
Быстро посадив т. Сталина и прикрыв его собой, я скомандовал мотористу выйти в открытое море. Немедленно мы дали очередь из пулемета по берегу. Выстрелы по нашему катеру прекратились.
Наш катер был маленький, речной и совершенно непригодный для прогулок по морю, и нас здорово поболтало, прежде чем мы пристали к берегу. Присылка такого катера в Сочи была сделана Ягодой тоже, видимо, не без злого умысла – на большой волне он неминуемо должен был опрокинуться, но мы, как люди не сведущие в морском деле, об этом не знали (но так покушения не устраивают: по принципу «то ли перевернется, то ли нет». – Б. С.).
Это дело было передано для расследования Берии, который был в то время начальником ЦК Грузии. При допросе стрелявший заявил, что катер был с незнакомым номером, это показалось ему подозрительным и он открыл стрельбу, хотя у него было достаточно времени все выяснить, пока мы находились на берегу бухты, и он не мог нас не видеть.
Все это был один клубок. Убийство Кирова, Менжинского, Куйбышева, а также упомянутые покушения были организованы правотроцкистским блоком».
Николай Сидорович не питал никакой любви не только к Ягоде, но и к Берии, поскольку с его и Маленкова происками связывал свой арест в 1952 году после проведенной ревизии сталинской обслуги (тогда выяснилось, что Власик обильно брал для собственных нужд коньяк и шампанское, икру и семгу и разные другие деликатесы, выписывавшиеся якобы для Сталина). И послушно повторял версию 1936–1938 годов, когда выстрелы у Гагр трактовались как покушение, организованное троцкистами и бухаринцами. Единственный факт, который бывший сталинский телохранитель передал верно, это то, что на допросах пограничники утверждали, будто катер вызвал подозрения и потому был обстрелян.
Документы расследования гагрского инцидента, цитируемые Николаем Зеньковичем, свидетельствуют, что все происшедшее квалифицировалось как недоразумение, когда «своя своих не познаша». При этом пограничники показали, что действовали по инструкции: катер со Сталиным, мол, отсутствовал в представленной им заявке на прохождение в охраняемой зоне. Командир пограничников Лавров заявил, что, увидев движущийся незаявленный катер, пересекавший подведомственную зону, то есть погранзаставу «Пицунда», он сигналами повелел катеру пристать к берегу. А поскольку тот продолжал двигаться прежним курсом, произвел несколько выстрелов вверх.
Подобные объяснения выглядели вполне естественно в тех условиях. Не могли же Микеладзе, Лавров и другие пограничники и чекисты признаться в том, что устроили веселый пикник с девочками и спьяну решили покататься на катере. Версия же о том, что это была устроенная Берией инсценировка с целью повышения своей популярности у Сталина, не выдерживает никакой критики. Интересно, каким образом ему удалось уговорить Микеладзе принять участие в такого рода спектакле. Начальник ГПУ Абхазии должен был понимать, что за происшедшее его по головке не погладят, даже если в результате никто не пострадал. И Берия был совершенно прав, когда говорил Микеладзе, что тот еще легко отделался – простым понижением в должности (Лаврову пришлось хуже – дали пять лет). Но даже если бы Микеладзе заранее знал, что наказание этим ограничится, ему все равно не было бы никакого резона участвовать в столь опасной постановке. Да и Берии устраивать подобные игры не было никакого смысла. Хотя непосредственной ответственности за инцидент он не нес, часть вины все равно Иосиф Виссарионович мог возложить на главу грузинских коммунистов: как-никак, неприятность случилась на подведомственной ему территории. К тому же в случае инсценировки никто не стал бы выдавать попытку покушения за халатность, как это было сделано в ходе официального расследования. Тогда бы уж Лаврентию Павловичу логичнее было сделать так, чтобы покушавшиеся погибли в перестрелке. И никаких концов бы не осталось!
Подчеркну также, что ни осенью 1933 года, ни годом позже никаких драматических ускорений в карьере Берии не произошло. Нет ни малейшего признака, что именно после инцидента в Абхазии Сталин стал более благосклонно относиться к Лаврентию Павловичу.
В принципе, происшествие под Гаграми стало следствием обычной советской халатности. О поездке Сталина на катере должны были вовремя оповестить пограничников и абхазских чекистов. Сделать это должен был тот же Власик и глава ГПУ Грузии Д.С. Киладзе (расстрелян в 1937 году, так же как и Микеладзе и Лавров). Но оповестить-то как раз и было затруднительно, поскольку Микеладзе и Лавров в этот момент безмятежно пьянствовали на природе и на своих рабочих местах отсутствовали. А когда Власик в мемуарах рисует умильную картину, как он закрыл вождя своим телом, – это просто запоздалая попытка оправдать собственное разгильдяйство. Я таки уверен, что ни Власик, ни Берия тогда Сталина своей грудью от пуль не закрывали, тем более что ни одна из выпущенных в воздух пуль до катера так и не долетела.
Другое дело, что в 1937-м, в период Большой чистки, когда всюду изыскивали врагов народа и раскрывали покушения на Сталина и других вождей, грех было не вспомнить стрельбу под Гаграми. И тогдашний глава НКВД Грузии С.А. Гоглидзе, в 1953-м расстрелянный вместе с Берией, представил, наверняка с подачи Ежова, все происшедшее как теракт. Микеладзе арестовали, а Лаврова доставили в Тбилиси из лагеря, заставили признаться и расстреляли. Но всего этого осенью 1933-го Лаврентий Павлович предвидеть, естественно, еще не мог. Потому вполне искренне утешал Микеладзе, что тот легко отделался.
Зачем же все-таки следователи Руденко и Москаленко в 1953 году так упорно старались приписать Берии инсценировку покушения на Сталина? Даже если бы это и было правдой, подобное деяние и под статью-то подвести было бы трудно. Разве что обвинить Лаврентия Павловича в мошенничестве? Полагаю, что сверхзадачей тут было попытаться объяснить как широким массам, так и номенклатуре, почему Берия оказался столь приближен к Сталину. Требовалось убедить народ, что Лаврентий Павлович пролез наверх путем всевозможных махинаций, а не за счет своих чекистских и организаторских талантов.
Был и еще один инцидент, в котором позднее заподозрили срежиссированную Берией инсценировку. Летом 1937 года во время поездки в Сухуми он пережил покушение на свою жизнь. Лаврентий Павлович остановил машину на окраине города и вышел поразмяться. Вдруг из-за кустов выскочили трое неизвестных с пистолетами. Личный телохранитель Берии чекист Борис Михайлович Соколов успел закрыть его своим телом и тоже обнажил «вальтер». Им на помощь бежали водитель и секретарь Абхазской парторганизации. Бандиты отстреливались. У Соколова правая рука была прострелена четырьмя пулями, и его пришлось срочно доставить в больницу.
Соколов оказался не только преданным телохранителем, но и талантливым писателем. Уже во второй половине 50-х годов он написал детективный роман «Мы еще встретимся, полковник Кребс», который переиздается и сегодня. Кстати, этот роман – единственный в советской литературе, где матерый иностранный шпион – резидент британской разведки Кребс, хотя и раненый, но благополучно уходит от преследующих его чекистов. Но что самое интересное, в этом романе, похоже, описано знаменитое покушение на Берию. Только отнесено оно на десять лет назад, в 20-е годы, и Берия там, разумеется, не фигурирует. Зато герой, имеющий явные автобиографические черты, становится жертвой этого покушения и получает тяжелое ранение в руку, которую приходится ампутировать. Не знаю, действительно ли сам Соколов в результате покушения лишился руки, но ранение он, во всяком случае, получил тяжелое. Это само по себе подрывает распространенную после ареста и казни Берии версию о том, что это покушение инсценировал сам Лаврентий Павлович, чтобы повысить свои акции в глазах Сталина. Однако обстоятельства покушения, как кажется, исключают инсценировку. Вряд ли бы Берия стал сознательно калечить своего телохранителя. И в любом случае пули пролетели рядом с Берией и вполне могли поразить и его, хотя бы за счет непредсказуемого рикошета. Скорее всего, главу коммунистов Грузии тогда обстреляли либо абхазские противники Советской власти (как в романе Соколова), либо просто уголовные бандиты.
Признаем, что Берия был не только хорошим чекистом (со всем, что с этим словом связано дурного), но и хорошим хозяйственником. Кстати сказать, насчет коксовых установок, упоминавшихся в письме Кагановичу, Лаврентий Павлович был совершенно прав. Действительно, за рубежом давно уже их предпочитали строить вблизи угольных месторождений и развивать коксохимию, а не сжигать ценный коксовый газ в качестве топлива. Характерно, что Берия не побоялся призвать брать пример с «передовых стран Запада». Очевидно, он вполне сознавал техническую отсталость России. Вполне возможно, что Лаврентий Павлович смог бы неплохо хозяйствовать не только в условиях жесткой советской административной системы, но и в условиях западной рыночной экономики. Как знать, не сложился ли бы по-другому его жизненный путь, если бы Берия все-таки отправился в начале 20-х учиться в Бельгию. Затем, быть может, стал бы невозвращенцем, занялся бизнесом, выбился в миллионеры, а то и в миллиардеры. Неслучайно же в 1953 году, войдя на короткое время членом высшего коллективного руководства страны, Берия ратовал за рыночные реформы.
Следует отметить, что финансовые трудности, равно как и трудности с выполнением плана государственных сельхозпоставок, оставались постоянным фоном пребывания Берии в Грузии и Закавказье. Задержки с выплатой зарплаты в 30-е годы были столь же обычным явлением в СССР, как и в России в 90-е. В конце 1936 года Лаврентий Павлович вновь писал Кагановичу: «Т. Лазарь Моисеевич! Как ни крутимся и прилагаем все силы, чтоб выйти из тяжелого положения с финансами, дело у нас все же плохо. У нас задолженность по зарплате, но очень большая, мы своими силами не вытянем. Почему так? 1) Товаров мало поступает в наш край. 2) Нет товаров для коммерческой продажи. Что касается сбора денресурсов, ты знаешь, что эта работа у меня поставлена хорошо, и во всем Союзе иду впереди всех. Отсутствие товаров нас режет. Нужно как-нибудь нам помочь. Все я сделаю, но без помощи центра с зарплатой не справлюсь. По всем этим вопросам посылаю т. Тер-Габриэляна. Помоги нам. Привет. Лаврентий».
Об одном из источников относительного финансового благополучия Закавказья при Берии Ежов, как председатель КПК, 6 сентября 1936 года докладывал Сталину: «Дело с кредитованием Самтреста Грузии проверил. Вина Марьясина целиком подтверждается. Финансовая сторона дела такова. В начале 1936 года бывший председатель Госбанка Калманович незаконно кредитовал Самтрест Грузии в размере 22,5 миллионов рублей. Марьясин не только не принял никаких мер к понуждению Самтреста погасить банковскую задолженность, но наоборот неоднократно отсрочивал очередные платежи и производил дальнейшее совершенно незаконное и неправильное кредитование Самтреста. Сверх 22,5 миллионов рублей… выдал еще дополнительную ссуду в 5300 тысяч рублей. В результате такого широкого кредитования задолженность Самтреста Госбанку на 1-е февраля 1936 года составляла 77 миллионов рублей». Марьясин получил строгий выговор и был отстранен от руководства Госбанком. Берия же не пострадал. Можно предположить, что кредиты Грузии отпускались с одобрения Сталина, Молотова или Кагановича, а потом крайним сделали близкого к Пятакову Марьясина, который вскоре был репрессирован. Вряд ли одной только Грузии отпускались кредиты такого рода. Вероятно, дело о незаконном кредитовании Самтреста понадобилось как предлог для устранения очередного «врага народа».
Берия немало сделал для развития культа Сталина в Закавказье. Под его именем вышла книга по истории большевистских организаций в крае, где главные заслуги в борьбе с царизмом приписывались «великому кормчему». Об этой книге, вызвавшей одобрение Сталина, мы скажем дальше.
А вот издание Берией сборника ранних сталинских работ Иосифу Виссарионовичу не понравилось. 17 августа 1935 года он телеграфировал из Сочи Кагановичу, Ежову и Молотову: «Прошу запретить Заккрайкому за личной ответственностью Берия переиздание без моей санкции моих статей и брошюр периода 1905–1910 годов. Мотивы: изданы они неряшливо, цитаты из Ильича сплошь перевраны, исправить эти пробелы некому, кроме меня, я каждый раз отклонял просьбу Берия о переиздании без моего просмотра, но, несмотря на это, закавказцы бесцеремонно игнорируют мои протесты, ввиду чего категорический запрет ЦК о переиздании без моей санкции является единственным выходом. Копию решения ЦК пришлите мне».
Сталина, разумеется, не неточность заботила, а то, что его позиции тех лет по некоторым вопросам, упоминание в положительном контексте ряда имен не соответствовали политической конъюнктуре 30-х годов. Статьи надо было основательно почистить перед изданием, а услужливый Лаврентий, выпустив их в первозданном виде, поставил своего покровителя в неудобное положение. Но этот грех Иосиф Виссарионович Берии простил. Тем более что тот активно занялся большим и нужным делом: организацией музея Сталина в Гори.
Об этом музее в 1934 году Заккрайком принял специальное постановление. На родине вождя предполагалось не только отреставрировать дом-музей, но и выстроить рядом кинотеатр, драматический театр, библиотеку, гостиницу и Дом колхозника. Приехавшая в Грузию в сентябре 1935-го инструктор ЦК ВКП(б) Г.А. Штернберг докладывала Кагановичу: «В день приезда в Тифлис, 16-го, состоялось мое первое свидание с тов. Берия, который в общих чертах ознакомил меня с тем, что намечается в деле благоустройства и реконструкции Гори.
Основные положения по данному вопросу нашли уже отражение в постановлении Заккрайкома (№ 11, от 3/X – 34 г.). Указанным постановлением поручается специалистам составить в 21/2 месяца проекты и сметы по постройке театра, кино, гостиницы, Дома крестьянина, библиотеки-читальни и по работам реставрации дома, в котором жил тов. Сталин. Одновременно с этим же постановлением решено построить заводы известковый и кирпичный для данного строительства и отпустить на приступ к работе 300 тыс. рублей…
Особым вопросом является реставрация исторического дома, или, вернее, домика, где жил тов. Сталин… Я не могла не сделать упрека местной организации в том, что я не нашла следов заботливого ухода за этим домом…
Совершенно правильно поднят вопрос т. Берия и отдельными товарищами из районной парторганизации в Гори о необходимости, в связи с реконструкцией района, где жил товарищ Сталин, выселить 40–50 семей, построив для переселения выселяемых 2 жилых дома по 20 квартир в каждом доме. Это, в сущности, вопрос дополнительных 400–500 тысяч рублей (в 1934 году весь бюджет города Гори составлял 907 тысяч рублей. – Б. С.). Но совершенно независимо от источника ассигнований потребной суммы, постройку этих домов необходимо осуществить, с тем, чтобы выселенные почувствовали бы улучшение своих условий в связи с общей реконструкцией района и реставрацией дома, где жил Великий Сталин.
Накануне отъезда я вновь была у т. Берия, который сказал мне о своем намерении выехать в Москву, где он собирается уточнить с Вами отдельные вопросы и наиболее важные моменты по делу реконструкции Гори».
Во время той поездки Штернберг завязалась интрига вокруг книги Берии «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» (1935). Вернувшись в Москву, инструктор 10 апреля 1936 года написала заявление в КПК, где утверждала, что супруги Сеф и Янушевская в беседе с ней жаловались, что в действительности эту книгу написал не Берия, а Сеф. Позднее, в сентябре 1936 года, она так изложила обстоятельства появления на свет крамольных высказываний: «…В беседе со мной по вопросу о книге т. Берия… Янушевская в довольно откровенной форме дала понять, что этот доклад т. Берия является результатом работы Сефа. Эта постановка вопроса заставила меня насторожиться. По приезде в Москву в беседе с т. Райской М.Я., членом партии с 1918 года… о книге т. Берия, она мне также сказала, что книга т. Берия – это результат работы Сефа. Эту антипартийную болтовню мне удалось узнать из двух источников в Тифлисе и Москве, и для меня совершенно ясно, что эти разговоры значительно шире». Штернберг указала, что и С.Е. Сеф, и Л.П. Янушевская были участниками ленинградской зиновьевской оппозиции, и разразилась гневной филиппикой: «Считаю эти разговоры антипартийными, злостной клеветой на лучшего ученика т. Сталина т. Берия. Мной об этих разговорах было подано заявление на имя секретаря ЦК ВКП(б) т. Ежова в апреле или марте 1936 года и тов. Шацкой – инструктору ОРПО я об этом сказала значительно раньше (сейчас же по приезде)». В апрельском заявлении этот пассаж звучал немного иначе: «Считаю, что Сеф, сохранивший себя в рядах нашей партии, до настоящего времени продолжает свою гнусную работу и клевещет на одного из учеников т. Сталина т. Берия». В августе – сентябре 1936 года партколлегия КПК по Закавказью разбирала дело об «антипартийной болтовне» Сефа и Янушевской и, судя по всему, исключила их из партии.
Забегая вперед, скажу, что, вероятно, высказывания Сефа да дело о финансовых послаблениях, сделанных Марьясиным Берии, были единственным серьезным компроматом, которым располагал Ежов против Лаврентия Павловича в 1938-м, когда того назначили в НКВД. Но история с кредитом была не оригинальна, поскольку все партийные руководители на местах пытались выбить в Москве средства для своих регионов. Главное же, здесь больше был виноват не Берия, а ежовский собутыльник Марьясин. Идти со всем этим к Сталину было бы просто несерьезно. Дружбу с оппозиционерами Шляпниковым, Пятаковым и Марьясиным Ежову как раз и вменили в вину после ареста, на следствии. Что же касается случая с Сефом, то спичрайтеры были если не у всех, то у многих партийных руководителей. Книга Берии, судя по всему, была продуктом коллективного творчества. На следствии в 1953 году Лаврентия Павловича обвинили в плагиате уже по отношению к бывшему заведующим отделом агитации Закавказского крайкома Эрикуа Бедии.
В 1936-м эпизод с книгой по истории большевистских организаций в Закавказье закончился для Берии без каких-либо отрицательных последствий. 22 октября 1936 года член Партколлегии КПК по Закавказью Горячев докладывал главе КПК Ежову: «Согласно решению Бюро Заккрайкома ВКП(б) от 29 VIII – 36 г. Партколлегия КПК при ЦК ВКП(б) по Закавказью разбирает дело Сефа Семена Ефимовича, члена КП(б) с 1919 г., и его жены Янушевской Людмилы Павловны, члена КП(б), по обвинению их в антипартийной болтовне, выражавшейся в том, что в разговоре с б. инструктором ОРПО ВКП(б) т. Штернберг (ныне парторг «Минусазолото», член ВКП(б) с 1919 г.) Янушевская и Сеф заявили, что книга тов. Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» является работой Сефа.
В своем заявлении в Партколлегию по Закавказью т. Штернберг утверждает, что Янушевская, будучи в Москве, в беседе с членом КП(б) с 1918 г. т. Райской М.Я. (зав. китайским сектором Ленинской школы при Коминтерне в Москве) также сказала, что книга тов. Берия – это разработка Сефа.
В этом же заявлении т. Штернберг сообщает, что об этих разговорах ею было подано заявление на Ваше имя в апреле и марте 1936 г., и поставила об этом в известность инструктора ОРПО ЦК ВКП(б) т. Шацкую.
На наш запрос т. Шацкая сообщила, что т. Штернберг действительно поставила ее в известность об этой антипартийной болтовне, которую с Штернберг вели Сеф и Янушевская. Т. Штернберг же в заявлении на имя Партколлегии по Закавказью указывает, что эту болтовню с ней вела только Янушевская.
Сообщая о вышеизложенном, прошу поручить опросить тт. Райскую и Шацкую, уточнив, кто вел эту болтовню с Штернберг, Сеф или Янушевская, и протоколы опроса обеих вместе с заявлением Штернберг на Ваше имя, поданное в марте и апреле 1936 г.».
Шацкая, в свою очередь, написала заявление на имя члена Партколлегии по Закавказью Кудрявцева: «По твоей просьбе сообщаю все, что знаю о разговоре т.т. Сефа и Штернберг, Янушевской и Штернберг.
В марте или апреле этого года ко мне на работу в ЦК зашла т. Штернберг, член ВКП(б), бывший инструктор ОРПО ЦК ВКП(б) и в разговоре заявила мне, что считает возмутительным разговоры Янушевской и Сефа о том, что книгу тов. Берия будто бы готовил Сеф. Тут же Штернберг сказала, что Сеф бывший оппозиционер (я лично т. Сефа не знаю и никогда его не видела).
Я посоветовала т. Штернберг написать об этом в Заккрайком и, будучи сама в Тифлисе, вспомнила свой разговор со Штернберг и спросила тебя, получено ли какое-нибудь заявление крайкомом. Ты ответил отрицательно, а затем через несколько дней после моего возвращения в Москву получила от тебя телеграмму с извещением, что Сеф категорически все отрицает, и ты просишь меня написать, что я и делаю».
Горячеву и другому члену Партколлегии по Закавказью Вацену написала письмо и сама Штернберг (оно поступило адресату 19 октября): «В ответ на ваше отношение… от 14/IX – 1936 г…. считаю необходимым сообщить следующее:
Будучи в командировке в Тифлисе в последних числах сентября 1935 года (в связи с вопросом о реконструкции Гори и создании там сталинского музея. – Б. С.), я была у т. т. Сефа и Янушевской, и в беседе со мной по вопросу о книге тов. Берия «По вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» Янушевская в довольно откровенной форме дала понять, что этот доклад т. Берия является результатом работы Сефа. Эта постановка вопроса заставила меня насторожиться.
По приезде в Москву в беседе с т. Райской М. Я., членом партии с 1918 г. (Зав. китайским сектором Ленинской школы в Москве) о книге т. Берия, она мне сказала, что Янушевская, будучи в Москве, ей также сказала, что книга т. Берия – это результат работы Сефа. Эту антипартийную болтовню мне удалось узнать из двух источников в Тифлисе, Москве, и для меня совершенно ясно, что эти разговоры значительно шире.
Сеф член ВКП(б), б. эсер, был в ленинградской оппозиции и в 1926 г. выслан из Ленинграда;
Янушевская член ВКП(б), также была в ленинградской оппозиции и в свое время выслана.
Считаю эти разговоры антипартийными, злостной клеветой на лучшего ученика т. Сталина т. Берия. Мной об этих разговорах было подано заявление на имя секретаря ЦК ВКП(б) т. Ежова в апреле или марте 1936 года и тов. Шацкой – инструктору ОРПО я сказала значительно раньше (сейчас же по приезде).
Примечание: Подавая заявление на имя секретаря ЦК ВКП(б), я не считала возможным в свое время послать копию в Закавказский крайком…
Парторг «Минусазолото», член ВКП(б) с 1919 г. Штернберг».
Ранее секретарь Закавказской контрольной комиссии Кудрявцев направил письмо в Особый сектор ЦК ВКП(б) И.И. Шапиро, который был по совместительству помощником Ежова: «По сообщению тов. Шацкой – инструктора ОРПО ЦК ВКП(б) в апреле 1936 года бывший работник ЦК ВКП(б) тов. Штернберг было подано вам заявление об антипартийной болтовне работника Закпарторганизации тов. Сефа по поводу книги тов. Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». В связи с расследованием этого дела Заккрайкомом ВКП(б) прошу Вас, если можно, прислать копию заявления тов. Штенберга (так в документе. – Б. С.) или сообщить результаты заявления тов. Штенберга».
На этом письме Ежов 16 августа наложил резолюцию: «Дать материал мне».
И первое заявление Штернберг, датированное 10 апреля 1936 года, тотчас нашлось. Оно гласило: «Считаю необходимым довести до вашего сведения следующее:
Будучи в командировке в Тифлисе при встрече с Янушевской Л. – членом партии (женой Сефа), последняя мне заявила при разговоре о докладе и книге т. Берия, что этот доклад т. Берия является результатом работы Сефа. И дальше после этого уже в Москве при разговоре с т. Райской (членом ВКП(б)) я узнала, что Янушевская и т. Райской говорила, что доклад т. Берия является результатом трудов Сефа.
Сеф был эсер, активный участник контрреволюционной троцкистско-зиновьевской группы в 1926 г. в Ленинграде, сослан из Ленинграда в 1926 г.
Янушевская Л., жена его, также была в этой контрреволюционной группе и также выслана из Ленинграда в 1926 г. Сейчас эти люди, которые активно боролись против нашей партии, распространяют клевету, что он, Сеф, освещает историю нашей партии и одной из организаций, выращенной непосредственно тов. Сталиным.
Считаю, что Сеф, сохранивший себя в рядах нашей партии, до настоящего времени продолжает свою гнусную работу и клевещет на одного из учеников т. Сталина т. Берия.
Полагаю, что эта клевета имеет организованный характер, так как я одна имела возможность слышать эту клевету из двух источников».
Штернберг явно находилась под сильным влиянием Берии, в свое время поразившего ее проектом реставрации сталинского домика Гори и превращения родины вождя в настоящий международный туристический центр. Ее первое заявление было неприкрытым доносом против бывшего оппозиционера Сефа, посмевшего покуситься на авторитет верного ученика Сталина. Но простодушная Штернберг (простодушие замечательно сочеталось с подлостью) на этот раз просчиталась. Рассчитывая защитить Лаврентия Павловича от наветов Сефа, она невольно оказала ему медвежью услугу. Ежов сразу сообразил, что дыма без огня не бывает, что вряд ли жена Сефа вдруг ни с того ни с сего стала рассказывать каждому встречному-поперечному, что ее муж, а вовсе не Берия, создал эпохальный труд «К истории большевистских организаций Закавказья». В те годы партийные вожди первого ряда еще сами писали собственные доклады и статьи. Хотя вожди второго ряда – секретари обкомов и республиканских парторганизаций уже начинали пользоваться услугами спичрайтеров. Дальше мы увидим, что бериевский доклад был плодом коллективного творчества. Но Лаврентий Павлович как раз стремился пробиться в первый ряд вождей – тех, чьи портреты несут на московских демонстрациях. И то, что его уличат в присвоении авторства не им написанного текста, было серьезной угрозой.
Вероятно, Ежов сразу оценил значение компромата против одного из наиболее видных региональных руководителей и сосредоточил все материалы об «антипартийной болтовне» Сефа и Янушевской в своих руках. Характерно, что второе заявление Штернберг, написанное в октябре 1936 года, уже куда более спокойное по отношению к Сефу и его жене. Может быть, ей дали понять, что надо немного умерить пыл. Ежову-то важнее было не осудить чересчур разговорчивого спичрайтера, а держать на крючке главу Заккрайкома. Но тогда дело Сефа и Янушевской своего развития не получило. Берия находился в явном фаворе у Сталина, а Ежов, только что, 26 сентября 1936 года, назначенный наркомом внутренних дел, еще не видел в Берии опасного для себя человека. Эх, знал бы Николай Иванович где упасть, соломки бы подстелил!
Пока все закончилось печально только для Сефа. Ранее, после высылки из Ленинграда, Семен Ефимович публично осудил свои прежние оппозиционные взгляды и продолжал относительно успешную карьеру. В 1927–1930 годах он – редактор закавказской краевой газеты, в 1930–1932 годах – заведующий культпропагандистским отделом Фрунзенского райкома Москвы, в 1932–1933 годах – заместитель директора Института красной профессуры. Затем Сеф возвращается в Закавказье. В 1933–1934 годах он – заведующий культпропагандистским отделом Закавказского крайкома, а в 1934–1935 годах – второй секретарь Бакинского горкома партии. В это время отношения Берии и его спичрайтера по какой-то причине разладились, и в карьере Сефа произошел слом. Его перебрасывают с партийной работы на гораздо менее престижную хозяйственную. В 1935–1936 годах он – председатель Закавказского Союза потребкооперации, а в апреле 1936 года его назначили уполномоченным наркомата легкой промышленности при Совнаркоме Закавказской Федерации. Вероятно, это назначение никак не было связано с заявлением Штернберг, датированным 10 апреля 1936 года. Ведь ему был дан ход только в августе – сентябре. А вот какой-то конфликт, происшедший между Берией и Сефом в 1935 году, по всей вероятности, подвигнул обиженного Семена Ефимовича и особенно его супругу, переживавшую за карьеру мужа, к неосторожным разговорам. Мол, Лаврентий Павлович попользовался плодами чужого труда, а теперь сплавил Семена Ефимовича на потребкооперацию. В общем, поматросил и бросил. Эти разговоры услышала Штернберг, которая как раз тогда побывала в Тифлисе. И, пусть с опозданием, но решилась написать донос. Последствия же для Семена Ефимовича оказались трагическими.
Сефа сняли с работы, исключили из партии, а в 1937 году арестовали и расстреляли (при Хрущеве реабилитировали). О судьбе Людмилы Павловны Янушевской у меня сведений нет. Скорее всего, ее арестовали вместе с мужем, но, как члена семьи «врага народа», могли не расстрелять, а отправить в лагерь. Неизвестно, дожила ли она до реабилитации.
Замечу, что по своей номенклатурной должности – уполномоченный наркомата легкой промышленности по Закавказью – Сеф вовсе не обязательно подлежал репрессиям. Правда, его и его жены участие в зиновьевской оппозиции оставляло им немного шансов уцелеть. Бывшие оппозиционеры репрессировались в первую очередь.
В Закавказье Лаврентий Павлович принял активное участие в терроре 1937–1938 годов, широко применял санкционированное Ежовым и Сталиным избиение подследственных. На февральско-мартовском пленуме 1937 года он сообщил, что только за последний год в Грузию вернулись почти полторы тысячи меньшевиков, дашнаков и мусаватистов, причем «за исключением отдельных единиц, большинство из возвращающихся остаются врагами Советской власти, являются лицами, которые организуют контрреволюционную вредительскую, шпионскую, диверсионную работу… Мы знаем, что с ними нужно поступить как с врагами».
А 17 июля 1937 года Лаврентий Павлович докладывал Сталину о разоблачении очередного «заговора»: «В Аджарии раскрыта контрреволюционная организация, связанная с турецкой разведкой и ставящая своей целью присоединение Аджарии к Турции. Организация вербовала себе сторонников и последователей в деревнях Аджарии, увязывая свою работу с эмигрантскими элементами, находящимися в Турции. Показаниями почти всех арестованных председатель ЦИК Аджарии Лордкипанидзе Зекерия изобличается в том, что он является руководителем этой контрреволюционной организации и связан с турецким консулом в Батуми и турецкой разведкой. Прошу санкционировать его арест. В настоящее время Лордкипанидзе находится под наблюдением для предотвращения возможного бегства за границу. В ближайшие дни представлю кандидатуру аджарца на пост председателя ЦИК Аджарии». Сталин оставил резолюцию: «Т. Берия! ЦК санкционирует арест Лордкипанидзе». Ясно, что ни с каким ЦК он не советовался, а единолично решил судьбу несчастного Зекерии, который ни с какой разведкой связан не был, а от аджарских эмигрантов мог ждать только смерти. Но она настигла Лордкипанидзе от рук «своих».
В Грузии Берия как глава местной парторганизации творил то же самое, что в 1937–1938 годах творили по всей стране другие секретари обкомов и республиканских парторганизаций, ничем особенным не отличаясь ни в лучшую, ни в худшую сторону. Тем более что контрольные цифры, сколько расстреливать, а сколько сажать, задавались из Москвы. Самодеятельность же местных чекистов и партсекретарей, равно как и прокуроров, составлявших на местах Особые тройки, была очень ограниченна и распространялась лишь на самые низшие ступени номенклатуры. Сколько именно невинных душ загубил тогда Лаврентий Павлович в Грузии, данных нет, точно так же, как нет раскладки числа расстрелянных по другим областям и республикам. Конечно, местный секретарь, получив общую директиву из центра репрессировать всех бывших акционеров, дворян, поляков, кулаков и иные неблагонадежные категории населения, мог кого-то из списка кандидатов в ГУЛАГ или на расстрел изъять, хотя и рисковал, что в будущем его обвинят в том, что покрывает врагов народа. Можно было, конечно, и добавить кого-то, если только кандидат на пулю занимал не слишком видное положение и его казнь не требовалось согласовывать с Москвой. Тех же Бедию или Сефа, например, Берия при желании вполне мог добавить в список обреченных на смерть. Но не исключено, что они попали туда и без его участия, просто как бывшие оппозиционеры. А уж Лаврентий Павлович, даже если бы узнал об этом, наверняка не проявил бы никаких стараний, чтобы спасти от «вышки» болтунов-спичрайтеров.
Сколько именно людей отправил на смерть Берия в Грузии, повторяю, пока точно не известно. Учитывая общую численность населения СССР в тот момент – около 170 млн человек, и численность населения Грузии – около 3,5 млн человек, можно предположить, из общего числа 682 тыс. человек, расстрелянных по политическим мотивам в 1937–1938 годах, на долю возглавлявшейся Берией республики придется около 9,6 тыс. человек. Но это только в том случае, если допустить, что репрессии распределялись по территории страны абсолютно равномерно. Между тем, несомненно, что по крайней мере в столицах, Москве и Ленинграде, концентрация расстрелов была значительно выше – ведь здесь отстреливали не только местную, но и общесоюзную норму. С учетом этого реальное число казненных в Грузии могло быть на 2–3 тысячи меньше, достигая 6–7 тысяч человек. Примерно такая норма осужденных на смерть – несколько тысяч человек была де-факто установлена для секретарей обкомов и большинства республик, занимавших свои посты в 1937–1938 годах. Только для Москвы и Ленинграда, а также такой крупной республики, как Украина, она достигала уже нескольких десятков тысяч казненных. При этом выполнение нормы само по себе отнюдь не давало гарантии на то, что соответствующий чиновник уцелеет.
Согласно оперативному приказу народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года, для Грузии были установлены лимиты: 2000 – по 1-й категории и 3000 – по 2-й категории (заключение в лагерь). Ранее, 10 июля, по запросу Политбюро руководство Грузии отправило в Москву предложения о репрессировании 1419 человек по 1-й категории и 1562 человека по 2-й категории, но в столице эти лимиты значительно увеличили. 30 октября 1937 года Берия направил записку Сталину, жалуясь на «чрезмерную затяжку в рассмотрении подготовленных для судебного разбирательства следственных дел» и попросив создать Специальную тройку, которая могла бы рассмотреть дела троцкистов и правых шпионов – террористов общим числом 3415 человек. К тому времени прежний лимит был превышен на 236 человек. 31 января 1938 года Политбюро утвердило дополнительный лимит для Грузии в 1500 человек по 1-й категории, а 2 апреля – еще 1000 человек по 1-й категории и 500 – по 2-й. Эти лимиты включили как избыток по первоначальному лимиту, так и большую часть предложенного Берией нового лимита. Таким образом, в рамках приказа № 00447 в Грузии были расстреляны около 4500 человек и около 3500 человек были отправлены в лагеря. Кроме того, в рамках «сталинских расстрельных списков» на 44,5 тыс. человек, фигуранты которых подлежали суду Военной коллегии Верховного суда СССР, в Грузии были расстреляны 3028 человек, что дает Грузии третье место (после Москвы и области – 7312 и Украины – 4132 человека). Однако, судя по записке Берии от 30 октября 1937 года, большинство этих лиц в действительности были расстреляны по приговору «тройки» в счет лимитов 1938 года, поскольку подготовка дел для рассмотрения Военной коллегией требовала слишком много времени. Кроме того, в Грузии некоторое число людей были расстреляны в 1937–1938 годах по приговорам «двоек» в рамках операции НКВД «по национальным контингентам». Однако учитывая, что основная часть фигурантов этой операции была представлена в Грузии «персидскими подданными», которые просто высылались за границу, и что немцев, поляков, литовцев, латышей, эстонцев и финнов, наиболее пострадавших от расстрелов в ходе этой операции, в Грузии по сравнению с другими республиками было немного, число расстрелянных из числа «национальных контингентов» могло составить несколько сот человек. Всего в Грузии в 1937–1938 годах, по нашей оценке, могли быть расстреляны 5–5,5 тыс. человек, или до 0,8 % всех расстрелянных в СССР по политическим статьям в этот период. Доля же Грузии в населении СССР в конце 1938 года составляла около 2,1 % населения.
Убивал ли Берия? Дело Ханджяна
Да, Берия тогда, в Грузии, и позднее, в Москве, отправил на тот свет тысячи и тысячи людей. Но убивал он их, разумеется, не лично, а подписывал сверхсекретный расстрельный список или просто отдавал словесный приказ, без номера. Впрочем, убийство по крайней мере одного человека приписали лично Берии. Будто бы Лаврентий Павлович в своем собственном кабинете застрелил первого секретаря Компартии Армении Агаси Гевондовича Ханджяна. Но обстоятельства этого дела заставляют очень сильно сомневаться в том, что последний умер насильственной смертью. Да и обвинения в убийстве Ханджяна предъявили Берии лишь почти три года спустя после ареста и казни, когда Лаврентий Павлович ни подтвердить, ни опровергнуть их уже не мог.
Вот как выглядит дело в записке заместителя председателя КПК П.Т. Комарова в ЦК КПСС от 8 февраля 1956 года: «Решением Президиума ЦК от 17 января 1956 г. Ханджян А.Г. … реабилитирован (посмертно) (в предложении о реабилитации генеральный прокурор Р.А. Руденко утверждал, что «расправу над Ханджяном» учинили Берия и его приспешники. – Б. С.).
Главной военной прокуратурой в 1955 г. производилась проверка заявлений матери Ханджяна – Ханджян Т.С., которая отвергала версию об обстоятельствах гибели сына, считая его убитым.
О факте гибели Ханджяна А.Г. имеется официальное извещение Заккрайкома ВКП(б) и ЦК КП(б) Армении, опубликованное 11 июля 1936 г. в печати, согласно которому Ханджян покончил жизнь самоубийством якобы на квартире в г. Тбилиси около 9 час. вечера 9 июля 1936 г. путем выстрела из револьвера. В сообщении акт самоубийства связывался якобы с политическими ошибками Ханджяна. Политические обвинения против Ханджяна в настоящее время полностью отпали и являются не чем иным, как прикрытием факта гибели Ханджяна.
Как видно из имеющихся материалов, обстоятельства гибели Ханджяна в полагающемся законом порядке в свое время не были расследованы, а оружие, из которого был сделан выстрел, не было установлено.
По показаниям лиц, охранявших Ханджяна, последний между 7 и 8 час. вечера был обнаружен лежащим в своей комнате на кровати с огнестрельной раной в голову. Между тем, на Тбилисской станции «Скорой помощи» вызов к Ханджяну зарегистрирован в 9 час. 25 мин. и пострадавший доставлен в больницу в 10 час. 25 мин. вечера.
После консилиума врачей Ханджян оперирован в 1 час. 30 мин. утра 10 июля 1936 г. и затем он умер, о чем имеется запись в операционном журнале. В то же время в акте вскрытия трупа Ханджяна от 10 июля 1936 г. указано, что он умер 9 июля 1936 года. История болезни Ханджяна в больнице не обнаружена, хотя на всех больных того периода они имеются (она могла быть изъята впоследствии из-за политического характера дела о самоубийстве Ханджяна; все-таки не каждый день в тбилисской горбольнице умирали столь высокопоставленные чиновники. – Б. С.). Указанные данные дают основание для предположения, что могла быть произведена фикция операции над трупом.
В больнице «Скорой помощи», куда был доставлен Ханджян, по имеющимся данным, находились Берия, Агрба, наркомздрав Грузии Мамаладзе, прокурор республики Вардзиели и главный врач больницы Киршенблат. Следует отметить, что Агрба, Мамаладзе и Вардзиели в 1937–1938 гг. были осуждены и расстреляны, а Киршенблат, осужденный к 10 годам лишения свободы, был расстрелян в феврале 1938 г. в Полтавской тюрьме по постановлению тройки УНКВД без всяких на то оснований. Охранники Саноян и Мкртчян арестовывались после смерти Ханджяна и освобождены через 1,5 месяца.
Акт вскрытия трупа Ханджяна был произведен не судебным экспертом-врачом, а патологоанатомом Джорбенадзе. Указанный акт в 1955 г. Главной военной прокуратурой был направлен судебно-медицинским экспертам. Главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны проф. Авдеев М.А. дал заключение, что обнаруженная, согласно записи в акте, у Ханджяна на голове огнестрельная рана не могла быть нанесена выстрелом из пистолета «Лигнозе» калибра 6,35 (который имелся у Ханджяна), а нанесена она пулей револьвера калибра не менее 7,5 мм. В извещении Заккрайкома ВКП(б) было указано, что Ханджян застрелился из револьвера (а не пистолета).
В момент гибели Ханджяна в Заккрайкоме ВКП(б) в гор. Тбилиси находилась тройка КПК при ЦК ВКП(б) в составе председателя Короткова И.И. (умершего несколько лет тому назад), партследователя т. Ивановой и третий член тройки не установлен, но, по заявлению Ивановой, им был Синайский-Михайлов.
В своем заявлении в КПК и в показаниях, данных Главной военной прокуратуре, тов. Иванова сообщает, что 9 июля 1936 г. вечером она, Коротков и Синайский работали в здании Заккрайкома ВКП(б). Вдруг в кабинете Берии раздались 2 выстрела. Тов. Коротков бросился в кабинет Берии и долго там задержался. Не дождавшись Короткова, Иванова и третий член парттройки ушли в гостиницу, куда позже вернулся и Коротков. На расспросы Ивановой Коротков ответил, что «произошло ужасное», о чем будет известно завтра. На другой день утром они в газетах прочитали извещение о самоубийстве Ханджяна, и Коротков тогда заявил: «Иезуит Берия убил Ханджяна». Предложение Ивановой немедленно сообщить об этом в Москву Коротков отклонил, также запретил и ей делать это, сказав, что «история разберется». 11 или 12 июля 1936 г. они поездом выехали в Москву. В купе вагона Коротков, любивший рисовать, на бумаге нарисовал кабинет Берии, где на ковре лежал окровавленный Ханджян. Иванова этот рисунок уничтожила. Она предполагает, что Коротков, бывший очевидцем этого происшествия, изобразил на бумаге представившуюся ему в кабинете Берии картину.
Сообщение Ивановой об убийстве Ханджяна в здании Заккрайкома находит подтверждение в таком факте: маляр Гаспарян, ремонтировавший дом, расположенный напротив квартиры Ханджяна, 9 июля 1936 г. вечером услышал выстрел и, выйдя на балкон, увидел, как от подъезда дома, где была квартира Ханджяна, отъехала автомашина Берии.
Отсюда возникает версия, что Ханджян, застреленный в кабинете Берии, был доставлен на машине последнего на квартиру и с целью инсценировки самоубийства был произведен выстрел. Через несколько минут Берия позвонил по телефону Ханджяну и вошедший по этому звонку в комнату Ханджяна охранник Саноян обнаружил лежащего на постели окровавленного Ханджяна. Осмотром на месте бывшей квартиры Ханджяна установлено, что в его комнату имелся второй вход с лестничной клетки, минуя переднюю и комнату обслуживающего персонала, через комнату, которую тогда занимали Аматуни и Гулоян.
Как показала жена т. Ханджяна т. Винзберг Роза и охранник Саноян, Ханджян, уезжая 8 июля 1936 г. из Еревана в Тбилиси, взял с собой принадлежащий ему пистолет «Лигнозе» малого калибра, другого оружия с собой он не брал. Кроме того, Ханджян сказал ей, что в Тбилиси решительно поставит вопрос об освобождении его от работы в Армении ввиду травли со стороны Берии, и если ему откажут, то проедет далее в Москву, для чего взял с собой необходимые вещи. Таким образом, при выезде из Еревана у Ханджяна мысли о самоубийстве не было.
В ходе проверки главный судебно-медицинский эксперт проф. Авдеев М.А. высказал мнение о желательности эксгумирования черепа Ханджяна с проведением тщательного исследования.
Главной военной прокуратурой в период проверки были получены показания от Дэнуни Д.М. и Манукяна, проживающих в Ереване, о том, что, будучи арестованы в 1937 г., они находились во внутренней тюрьме НКВД Армении в одной камере вместе с арестованным профессором-хирургом Мирза-Аваковым, который в их присутствии, а также Вартаняна Григора и Карагезяна, рассказал о действительной причине его ареста. Как он заявил, в 1936 г., когда тело Ханджяна привезли в Ереван, Мирза-Авакова вызвали для осмотра трупа; осмотрев голову Ханджяна, он обнаружил рану с левой стороны выше виска и что выстрел произведен с дальнего расстояния, в связи с чем Мирза-Аваков пришел к выводу, что Ханджян был убит, а не покончил самоубийством. О своем мнении Мирза-Аваков говорил Вартаняну Сергею и Манвеляну, и кто-то на него донес.
Как установлено в настоящее время Прокуратурой СССР, Мирза-Аваков числится «умершим в тюрьме», в настоящее время он посмертно реабилитирован».
Члены Президиума ЦК единогласно одобрили записку Комарова, содержавшую версию о том, что коварный Берия собственноручно расправился с героем-мучеником Ханджяном. Однако включить этот эпизод в доклад Хрущева XX съезду с разоблачением культа личности Сталина все же не рискнули. Ведь при ближайшем рассмотрении версия об убийстве Ханджяна оказывалась шита белыми нитками и вряд ли бы убедила в виновности Берии человека, хоть сколько-нибудь знакомого с перипетиями внутрипартийной борьбы 20-х годов и особенностями Большого террора 30-х.
В записке Комарова всячески подчеркивалось, что почти все люди, причастные к делу о «самоубийстве» Ханджяна, умерли не своей смертью. Берия, мол, убирал свидетелей. Но человек, помнивший Большую чистку, сразу бы догадался, что люди, занимавшие такие номенклатурные должности, как прокурор Грузии или нарком здравоохранения республики, да еще принадлежавшие к старым большевикам, и без всякого участия Лаврентия Павловича имели очень мало шансов уцелеть. Что же касается доктора Киршенблата, то на его расстрел тройкой НКВД в Полтаве в феврале 1938 года Берия вообще повлиять никак не мог. Тогда НКВД возглавляли Ежов и Фриновский. У последнего же отношения с Лаврентием Павловичем были напряженными еще по совместной работе в Закавказье. Неужели стал бы Берия просить Ежова или Фриновского обязательно ликвидировать мало кому известного узника полтавской тюрьмы как опасного свидетеля?
Обстоятельства же будто бы происшедшего убийства Ханджяна вообще выглядят сплошной фантазией. Не настолько горяч был Лаврентий Павлович, чтобы в пылу полемики застрелить оппонента в собственном служебном кабинете, да еще в тот момент, когда в соседней комнате работала комиссия КПК, да к тому же с дальнего расстояния попасть точно в висок, чтобы легче было инсценировать самоубийство. Опытный чекист Берия, будь на то острая необходимость, организовал бы убийство главы армянских коммунистов поэлегантнее, замаскировав его под несчастный случай, и уж, конечно же, не в своем служебном кабинете и не своими руками.
Настораживает и то, что в записке Комарова почти все ссылки на прямых очевидцев преступления относятся к людям уже умершим к тому моменту, когда партийные органы и Главная военная прокуратура начали расследовать обстоятельства смерти Ханджяна. А уж версия с переноской трупа из здания Закавказского крайкома на квартиру Ханджяна выглядит как сцена из плохого боевика. Каким образом, интересно, Берия и его люди могли бы бесшумно затащить бездыханное тело в квартиру, так, чтобы это не услышали ханджяновские охранники. Как могли бы Саноян и Мкртчян не услышать, что к дому подъехала автомашина, тем более что автомобилей в Тбилиси тогда было раз-два и обчелся. А если бы услышали и выглянули в окно, то стали бы опасными свидетелями, которых бы Берия постарался уничтожить при первой возможности, хотя бы тогда, когда сам возглавил НКВД СССР. Бывшие же ханджяновские охранники благополучно пережили Лаврентия Павловича.
Предположение, будто для проникновения в комнату Ханджяна бериевские подручные воспользовались не комнатой охраны, а другой комнатой, где квартировали секретари армянского ЦК Аматуни и Гулоян, тоже не выдерживает критики. Получается, что тогда пришлось бы посвящать в столь щекотливые обстоятельства еще двух человек, один из которых к тому же стал преемником Ханджяна во главе коммунистов Армении.
Остается предположить, что чекисты забросили труп Ханджяна через окно, а Лаврентий Павлович командовал: «Давай, заноси! Осторожно, не кантовать!»
Странно и то, что в записке Комарова не было никаких цитат из медицинских заключений. Невозможно понять, на каком основании эксперты приходили к выводу о калибре оружия, от которого наступила смерть Ханджяна. Судя по всему, тогда, в 1936-м, контрольного отстрела из принадлежащего Агаси Гевондовичу «Лигнозе» не производилось. Однако это вовсе не означает, что несчастный не мог застрелиться из собственного оружия. Газетное сообщение, что Ханджян застрелился именно из револьвера, а не из пистолета, ничего не значит. По традиции в России и в СССР вплоть до Второй мировой войны все пистолеты назывались револьверами. К тому же нельзя исключить, что Ханджян в действительности застрелился не из собственного оружия, а попросил у охранника или у кого-то из знакомых вместо дамского «Лигнозе» более надежный револьвер. Эксгумация черепа Ханджяна так и не была произведена. Акт вскрытия 1936 года и его экспертиза 1955 года никогда не публиковались, и даже нет уверенности, что они сохранились. Так что вряд ли мы когда-нибудь узнаем точно, из пистолета или из револьвера застрелился глава армянских коммунистов. Утверждение же, что выстрел в Ханджяна был произведен не в упор, а с некоторого расстояния, основано лишь на показаниях свидетелей со слов давно умершего к 1955 году человека.
Стоит также помнить, что и в советские времена и теперь эксперты у нас очень склонны находить именно то, что от них ждет следствие. А в деле Ханджяна, как мы увидим дальше, и прокуратуру, и руководство партии гораздо больше устраивал не вариант с самоубийством того, кого собирались реабилитировать, а его убийство «злодеем Берией».
Эпопея же с комиссией КПК выглядит прямо-таки как волшебная сказка. Из трех ее членов реальным выглядит только Иван Иванович Коротков, 1885 года рождения, член партии с 1905 года, член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) в 1934–1939 годах. Некая Иванова в сообщении Комарова – абсолютно анонимна. Нет ни инициалов, ни года вступления в партию. Зато она сообщает не только очень устраивающие следствие подробности со слов Короткова, но и сама утверждает, что слышала из кабинета Берии не один, а два выстрела. Тем самым как бы опровергалась возможность, что Ханджян мог застрелиться в кабинете в присутствии Берии: дважды подряд в себя самоубийцы обычно не стреляют. О третьем члене комиссии – Синайском-Михайлове в записке тоже ничего не говорится. Жив он, умер? Коротков же, со слов Ивановой, ведет себя более чем странно. Он прямо говорит своим коллегам, что Ханджяна убил «иезуит Берия», даже рисует, как именно это произошло, но категорически отказывается сообщить об этом в Москву (а что кто-то из товарищей, которым он проболтался, донесет, выходит, не боялся!). Но если бы все происходило так, как описала Иванова, Коротков становился опаснейшим для Берии свидетелем, которого Лаврентий Павлович должен был бы постараться убрать при первой возможности. И возможность, кстати сказать, была. Ведь Иван Иванович работал под непосредственным руководством Ежова как председателя КПК. Арестовывать Ежова выпало Берии. Если бы захотел, Лаврентий Павлович вполне мог бы присоединить Короткова к делу Ежова как одного из активных проводников репрессий по партийной линии и расстрелять в ускоренном порядке по приговору Особого совещания. Не такая уж большая сошка был Иван Иванович, чтобы санкцию на его арест и расстрел надо было спрашивать у Сталина. Но никаким преследованиям Коротков не подвергся. Из КПК ему, правда, пришлось уйти, как бывшему подчиненному Ежова. В 1939–1944 годах он был директором… чего вы думаете? – Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Затем вышел на пенсию и тихо умер в Москве в 1949 году. Столь благополучная судьба в те суровые годы – косвенное доказательство того, что на самом деле Коротков не видел ничего того, что ему приписала Иванова. И Берия его, равно как и Ханджяна, никогда не собирался убивать.
Также бывший чекист Сурен Газарян, прошедший колымские лагеря и винивший в своих злоключениях Берию, подробно коснулся в своих мемуарах обстоятельств гибели Ханджяна. И тут всплывают некоторые любопытные детали: «Секретарь ЦК КП Армении Агаси Ханджян что-то не проявляет склонности быть послушным орудием в руках Берия. Надо его убрать. Берия посылает своих людей в Армению со специальным заданием: добиться компрометации Ханджяна с тем, чтобы иметь основание убить его. Нельзя читать без возмущения показания подручного Берии Жоры Цатурова, знавшего Берия по совместной работе в ГПУ Грузии и Закавказья, о том, как он приехал в Армению в качестве одного из секретарей ЦК и какие интриги вел вокруг Ханджяна. Но Ханджян пользовался большим авторитетом не только среди партийных кругов, но и во всем народе. Интриги не помогли, авторитет Ханджяна не пострадал.
Ну что ж, тем хуже для Ханджяна. Цель оправдывает средства.
Ханджяна надо убрать любыми средствами. Только такой изверг, как Берия, мог придумать подлый план убийства Ханджяна и выполнить этот план своими собственными руками.
А план был разработан до мельчайших подробностей.
Ханджян был вызван из Еревана в Тбилиси на заседание Заккрайкома. В тот же вечер, после заседания крайкома, мы узнали, что Ханджян покончил жизнь самоубийством. Говорили о подробностях, о том, что Ханджян задумал самоубийство еще в Ереване, что в его кармане обнаружены два письма, написанные в Ереване перед выездом в Тбилиси. Одно письмо адресовано жене Розе Виндзберг, в котором Ханджян прощается с женой, другое на имя Берия. В этом письме Ханджян якобы сообщает Берия, что запутался и не нашел себе другого выхода.
Все это было предусмотрено для инсценировки самоубийства.
Товарищи и друзья, которые хорошо знали Ханджяна, недоумевали: как мог такой несгибаемый человек спасовать перед трудностями, «запутаться» и поднять на себя руки.
Спустя четверть века было установлено, что Ханджян был убит собственноручно Берия в его служебном кабинете.
Берия проливал крокодиловы слезы над своей жертвой и отправил тело Ханджяна в Ереван с почестями.
Не впервые Берия проливал крокодиловы слезы над своей жертвой. Еще не остыл труп отравленного им Нестора Лакоба.
Авторитет Лакоба, председателя ЦИК Абхазии, не давал покоя Берия. Отравленного Лакоба он тоже торжественно отправил в Сухуми и похоронил в центре города для того, чтобы в 1937 году сровнять эту могилу с землей.
После убийства Ханджяна в Армению секретарем ЦК был послан Гайк Аматуни, но, как видно, он не выдержал «испытания», в 1937 году был арестован и расстрелян. Тогда Берия послал в Армению своего ставленника Григория Арутинова».
Арутинов, кстати сказать, легко отделался. На июльском пленуме 1953 года он охарактеризовал Берию как «карьериста и человека, который любыми средствами мог бы совершить все против партии, против государства ради захвата власти». И его лишь сняли с поста секретаря ЦК Компартии Армении, но ни исключать из партийных рядов, ни судить не стали. Григорий Артемьевич тихо скончался в своей постели в 1957 году.
Из свидетельства Газаряна, искренне верившего, что Ханджяна погубил Берия, видно, что были и предсмертные письма погибшего жене и Берии, о которых, вероятно, рассказали Газаряну друзья-чекисты. Лично я не сомневаюсь, что эти письма подлинные, а не какие-нибудь «бериевские фальшивки». Всего через полтора месяца такие же покаянные письма перед тем, как пустить себе пулю в сердце, написал бывший член Политбюро и бывший лидер советских профсоюзов М.П. Томский (Ефремов), соратник Бухарина. Его имя было упомянуто на процессе Зиновьева и Каменева, и Михаил Павлович решил не ждать неизбежного ареста и казни. В предсмертном письме он старался убедить Сталина в своей невиновности: «Я обращаюсь к тебе не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу, и вот моя последняя просьба – не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ними не входил, никаких заговоров против правительства я не делал… Не верь клевете и болтовне перепуганных людей… Не забудьте о моей семье…» А в постскриптуме еще просил не придавать серьезного значения своей пьяной выходке, когда в 1928 году сгоряча угрожал ему, Сталину, пулями. Иосиф Виссарионович ни «пуль» не забыл, ни просьбы Томского о семье, посадив его жену и детей. И в сообщении ЦК ВКП(б) о самоубийстве Томского, как и в аналогичном сообщении Заккрайкома о самоубийстве Ханджяна, говорилось, что он совершил этот акт, «запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами».
Ханджян же, вопреки мнениям наивного Газаряна и не столь наивного Комарова, имел очень серьезные основания летом 1936-го свести счеты с жизнью. Он знал об аресте Каменева и Зиновьева, о том, что готовится процесс по обвинению их в заговоре с целью убийства Кирова. А у Ханджяна были все основания опасаться, что его объявят зиновьевцем. В 1922–1925 годах Агаси Гевондович был заведующим агитационно-пропагандистским отделом Выборгского райкома партии в Ленинграде, а с 1925 года стал заведующим орготделом Московско-Нарвского райкома. Ленинградскую парторганизацию в то время возглавлял Г.Е. Зиновьев, и, естественно, такие должности, как завотделом в городском райкоме, мог занимать только человек, разделявший линию Григория Евсеевича. Ханджян, конечно, успел вовремя отмежеваться от Зиновьева. Иначе Агаси Гевондовича никогда бы не послали руководить Компартией Армении. Но теперь, с началом Большой чистки, оппозиционерам припоминали старые грехи. Так что, скорее всего, Ханджян ускорил свой конец лишь на несколько месяцев. Не исключено, что и чемодан с вещами для дальнего путешествия он взял с собой в Тбилиси только потому, что всерьез опасался, что придется сразу же ехать в Москву, только под конвоем. И Берии, какие бы острые конфликты ни возникали у него с главой армянских коммунистов, не было нужды убивать того, кого в самом скором времени все равно расстреляли бы, так сказать, в официальном (не скажу – в законном) порядке.
А еще, как кажется, Лаврентий Павлович оказался гуманнее Иосифа Виссарионовича и вдову Ханджяна, похоже, сажать не стал. По крайней мере, в своей записке Комаров ни разу не упоминает, что Роза Винзберг (или Виндзберг) была репрессирована.
Повторю, что на XX съезде Хрущев все-таки не решился обвинить Берию в убийстве Ханджяна. Он сделал это лишь пять лет спустя, в 1961 году, на XXII съезде партии. Тогда делегаты в своем большинстве уже представляли собой новое поколение руководителей, лояльных Никите Сергеевичу.
Замечу, что добивавшейся восстановления в партии мужа Р. Винзберг выгоднее было представить Ханджяна не самоубийцей, а жертвой расстрелянного к тому времени «врага народа» Берии. Самоубийство безусловно осуждалось коммунистической партийной этикой. Кроме того, версия об убийстве снимала вопрос о зиновьевском прошлом Ханджяна, что могло послужить препятствием к его реабилитации. Ведь троцкистов и зиновьевцев, равно как и бухаринцев, тогда еще не реабилитировали. Тот же Томский был восстановлен в партии только в 1988 году. Прокурору же Руденко было очень лестно изобличить Берию еще и как человека, лично расстреливавшего людей.
Той же цели служили возникшие уже после казни Берии слухи о том, что он будто бы отравил Нестора Лакобу. Тут уж даже видимости каких-то доказательств не было.
Любой диктатор-правитель, любой палач-каратель, сколько бы преступлений он ни совершил, получает в нашем сознании образ законченного злодея лишь тогда, когда мы узнаем, что он кого-то убил собственными руками. Убийства на бумаге, с помощью письменных приказов и директив, пусть даже сотен тысяч и миллионов людей, воспринимаются немного не так, как гибель одного, но зато от пули, выпущенной самим злодеем. По этой же причине Гитлера обвиняли в том, будто он лично расстрелял в 1934 году своего бывшего друга и вождя штурмовиков Эрнста Рема, хотя никакими свидетельствами это не подтверждается. По той же причине Сталину пытались приписать убийство собственной жены Надежды Аллилуевой или Серго Орджоникидзе. Германский фюрер и советский генсек истребили миллионы людей, но только по письменным директивам или по словесным приказам без номера и руками тысяч палачей, а не своими собственными руками.
Пожалуй, главной отличительной чертой Берии при проведении репрессий 1937–1938 годов было то, что он, в отличие от большинства партийных секретарей, имел огромный опыт оперативно-чекистской работы. Поэтому Лаврентий Павлович сам вникал во все тонкости следствия и писал весьма красноречивые записки следователям: «Крепко излупить Жужунава. Л. Б.»; «Взять крепко в работу»; «Взять в работу… и выжать все»; «Взять его еще в работу, крутит, знает многое, а скрывает». Кстати сказать, Василий Георгиевич Жужунава был кадровым чекистом с 1928 года, а в 1937 году занимал пост наркома внутренних дел Абхазии. На этот пост Жужунаву назначили уже при Ежове, но заместителем начальника Абхазского управления наркомата внутренних дел назначили еще при Ягоде. Очевидно, его арест был произведен по инициативе Ежова в рамках перманентно проводившейся при нем чистке НКВД от ягодинских выдвиженцев. Но в случае с Жужунавой нельзя не отметить одну странность. Уволен из органов внутренних дел он был еще в декабре 1937 года, а исключили из партии и арестовали его как «врага народа» только в июне 1938 года. Возможно, Берия, под чьим непосредственным руководством Василий Георгиевич начинал свою нелегкую чекистскую службу в секретно-политическом отделе ГПУ Грузии в 1928 году, пытался отстоять своего бывшего сотрудника и не допустить его ареста. Основания беспокоиться за его судьбу у Лаврентия Павловича наверняка были. Ведь еще в 1920–1921 годах Жужунава был управляющим делами наркомата продовольствия Азербайджанской ССР. В этой должности он, несомненно, много общался с Берией, и в случае ареста из него легко можно было бы выбить компрометирующие Лаврентия Павловича показания. Уж Берия-то хорошо знал, как это делается. Так что у Берии, вероятно, были серьезные основания бороться за Жужунаву. Но он не преуспел в этом деле и теперь всячески старался показать, что выбьет показания из врага народа любой ценой.
Между прочим, следствие по делу Жужунавы велось как раз летом 1938 года, перед самым переездом Берии в Москву. Так что в каким-либо либерализме его заподозрить было сложно. Судьба же Жужунавы неясна до сих пор, равно как и время, место и обстоятельства его смерти. То ли Василия Георгиевича успели расстрелять, то ли дожил он до бериевской оттепели и отделался сколькими-то годами ГУЛАГа, где, быть может, и сгинул в безвестности.
Вот когда Лаврентий Павлович попал в Москву, стал членом Политбюро, там уже билет на вход был в другую цену. Для всех тех, кто был членом сталинского Политбюро (позднее – Президиума Политбюро) в 1939–1952 годах, норма загубленных человеческих душ составляла уже несколько десятков, если не сотен тысяч человек. Берия и эту норму честно выполнил, хотя столь всеобъемлющей чистки, как при Ежове, уже не было. Но тут подоспели и польские офицеры, и другие «враги народа» с территорий, присоединенных к СССР в 1939–1945 годах, и «наказанные народы», и «точечные» репрессии против бывших соратников Ежова, провинившихся военных, деятелей культуры, вроде Бабеля и Мейерхольда, и многих других.
Бериевская оттепель
Весной 1938 года Сталин окончательно решил сместить Ежова с поста наркома внутренних дел. Большую чистку пора было постепенно сворачивать, а ее главного исполнителя – отправлять сначала в политическое, а затем и в физическое небытие. Уже 8 апреля 1938 года Ежова по совместительству назначили наркомом водного транспорта. Николаю Ивановичу пришлось забрать в новый наркомат многих преданных ему людей в центральном аппарате НКВД, что объективно ослабило его позиции в карательном ведомстве. Одновременно это помогло Сталину совершенно естественным образом поставить вопрос о необходимости укрепления руководства НКВД новыми кадрами. А самым подходящим кандидатом на пост первого заместителя Ежова Сталин счел Берию. Во-первых, человек ему безусловно преданный. Во-вторых, в отличие от Николая Ивановича, Лаврентию Павловичу чекистского опыта было не занимать: долгие годы возглавлял ГПУ Грузии, был и во главе закавказских чекистов. И этот опыт, в частности, в свете надвигавшейся войны мог пригодиться для операций за рубежом. Но главными, конечно же, при назначении Берии были соображения внутреннего порядка. Ежова и его людей требовалось как можно скорее убрать и из НКВД, и из жизни. А уж Лаврентий Павлович, с его-то опытом, легко разберется, кого из чекистов казнить, а кого миловать, да и по старой памяти быстро сможет заменить выбывших из строя ежовских выдвиженцев хорошо знакомыми ему кадрами закавказских чекистов.
И, как по заказу, для смещения Ежова представился замечательный повод. В июне 1938 года сбежал к японцам начальник Дальневосточного управления внутренних дел Г.С. Люшков, не без оснований опасавшийся ареста. Ежов понял, что скоро настанет его черед. В письме-исповеди Сталину в конце ноября, уже после своего удаления из НКВД, Николай Иванович писал: «Решающим был момент бегства Люшкова. Я буквально сходил с ума. Вызвал Фриновского и предложил вместе поехать докладывать Вам. Один был не в силах. Тогда же Фриновскому я сказал: «Ну, теперь нас крепко накажут…» Я понимал, что у Вас должно создаться настороженное отношение к работе НКВД. Оно так и было. Я это чувствовал все время».
Случай с Люшковым послужил предлогом для назначения 22 августа Берии первым заместителем наркома внутренних дел. Прежние руководители НКВД сделали отчаянную попытку свалить Лаврентия Павловича. В покаянном письме Сталину Ежов признался: «Переживал… назначение т. Берия. Видел в этом элемент недоверия к себе, однако, думал все пройдет. Искренне считал и считаю его крупным работником, я полагал, что он может занять пост наркома. Думал, что его назначение – подготовка моего освобождения (правильно думал! – Б. С.)… Фриновский советовал: «Держать крепко вожжи в руках. Не хандрить, а взяться крепко за аппарат, чтобы он не двоил между т. Берия и мной. Не допускать людей т. Берия в аппарат». Фриновский в начале 30-х работал председателем ГПУ Азербайджана и часто конфликтовал с Берией как с одним из руководителей Закавказского ГПУ. Теперь Михаил Петрович предупреждал Ежова, какой опасный это враг. Решено было представить Сталину компрометирующий материал на Берию – данные о его службе в мусаватистской контрразведке. Однако Сталин уже был в курсе, как обстояло дело в действительности (вспомним письмо Павлуновского), да и судьбу Ежова он давно предопределил.
На долю Берии выпала задача умерить размах репрессий. 8 сентября 1939 года другой первый заместитель наркома внутренних дел М.П. Фриновский был назначен наркомом Военно-Морского Флота, а 29 сентября в ведение Берии перешло Главное управление Государственной Безопасности. К началу октября Ежов практически утратил контроль над основными структурами наркомата внутренних дел.
Члены ЦК и правительства в одночасье прозрели. В постановлении от 17 ноября 1938 года утверждалось: «Массовые операции по разгрому и выкорчевыванию вражеских элементов, проведенные НКВД в 1937–1938 годах, при упрощенном ведении следствия и суда не могли не привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов НКВД и прокуратуры… Работники НКВД настолько отвыкли от кропотливой, систематической агентурно-осведомительной работы и так вошли во вкус упрощенного порядка производства дел, что до самого последнего времени возбуждают вопросы о предоставлении им так называемых «лимитов» для производства массовых арестов». Был осужден сам упрощенный порядок расследования, когда «следователь ограничивается получением от обвиняемого признания своей вины и совершенно не заботится о подкреплении этого признания необходимыми документальными данными», а «показания арестованного записываются следователями в виде заметок, а затем, спустя продолжительное время… составляется общий протокол, причем совершенно не выполняется требование… о дословной, по возможности, фиксации показаний арестованного. Очень часто протокол допроса не составляется до тех пор, пока арестованный не признается в совершенных им преступлениях». Теперь НКВД и прокуратуре запрещалось осуществлять массовые операции по арестам и выселению. Любые аресты разрешалось производить только с санкции прокуратуры или постановления суда. Ликвидировались также судебные тройки, выносившие приговоры по упрощенной процедуре, без участия защиты и обвинения. Все дела от троек передавались в суды или в Особое совещание при НКВД СССР. От следователей потребовали соблюдения уголовно-процессуальных норм, а именно: завершать расследование в установленные законом сроки, допрашивать арестованных не позднее чем через 24 часа после их задержания и составлять протокол сразу же после окончания допроса.
Поняв, что его песенка спета, Николай Иванович, по русскому обычаю, ушел в запой. 23 ноября 1938 года он подал прошение об отставке. 24 ноября Политбюро освободило Ежова от должности наркома внутренних дел, сохранив за ним уже ничего не значившие посты секретаря ЦК, председателя Комитета партийного контроля и наркома водного транспорта. Преемником Ежова в НКВД стал Берия. В апреле 1939-го Николая Ивановича арестовали. Люди Лаврентия Павловича отделали Николая Ивановича на славу. 2 февраля 1940 года в своем последнем слове Ежов перед лицом неминуемого расстрела утверждал: «Вчера еще в беседе с Берия он мне сказал: «Не думай, что тебя обязательно расстреляют. Если ты сознаешься и расскажешь все по-честному, тебе жизнь будет сохранена». После разговора с Берия я решил, лучше смерть, но уйти из жизни честным и рассказать перед судом только действительную правду. На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили и применяли ко мне избиения». Разумеется, отказ от выбитых на следствии признаний в шпионаже и заговоре никак не повлиял на судьбу «стального наркома». 4 февраля 1940 года Николая Ивановича расстреляли.
25 ноября 1938 года Сталин специальной шифрограммой известил о переменах, происшедших в НКВД, первых секретарей компартий республик, а также обкомов и крайкомов: «В середине ноября текущего года в ЦК поступило заявление из Ивановской области от т. Журавлева (начальника НКВД) о неблагополучии в аппарате НКВД, об ошибках в работе НКВД, о невнимательном отношении к сигналам с мест, предупреждающим о предательстве Литвина, Каменского, Радзивиловского, Цесарского, Шапиро (того самого, которому приходилось разбираться с делом Сефа. – Б. С.) и других ответственных работников НКВД, о том, что нарком т. Ежов не реагирует на эти предупреждения, и т. д.
Одновременно в ЦК поступили сведения о том, что после разгрома банды Ягоды в органах НКВД СССР появилась другая банда предателей, вроде Николаева, Жуковского, Люшкова, Успенского, Пассова, Федорова (всех их, кроме застрелившегося Литвина и сбежавшего к японцам Люшкова, довелось расстреливать уже Берии. – Б. С.), которые запутывают нарочно следственные дела, выгораживают заведомых врагов народа, причем эти люди не встречают достаточного противодействия со стороны т. Ежова.
Поставив на обсуждение вопрос о положении дел в НКВД, ЦК ВКП(б) потребовал от т. Ежова объяснений. Тов. Ежов подал заявление, где он признал указанные выше ошибки, признал кроме того, что он несет ответственность за то, что не принял мер против бегства Люшкова (УНКВД Дальнего Востока), бегства Успенского (нарком НКВД Украины) (через полгода Успенского поймали люди Берии. – Б. С.), признал, что он явно не справился со своими задачами в НКВД, и просил освободить его от обязанностей наркома НКВД, сохранив за ним посты по Наркомводу и по линии работы в органах ЦК ВКП(б).
ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу т. Ежова, освободил его от работы в НКВД и утвердил наркомом НКВД СССР по единодушному предложению членов ЦК, в том числе и т. Ежова, – нынешнего заместителя НКВД тов. Берия Л.П.
Текст заявления т. Ежова получите почтой.
С настоящим сообщением немедленно ознакомить начальников НКВД».
Смена власти в наркомате прошла без сучка и задоринки. Не только ни один из начальников областных и республиканских управлений внутренних дел не выступил в защиту Ежова и уж тем более не попытался поднять мятеж против Сталина, но даже никто из них не попытался сбежать, как это ранее сделали Люшков (удачно) и Успенский (неудачно). Чекисты ежовского призыва покорно ждали своей участи, как бараны, приведенные на бойню, и мало кто из них уцелел. Берия по приказу Сталина произвел широкомасштабную «смену караула» в своем ведомстве. А выход из системы на генеральском уровне был один: самоубийство или расстрел. Живых свидетелей прежних бессудных казней предпочитали не оставлять в живых.
26 ноября Берия в качестве главы НКВД подписал приказ о порядке осуществления постановления от 17 ноября. Из тюрем освобождались те арестованные, кто так и не признал свою вину, а также многие из тех, на кого не было других улик, кроме выбитых следователями признаний, от которых они впоследствии отказались. В 1939 году Берия издал ряд приказов о снятии с должностей и преданию суду работников НКВД, виновных в фальсификации уголовных дел. 9 ноября 1939 года появился приказ «О недостатках в следственной работе органов НКВД», предписывавший освободить из-под стражи всех незаконно арестованных и установить строгий контроль за соблюдением уголовно-процессуальных норм.
Бериевские выдвиженцы, которых он в августе 1938-го захватил с собой в Москву, заняли ответственные посты в системе НКВД. Богдан Кобулов, бывший заместитель наркома внутренних дел Грузии, еще 29 сентября 1938 года был назначен начальником 2-го отдела Главного управления госбезопасности. А 17 декабря того же года Богдан Захарович стал заместителем начальника ГУГБ и начальником следственной части НКВД. Его брат Амаяк еще в сентябре 1938-го был всего лишь начальником райотдела НКВД в Гаграх. Но уже в октябре он стал исполнять обязанности наркома внутренних дел Абхазии, а 7 декабря был назначен первым заместителем наркома внутренних дел Украины. Бывший нарком внутренних дел Грузии С.А. Гоглидзе стал главой Ленинградского НКВД. Новым наркомом внутренних дел Грузии Берия сделал А.Н. Рапаву, бывшего главу Совнаркома Абхазии, начинавшего свою карьеру в Грузинском ЧК уполномоченным Особого отдела еще в 1924 году. Бывшего заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Компартии Грузии В.Н. Меркулова Лаврентий Павлович сделал своим первым заместителем и начальником Главного управления государственной безопасности. Всеволод Николаевич был не только кадровым чекистом с 1921 года и служил под началом Берии в Грузинском ГПУ. Он писал неплохие пьесы под псевдонимом «Всеволод Рокк» (не знаю, повлияло ли на выбор псевдонима знакомство с повестью Михаила Булгакова «Роковые яйца», где персонажа, вызвавшего из-за собственной небрежности катастрофический поход на Москву гигантских гадов, зовут Александр Семенович Рокк). Меркуловская пьеса «Инженер Сергеев» – о борьбе с «фашистскими шпионами» с успехом шла в столичных театрах. А вот под своим именем Всеволод Николаевич выпустил брошюру «Лаврентий Берия – верный сын партии Ленина – Сталина». В феврале 1941-го с подачи Лаврентия Павловича Меркулова назначили наркомом государственной безопасности СССР. Правда, в дальнейшем Берия разочаровался в его деловых качествах и, возможно, стал одним из инициаторов его смещения с поста главы органов госбезопасности после Великой Отечественной войны. Еще один соратник Берии по Закавказью, бывший глава Госплана Грузии В.Г. Деканозов, в декабре 1938 года стал начальником разведывательного и контрразведывательного отделов и заместителем начальника ГУГБ НКВД. Владимир Георгиевич работал вместе с Лаврентием Павловичем еще в бакинском подполье.
Это только некоторые, наиболее известные из тех, кто работал вместе с Берией в Закавказье, а потом занял важные позиции в центральном аппарате НКВД. Сам Лаврентий Павлович после XVIII съезда партии в марте 1939 года был избран кандидатом в члены Политбюро, как Ежов в 1937-м.
Точные данные о числе освобожденных из тюрем в 1938–1941 годах в рамках так называемой «бериевской оттепели» до сих пор не опубликованы, равно как и сведения о числе арестованных в этот же период по политическим обвинениям. Серго Берия полагает, что первых было 750–800 тысяч, вторых – 20–25 тысяч. В точности этих цифр позволительно усомниться. Не очень верится, что выпускали сотни тысяч, а сажали лишь десятки тысяч. Во всяком случае, в период с 1 января 1939 года по 1 января 1941 года численность осужденных за контрреволюционную деятельность, находящихся в исправительно-трудовых лагерях, сократилась только на 34 тысячи человек. До этого за один только 1938 год она возросла почти в два с половиной раза – с 185 до 454 тысяч. Число заключенных в тюрьмах с приходом Берии сначала уменьшилось – с января по сентябрь 1939 года с 351 до 178 тысяч. Зато уже с сентября их число вновь стало расти – пошел поток арестованных с «освобожденных территорий» – Западной Украины и Западной Белоруссии, а позднее – из Прибалтики и Бессарабии. Кроме того, в тюрьмы с лета 1940-го стали помещать заключенных на срок от 2 до 4 месяцев за опоздание на работу, выпуск недоброкачественной продукции, прогулы и т. п. Таких к 1 декабря 1940 года насчитывалось 133 тысячи. В результате в январе 1941-го тюремное население достигло максимума – 488 тысяч, чтобы опять сократиться к маю до 333 тысяч. К тому времени многих арестованных успели осудить и отправить в лагеря. Всего же из исправительно-трудовых лагерей в 1939–1940 годах были освобождены 540 тысяч заключенных. Для сравнения: в 1937–1938 годах лагеря покинули 644 тысячи человек. Наибольшее число зэков обрели свободу в 1941 году – 624 тысячи, однако здесь мощным фактором явилась война. Значительную часть мужчин из лагерей досрочно освободили, чтобы восполнить колоссальные потери, которые несла Красная Армия на фронте. Кроме того, большинство освобожденных имели не политические, а уголовные статьи и освобождались в связи с истечением срока заключения, а не из-за реабилитации или амнистии. О числе реабилитированных в тот период узников имеются лишь отрывочные сведения. Так, на 1 января 1941 года на Колыме находились 34 тыс. освобожденных из лагерей, из них 3 тысячи считались полностью реабилитированными. Ясно, однако, что общее число реабилитированных и амнистированных по политическим статьям могло составить десятки, но никак не сотни тысяч человек.
Вот количество расстрелянных с приходом Берии действительно уменьшилось на порядок. За весь период 1921–1953 годов к смертной казни по политическим статьям были приговорены 786 098 человек. Из этого числа на 1937–1938 годы приходится 681 692 расстрелянных, из них 631 897 – по приговорам внесудебных троек. Таким образом, почти половина из 1 372 тыс. арестованных за «контрреволюционные преступления» в период «ежовщины» были казнены. А всего за два с небольшим года пребывания в НКВД печальной памяти Николая Ивановича Ежова были расстреляны почти семь восьмых от общего числа приговоренных к смерти по политическим статьям за три десятилетия сталинского правления. Но нельзя сказать, что в прекращении террора повинен Берия. Решения принимал не он, а Сталин. Однако столь же неосновательно за позднейшие репрессии возлагать ответственность на одного Лаврентия Павловича. Ее с ним по справедливости должны разделить Сталин и другие члены высшего политического руководства страны.
Из более чем 104 тысяч, расстрелянных в 1921–1936 и в 1939–1953 годах, львиная часть приходится на время, когда во главе НКВД был Берия. В «вегетарианские» 20-е и первую половину 30-х годов число казненных по политическим мотивам вряд ли превышало 1–2 тыс. человек. Правда, сюда, очевидно, не входят жертвы коллективизации, в том числе расстрелянные при подавлении вызванных ей восстаний. Таких могло быть несколько десятков тысяч человек. Также и после войны, при Абакумове и Игнатьеве, число расстрелянных составило лишь несколько тысяч человек. Таким образом, число казненных в период пребывания Берии на посту наркома внутренних дел можно оценить немного меньше, чем 100 тыс. человек. Правда, необходимо заметить, что официальные цифры казненных в эти годы преуменьшены на несколько десятков тысяч. Так, согласно архивным данным, которые приводит историк М.И. Семиряга, в 1939–1940 годах были казнены по политическим мотивам только 4464 человека. Между тем, только в 1940 году были казнены почти 22 тысячи польских офицеров и гражданских лиц – представителей интеллигенции и имущих классов. Также вряд ли попали в официальную статистику тысячи политзаключенных, расстрелянных при эвакуации из тюрем в западных областях, подвергшихся германской оккупации. Эти расстрелы были санкционированы Берией. Так, только к 12 июля 1941 года в Львовской области «убыло по 1-й категории» (как мы помним, эвфемизм расстрела в документах НКВД) 2464 политзаключенных, в Дрогобычской области – 1101, в Станиславской области – 1000 человек, в Тарнопольской области – 674, и еще 18 были убиты «при попытке к бегству», в Ровенской области – 230, в Волынской области – 231, в Черновицкой области – 16, в Житомирской области – 47, в Киевской области – 125. Такова была картина на Украине. В Белоруссии из-за быстрого наступления немцев во многих тюрьмах никого из «политических» «оприходовать по 1-й категории» не успели. В своем рапорте от 3 сентября 1941 года заместитель начальника тюремного управления НКВД Белоруссии М.П. Опалев сообщал, что только политрук тюрьмы города Ошмяны Клименко и помощник уполномоченного Авдеев по своей инициативе успели расстрелять 30 человек, обвинявшихся в «контрреволюционных преступлениях», но вот зарыть трупы не успели, что было поставлено им в вину (следы преступлений старались замаскировать). Кроме того, начальник тюрьмы города Глубокое Приемышев расстрелял при движении пешим порядком 600 заключенных-поляков, которые будто бы кричали: «Да здравствует Гитлер!» Последнее кажется совершенно невероятным, учитывая как нелюбовь поляков к Гитлеру, так и то, что дело происходило в советском тылу. Вероятнее всего, Приемышев это выдумал, чтобы оправдать расстрел. Его арестовали, но член Военного совета Центрального фронта П.К. Пономаренко признал действия Приемышева правильными и из-под стражи освободил. По всей вероятности, кто-то из политических заключенных был расстрелян в тюрьмах Молодечно, Пинска, Полоцка, Витебска, Гомеля, Мозыря, Могилева и некоторых других городов, из которых узников удалось эвакуировать на восток. Однако данных о числе «убывших по 1-й категории» по этим тюрьмам нет.
Таким образом, только по тем украинским и белорусским тюрьмам, по которым имеется информация, число ликвидированных политзаключенных составляет более 6,5 тысяч. А ведь расстреливали несчастных зэков и в других областях и республиках, подвергшихся немецкой оккупации. Да и в 1939–1940 годах не попавшими в официальную цифру 786 тысяч расстрелянных могли оказаться не только 22 тысячи поляков, но и тысячи, если не десятки тысяч других жителей присоединенных к СССР территорий. С учетом этих недоучтенных жертв общее число уничтоженных при участии Берии, возможно, достигает 150 тысяч, а если добавить сюда погибших при депортации наказанных народов, – наверняка превышает 200 тысяч. Цифра солидная. Она меньше, чем у Ежова, и, вероятно, примерно такая же, как и у других тогдашних членов Политбюро. Как мы увидим дальше, решение о расстреле поляков в Катыни было коллективным. Можно предположить, что и другие решения о массовых казнях и депортациях Сталин заставлял подписывать и своих коллег по Политбюро, чтобы связать всех кровавой круговой порукой.
Добавим сюда, что только военнослужащих и только в судебном порядке за годы Великой Отечественной войны расстреляно почти 158 тыс. Сколько же человек были расстреляны без суда в боевой обстановке, неизвестно до сих пор. Сам Берия в письме из заключения членам Президиума ЦК КПСС упоминал о десятках тысячах военнослужащих, расстрелянных в 1941-м.
В целом «бериевская оттепель» не повлияла сколько-нибудь существенным образом на численность заключенных, в том числе и политических. Тем не менее освобождение нескольких тысяч уцелевших при Ежове представителей партийной и военной элиты отразилось в общественном сознании и породило миф о массовом освобождении политических из лагерей. На самом деле более или менее значительное количество освобожденных политических заключенных было лишь из тюрем, где сидели те, кому еще не успели вынести приговор. Отменять прежние судебные и внесудебные решения Сталин, за редкими исключениями, не позволил, чем и объясняется ограниченный характер «бериевской оттепели».
Придя на Лубянку, Берия не только освобождал тех, кого не успел расстрелять Ежов. Репрессии продолжались, хотя и с меньшей интенсивностью, чем при «железном наркоме». Еще будучи первым заместителем Ежова, Берия вел дело маршала В.К. Блюхера, обвиненного в участии в «военно-фашистском заговоре» и в шпионаже в пользу Японии. Если бы Сталин все-таки решил устроить в дальнейшем над Ежовым показательный процесс, то Блюхер представлялся идеальной кандидатурой в качестве одного из подсудимых: Василия Константиновича можно было обвинить в огульном избиении кадров ОКДВА, в чем маршал немало преуспел, наивно рассчитывая выкупить свою голову, над которой нависла смертельная опасность после бездарно проведенных боев у Хасана, чужими шеями.
Почти сразу же после ареста и еще до первых очных ставок Блюхера стали жестоко избивать. Маршал, сам отправивший на смерть Тухачевского, Якира и прочих, прекрасно понимал, что признание вины все равно не спасет от смертной казни. И чекисты сразу принялись за физическую обработку арестованного, зная, что добровольно признаваться в мнимых преступлениях по расстрельным статьям он ни за что не будет.
Соседом Блюхера по лубянской камере совсем не случайно оказался бывший начальник Управления НКВД по Свердловской области Д.М. Дмитриев (Плоткин) (расстреляли Дмитрия Матвеевича уже в бытность Берии наркомом, в марте 1939-го). После ареста в рамках исподволь начавшейся кампании по постепенной замене людей Ежова людьми Берии он выполнял малопочтенную роль «наседки» и уговаривал маршала во всем сознаться в призрачной надежде спасти собственную жизнь (разговоры в камере записывались на магнитофон). 26 октября Василий Константинович рассказывал Дмитриеву: «Физическое воздействие… Как будто ничего не болит, а фактически все болит. Вчера я разговаривал с Берия, очевидно, дальше будет разговор с Народным комиссаром». – «С Ежовым?» – переспросил Дмитриев. – «Да, – подтвердил Блюхер. И застонал: – Ой, не могу двигаться, чувство разбитости». – «Вы еще одну ночь покричите, и будет все замечательно», – то ли проявляя участие, то ли издеваясь, заметил чекист.
В тот же день дежурный предупредил Василия Константиновича: «Приготовьтесь к отъезду, через час вы поедете в Лефортово». – «С чего начинать?» – поинтересовался Блюхер. – «Вам товарищ Берия сказал, что от вас требуется, или поедете в Лефортово через час, – пригрозил дежурный. – «Вам объявлено? Да?»
Дмитриев участливо разъяснил Блюхеру: «Вопрос решен раньше. Решение было тогда, когда вас арестовали. Что было для того, чтобы вас арестовать? Большое количество показаний. Раз это было – нечего отрицать. Сейчас надо найти смягчающую обстановку. А вы ее утяжеляете тем, что идете в Лефортово…» – «Я же не шпионил», – оправдывался Блюхер, но у опытного чекиста подобный детский лепет вызвал лишь улыбку.
Дмитриев прекрасно знал, как из подследственных делают шпионов, самому не раз приходилось этим заниматься: «Раз люди говорят, значит, есть основания…» – «Я же не шпион», – доказывал Блюхер. – «Вы не стройте из себя невиновного, – продолжал убеждать Дмитриев. – Можно прийти и сказать, что я подтверждаю и заявляю, что это верно. Разрешите мне завтра утром все рассказать. И все. Если вы решили, то надо теперь все это сделать…» – «Меня никто не вербовал», – робко возразил Василий Константинович.
Такая мелочь не смутила бывшего шефа Свердловского НКВД. Он успокоил маршала – следователь поможет: «Как вас вербовали, когда завербовали, на какой почве завербовали. Вот это и есть прямая установка…» – «Я могу сейчас сказать, что я был виноват», – начал колебаться Блюхер. – «Не виноват, а состоял в организации…» – поправил Дмитриев, знавший, что начальство любит конкретность. – «Не входил я в состав организации, – взорвался Блюхер. – Нет, я не могу сказать…» – «Вы лучше подумайте, что вы скажите Берия, чтобы это не было пустозвоном… – гнул свою линию Дмитриев. – Кто с вами на эту тему говорил? Кто вам сказал и кому вы дали согласие?»
Блюхер попытался вспомнить что-нибудь конкретное: «Вот это письмо – предложение, я на него не ответил. Копию письма я передал Дерибасу (начальнику Управления НКВД по Хабаровскому краю, арестованному летом 1937-го; как можно понять, речь идет либо о письме кого-то из тех, кого Сталин и Ежов причисляли к никогда не существовавшему «правотроцкистскому блоку» Бухарина, Ягоды, Рыкова и др., либо о письме каких-то японских представителей. – Б. С.)».
Дмитриев объяснил: «Дерибас донес… Вы должны сказать». – «Что я буду говорить?» – в отчаянии обратился к сокамернику Василий Константинович. – «Какой вы чудак, ей-богу, – сочувственно улыбнулся Дмитриев. Вы знаете (фамилия заключенного в магнитофонной записи не была расшифрована. – Б. С.)… Три месяца сидел в Бутырках, ничего не говорил. Когда ему дали Лефортово – сразу сказал…» – «Что я скажу?» – потерянно повторил Блюхер. – «Вы меня послушайте, – не обращая внимания на возражения собеседника, уверенно продолжал бывший чекист, – я вас считаю японским шпионом, тем более что у вас такой провал. Я вам скажу больше, факт, доказано, что вы шпион. Что, вам нужно обязательно пройти камеру Лефортовской тюрьмы? Вы хоть думайте».
Но Василий Константинович «правильно думать» не захотел и продолжал «строить из себя невиновного». Его отправили в Лефортово. «Физическое воздействие» на Лубянке должно было показаться оздоровительными процедурами по сравнению с лефортовскими пытками.
И. Русаковская, сидевшая в одной камере со второй женой маршала Г.П. Кольчугиной, рассказывала комиссии ЦК КПСС: «Из бесед с Кольчугиной-Блюхер выяснилось, что причиной ее подавленного настроения была очная ставка с бывшим маршалом Блюхером, который, по словам Кольчугиной-Блюхер, был до неузнаваемости избит и, находясь почти в невменяемом состоянии, в присутствии ее… наговаривал на себя чудовищные вещи… Я помню, что Кольчугина-Блюхер с ужасом говорила о жутком, растерзанном виде, который имел Блюхер на очной ставке, бросила фразу: «Вы понимаете, он выглядел так, как будто побывал под танком».
Бывший начальник санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюм в 1956 году сообщила КГБ, что оказывала медицинскую помощь подследственному Блюхеру. Лицо несчастного было в кровоподтеках, под глазом был большой синяк, а склера глаза была наполнена кровью – так силен был удар.
Бывший начальник Лефортовской тюрьмы Зимин сообщил в 1957 году, что сам видел, как «Берия избивал Блюхера, причем он не только избивал его руками, но с ним приехали какие-то специальные люди с резиновыми дубинками, и они, подбадриваемые Берией, истязали Блюхера, причем он сильно кричал: «Сталин, слышишь ли ты, как меня истязают». Берия же в свою очередь кричал: «Говори, как ты продал Восток».
О том же сообщил в ЦК КПСС бывший заместитель Зимина Харьковец, утверждавший, что на его глазах Берия вместе с Кобуловым (очевидно, Богданом, так как Амаяк тогда еще оставался в Грузии. – Б. С.) избивали Блюхера резиновыми дубинками.
Один из бывших следователей НКВД 12 ноября 1955 года на допросе показал, что когда 5 или 6 ноября 1938 года первый раз увидел маршала, то «сразу же обратил внимание на то, что Блюхер накануне был сильно избит, ибо все лицо у него представляло сплошной синяк и было распухшим. Вспоминаю, что, посмотрев на Блюхера и видя, что все лицо у него в синяках, Иванов тогда сказал мне, что, видно… Блюхеру здорово попало».
«Танковые» методы допросов дали наконец эффект. Блюхер признался в связях с «правыми». В период с 6 по 9 ноября он написал письменные показания о том, что готовил военный заговор. А вот в шпионаже в пользу Японии признаться не успел: умер 9 ноября 1938 года, не выдержав побоев. Официальный диагноз констатировал смерть в результате закупорки легочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза. Стал ли роковой тромб следствием непрерывных истязаний или просто маскировал другой, более откровенный диагноз: смерть от сотрясения мозга или от пролома черепа, например?
Сталину сообщили о смерти Блюхера. Иосиф Виссарионович распорядился тело кремировать. Бывший сотрудник НКВД Головлев сообщил в 1963 году комиссии ЦК КПСС: «В нашем присутствии Берия позвонил Сталину, который предложил ему приехать в Кремль. По возвращении от Сталина Берия пригласил к себе Меркулова, Миронова, Иванова и меня, где он нам сказал, что Сталин предложил отвезти Блюхера в Бутырскую тюрьму для медосвидетельствования и сжечь в крематории». Вождь не использовал для посмертной реабилитации маршала даже последовавшее через две недели после его гибели смещение Ежова. Реабилитировали Блюхера лишь в 1956 году постановлением Военной коллегии Верховного суда СССР «за отсутствием в его действиях состава преступления».
Формально говоря, Блюхера пытались привязать к «военно-фашистскому заговору» Тухачевского, хотя Василий Константинович сам был среди судей, безропотно отправивших на смерть Тухачевского и его товарищей. Но фактически причины репрессий против Блюхера и Тухачевского были принципиально различны.
Готовясь к Второй мировой войне, оснащая Красную Армию тысячами и тысячами танков и самолетов, Сталин произвел в 1937–1938 годах масштабную зачистку высшего командного состава от тех, в чьей стопроцентной лояльности к себе сомневался. Заодно он зачистил и гражданскую номенклатуру, перебирал людишек. Зачистка делалась отнюдь не на случай возможного поражения. О поражении Сталин не думал. Воевать собирались «малой кровью и на чужой территории». Зачистка нужна была в ожидании грядущей победы. Сталин очень хорошо знал историю революций и помнил, что бонапарты рождаются из побед, а не из поражений. Призрак бонапартизма преследовал его всю жизнь. Именно опасения, что кто-то из победоносных маршалов двинет полки на Кремль, заставили Иосифа Виссарионовича инспирировать «дело о военно-фашистском заговоре» и казнить Тухачевского, Якира, Уборевича, Егорова и сотни других командармов и комдивов, комкоров и комбригов, в чьей лояльности в тот момент еще не было никаких оснований сомневаться. Остались только проверенные «конармейцы» – Ворошилов и Буденный, Шапошников и Тимошенко, Мерецков и Жуков, у которых, как полагал Сталин, опасных амбиций в случае победы не возникнет. Правда, насчет Жукова к концу войны он это мнение, похоже, изменил, и уже вскоре после победного 1945-го отправил его в не слишком почетную ссылку. Но не уничтожил, а все-таки сохранил для грядущих боев. Равно как и Мерецкова, арестованного в начале войны, но вскоре освобожденного.
Кстати сказать, на допросе 7 октября 1953 года Берия будто бы утверждал: «Мне вспоминается, что говоря со мной о деле Мерецкова, Ванникова и других, Меркулов преподносил его с позиций своих достижений, что он раскрыл подпольное правительство, чуть ли не Гитлером организованное. Я считаю, что основным виновником в фабрикации этого дела является Меркулов, и он должен целиком нести за это ответственность».
По нашему мнению, к этому времени Берия был уже расстрелян, а протокол допроса сфабриковали сотрудники Хрущева и Маленкова при участии прокурора Руденко и следователя Цареградского, которые вели и реальные допросы Берии. Целью было иметь компромат на Меркулова. Берия-то прекрасно знал, что вопросы об аресте лиц уровня Мерецкова и Ванникова решались по инициативе Сталина, и ему не было смысла вешать все обвинения на Меркулова, от которого он мог опасаться в этом случае получить компрометирующие показания.
Кстати сказать, Хрущев в мемуарах утверждал, что Берия хвастался, что сыграл решающую роль в освобождении Мерецкова: «Берия еще при жизни Сталина рассказывал об истории ареста Мерецкова и ставил его освобождение себе в заслугу. «Я пришел к товарищу Сталину и говорю: «Товарищ Сталин, Мерецков сидит как английский шпион. Какой он шпион? Он честный человек. Война идет, а он сидит. Мог бы командовать»… И вот, – продолжает Берия, – Сталин сказал: «Верно, вызовите Мерецкова и поговорите с ним». Я вызвал его и говорю: «Мерецков, ты же глупости написал, ты не шпион. Ты честный человек, ты русский человек». Мерецков смотрит на меня и отвечает: «Я все сказал. Я собственноручно написал, что я английский шпион. Больше добавить ничего не могу»… [Берия: ] «Ступай в камеру, посиди еще, подумай, поспи, я тебя вызову»… Потом, на второй день я вызвал Мерецкова и спрашиваю: «Ну, что, подумал?» Он стал плакать: «Как я мог быть шпионом? Я русский человек, люблю свой народ». Его выпустили из тюрьмы, одели в генеральскую форму, и он пошел командовать на фронт».
Если все было действительно так, то Никите Сергеевичу могла прийти мысль устами Берии обвинить в аресте Мерецкова Меркулова, раз уж Лаврентий Павлович будто бы заступился за будущего маршала.
Блюхера же Сталин уничтожил просто потому, что маршал стал ему больше не нужен. Василий Константинович очень неудачно действовал во время конфликта с японцами в районе озера Хасан. Командующий Дальневосточной армией с самого начала боев не слишком верил в способность своих войск противостоять японцам. Беда была в том, что красноармейцы воевать не очень-то умели. В приказе Ворошилова по итогам хасанских событий об этом говорилось вполне откровенно: «Виновниками в этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в сравнительно небольшом боевом столкновении чрезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех степеней Дальневосточного Краснознаменного фронта и, в первую очередь, командующий Дальневосточным Краснознаменным фронтом маршал Блюхер. Вместо того, чтобы честно отдать все свои силы делу ликвидации вредительства и боевой подготовки Дальневосточного Краснознаменного фронта и правдиво информировать партию и Главный Военный Совет о недочетах в жизни войск фронта, тов. Блюхер систематически из года в год прикрывал свою заведомо плохую работу и бездеятельность донесениями об успехах, росте боевой подготовки фронта и общем благополучном его состоянии».
Блюхер так и не смог до заключения перемирия отбить у японцев занятую ими сопку Заозерная. Советские потери, по официальным данным, опубликованным только в 1993 году, составили 792 человека убитыми и 2752 ранеными, японские соответственно – 525 и 913, т. е. в 2–3 раза меньше. В приказе Ворошилова справедливо отмечалось: «Боевая подготовка войск, штабов и командно-начальствующего состава фронта оказалась на недопустимо низком уровне. Войсковые части были раздерганы и небоеспособны; снабжение войсковых частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен (дороги, мосты, связь)…».
Такой полководец Иосифу Виссарионовичу был не нужен. И Лаврентий Павлович точно выполнил его указания. Я не исключаю, что, может быть, он забил Блюхера насмерть не от чрезмерного усердия, а по тайному сталинскому приказу. Недаром смерть Блюхера никак не отразилась на карьере Берии, тогда как десятилетие спустя смерть одного из подследственных от чрезмерного усердия палачей привела к падению министра госбезопасности В.С. Абакумова.
На самом деле Сталин уничтожил Блюхера за Хасан. Но судить Блюхера с объявлением об этом в газетах было не очень удобно. Совсем недавно Василий Константинович сам активно боролся с врагами народа и того же Тухачевского на смерть отправил, а теперь вдруг оказался заодно с главой «военно-фашистского заговора»! К тому же советская пропаганда объявила хасанские бои победой Красной Армии. А так все устроилось лучшим образом. Блюхер умер во время следствия. Об аресте его нигде не объявлялось, равно как и о смерти. Маршал просто исчез.
Точно так же вскоре исчез еще один маршал – А.И. Егоров. Арестовали его еще при Ежове, 27 марта 1938 года, а расстреляли уже при Берии, 23 февраля 1939 года. Егоров вместе со Сталиным и Ворошиловым воевал еще в Гражданскую под Царицыном. Сталин ценил Александра Ильича за личную преданность себе, но как военного специалиста ставил не слишком высоко, во всяком случае, ниже Тухачевского. Но как раз преданность Егорова Сталину была поставлена под сомнение, и это решило судьбу маршала. Еще в декабре 1937-го, вскоре после того, как Егоров стал депутатом Верховного Совета и формально обрел депутатскую неприкосновенность, на стол Ворошилова легли доносы Ефима Афанасьевича Щаденко и Андрея Васильевича Хрулева. Два друга согласно утверждали, что Егоров во время товарищеского ужина (отмечали назначение Щаденко заместителем наркома обороны, последовавшее в конце ноября) высказал недовольство тем, что историю Гражданской войны освещают неправильно, его, Егорова, роль умаляют, а роль Сталина и Ворошилова «незаслуженно возвеличивают». Видно, выпили в тот вечер военачальники лишнего, потерял Александр Ильич бдительность, расчувствовался, вот и результат. Время после дела Тухачевского и начала массовых арестов в армии было тревожное. Щаденко и Хрулев могли с перепугу подумать, что Егоров вообще их провоцирует. И в любом случае решили, что сообщить Ворошилову об «идеологически невыдержанном» разговоре просто необходимо. Их доносы оказались решающими в судьбе маршала. Хотя было и еще несколько доносов на Егорова, но вот эти первые имели для Сталина принципиальное значение.
А то, что во время следствия Егоров, как водится, признался и в связях с уже расстрелянными заговорщиками, и в шпионаже в пользу Германии и Польши и назвал множество еще не арестованных коллег в качестве участников заговора, нерасчетливо поверив ежовскому обещанию сохранить жизнь, только помогло оформить приговор Военной коллегии Верховного суда. Берия был тут абсолютно бессилен, даже если бы хотел спасти Егорова (а у нас нет никаких данных, что он этого действительно хотел). Александр Ильич успел еще при Ежове очень много на себя наговорить. Но главное было в том, что его смерти хотел Сталин, не простивший маршалу сказанных сгоряча слов о «незаслуженном возвеличивании» сталинской роли в обороне Царицына.
Еще одну группу военных арестовали в самый канун Великой Отечественной войны. Все началось с приземления немецкого самолета «Юнкерс-52» на Красной площади 15 мая 1941 года. После этого в самый канун войны и в первые ее дни было арестовано несколько генералов, связанных с авиацией и ПВО, в том числе начальник управления ПВО Г.М. Штерн, начальник ВВС Красной Армии П.В. Рычагов, командующий Прибалтийским военным округом А.Д. Локтионов, ранее занимавший должность начальника ВВС Красной Армии, помощник начальника Генштаба по авиации, Я.В. Смушкевич, а также бывший начальник Генштаба К.А. Мерецков и нарком вооружений Б.Л. Ванников. Строго говоря, Берия к этим арестам не имел непосредственного отношения. Борьбой со шпионами и заговорщиками, по большей частью мнимыми, тогда уже занимался наркомат госбезопасности, во главе которого стоял В.Н. Меркулов. Кроме казуса с «юнкерсом», за арестованными генералами были и некоторые другие прегрешения. Так, например, Штерн скрыл свое социальное происхождение, о чем уже после Халхин-Гола, за который был удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза, написал покаянное письмо Ворошилову. Правда, из этого письма невозможно понять, кем же все-таки были родители Григория Михайловича. В анкетах он писал, что его отец был врачом. Можно предположить, что в действительности он оказался каким-нибудь купцом 2-й гильдии.
Были на Штерна, Рычагова и других и доносы. Это не удивительно. В НКВД, а потом в НКГБ собирали материал практически на всех генералов, чтобы при наличии санкции от Сталина дать ему ход. Так, капитан госбезопасности (что соответствовало армейскому полковнику) Тихон Васильевич Пронин в письме секретарю ЦК и члену ГКО Г.М. Маленкову от 3 апреля 1942 года признавался: «В письме товарищу Сталину 29 мая 1941 года я подробно описал о преступной деятельности перед партией и Государством бывших руководителей Военно-Воздушных Сил Красной Армии – Рычагова, Смушкевич, Пумпур и др.». Наверняка подобные же доносы были на Штерна, Мерецкова и других, особенно после того, как стало известно об инциденте с «юнкерсом» и снятии со своих постов Штерна и Рычагова. Но истинной причиной репрессий против генералов-авиаторов стал их провал с немецким самолетом.
Хотя, справедливости ради, надо признать, что сделать они могли немного. Советская ПВО оставалась весьма слабой вплоть до начала 60-х годов, когда на вооружение были приняты зенитно-ракетные комплексы и более совершенные радары. До этого не хватало и постов воздушного наблюдения, и зенитных орудий (в годы войны их получали по ленд-лизу из Америки), и истребителей-перехватчиков, и опытных пилотов. Например, в 1953 году, вскоре после смерти Сталина, большая группа американских самолетов на большой высоте нарушила западные границы СССР, и наша ПВО ничего не смогла с ними сделать.
Ванникову и Мерецкову повезло. Продержав несколько месяцев в тюрьме и заставив признаться в заговоре и шпионаже в пользу Германии, Кирилла Афанасьевича и Бориса Львовича выпустили и восстановили в генеральских званиях. Другим повезло меньше. По представлению Берии Сталин санкционировал расстрел Г.М. Штерна, П.В. Рычагова, А.Д. Локтионова, Я.В. Смушкевича и других арестованных по «делу авиаторов». Это представление, как и ранее, в случае с польскими офицерами, Лаврентий Павлович писал по указанию Сталина. Генералов расстреляли в Куйбышеве 28 октября 1941 года по ложным обвинениям в том, что они являлись заговорщиками и немецкими агентами. Все они во время следствия не выдержали избиений и покаялись в преступлениях, которые не совершали. Потом несчастные отказались от признаний, выбитых из них кулаками и резиновыми дубинками, но это их не спасло.
То, что Берия не по своей воле писал представление о расстреле генералов-авиаторов, косвенно признает и бывший главный военный прокурор СССР А.Ф. Катусев на основе изучения архивов Политбюро: «На множестве примеров удалось установить, что ни один из руководителей партии и старых большевиков не арестовывался без личного указания Сталина, который ревниво следил за тем, чтобы Ягода, Ежов и Берия не превышали своих полномочий. В этом смысле показателен такой факт, как расстрел 8 сентября 1941 года в Орловской тюрьме 161 политического заключенного, в том числе Христиана Раковского, Марии Спиридоновой, Валентина Арнольда, Петра Петровского, Ольги Каменевой и других. Долгое время считалось, что их расстреляли по распоряжению Берии. А что оказалось на самом деле?
В апреле 1990 года Главная военная прокуратура закончила следствие, в ходе которого было обнаружено, что применение высшей меры наказания к 170 заключенным, разновременно осужденным к лишению свободы за контрреволюционные преступления, предписывалось постановлением от 6 сентября 1941 года № 634 сс, подписанным Сталиным как Председателем Государственного Комитета Обороны. Правда, Берия был причастен к этому – он направил Сталину письмо со списком на 170 фамилий и заключением: «НКВД СССР считает необходимым применить к ним высшую меру наказания…». Но, зная повадки Сталина, нельзя исключать, что это письмо Берии появилось по инициативе «Хозяина».
Точно так же было и в случае с поляками, казненными в Катыни, с генералами-авиаторами и многими другими, осуждавшимися по представлениям НКВД, подписанным Берией. Однако трудно сомневаться, что писались эти представления по требованию Сталина.
Счастливо избежавшему смерти Ванникову 20 июля 1941 года выдали даже специальную «охранную грамоту» за подписью Сталина: «Государственный Комитет Обороны удостоверяет, что тов. Ванников Борис Львович был временно подвергнут аресту органами НКГБ, как это выяснено теперь, по недоразумению и что тов. Ванников Б.Л. считается в настоящее время полностью реабилитированным.
Тов. Ванников Б.Л. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР назначен заместителем наркома вооружения и по распоряжению Государственного Комитета Обороны должен немедленно приступить к работе в качестве заместителя Наркома вооружений».
Ванникова после освобождения Берия приблизил к себе. Они были знакомы еще по бакинскому подполью. Кроме того, Лаврентий Павлович, по всей вероятности, был осведомлен о некоторых фактах, компрометирующих Бориса Львовича по линии социального происхождения, и поэтому мог не опасаться интриг с его стороны. Уже после ареста Берии Ванникову связь с Лаврентием Павловичем, равно как и некоторые бакинские дела, пытались поставить в вину некоторые «доброжелатели». Об этом свидетельствует документ, публикуемый мной в приложении. Однако все кончилось для Бориса Львовича благополучно. Он дожил до почетного погребения в Кремлевской стене.
Среди жертв незаконных репрессий при Берии было немало выдающихся людей – режиссер В.Э. Мейерхольд, журналист М.Е. Кольцов, писатель И.Э. Бабель и др. Были расстреляны также крупные партийные руководители – Р.И. Эйхе, С.В. Косиор, В.Я. Чубарь, А.В. Косарев и другие (часть из них была арестована еще при Ежове). Справедливости ради следует сказать, что деятели такого уровня репрессировались по инициативе Сталина, а не Ежова или Берии. НКВД по поручению Иосифа Виссарионовича лишь фабриковал материал против тех, на кого он указывал. Бабеля и Кольцова, в частности, притянули в том числе и к фальшивому делу о «террористическом заговоре» Ежова против Сталина. Только теперь открытых политических процессов не устраивали. Считалось, что с «врагами народа» уже покончено. Поэтому новых «врагов» расстреливали тихо, даже без публикаций в печати.
Николай Иванович Ежов был арестован 10 апреля 1939 года в кабинете Маленкова при личном участии Берии. И уже 24 апреля 1939 года написал следующее замечательное признательное заявление в Следственную часть НКВД: «Считаю необходимым довести до сведения следственных органов ряд новых фактов, характеризующих мое морально-бытовое разложение. Речь идет о моем давнем пороке – педерастии.
Начало этому было положено еще в ранней юности, когда я жил в учении у портного. Примерно лет с 15 до 16 у меня было несколько случаев извращенных половых актов с моими сверстниками, учениками той же портновской мастерской. Порок этот возобновился в старой царской армии во фронтовой обстановке. Помимо одной случайной связи с одним из солдат нашей роты у меня была связь с неким Филатовым, моим приятелем по Ленинграду, с которым мы служили в одном полку. Связь была взаимноактивная, то есть «женщиной» была то одна, то другая сторона. Впоследствии Филатов был убит на фронте.
В 1919 г. я был назначен комиссаром 2 базы радиотелеграфных формирований. Секретарем у меня был некий Антошин. Знаю, что в 1937 г. он был еще в Москве и работал где-то в качестве начальника радиостанции. Сам он инженер-радиотехник. С этим самым Антошиным у меня в 1919 г. была педерастическая связь взаимноактивная.
В 1924 г. я работал в Семипалатинске. Вместе со мной туда поехал мой давний приятель Дементьев. С ним у меня также были в 1924 г. несколько случаев педерастии активной только с моей стороны.
В 1925 г. в городе Оренбурге я установил педерастическую связь с неким Боярским, тогда председателем Казахского облпрофсовета. Сейчас он, насколько я знаю, работает директором художественного театра в Москве. Связь была взаимноактивная.
Тогда он и я только приехали в Оренбург, жили в одной гостинице. Связь была короткой, до приезда его жены, которая вскоре приехала.
В том же 1925 г. состоялся перевод столицы Казахстана из Оренбурга в Кзыл-Орду, куда на работу выехал и я. Вскоре туда приехал секретарем крайкома Голощекин Ф. И. (сейчас работает Главарбитром). Приехал он холостяком, без жены, я тоже жил на холостяцком положении. До своего отъезда в Москву (около 2-х месяцев) я фактически переселился к нему на квартиру и там часто ночевал. С ним у меня также вскоре установилась педерастическая связь, которая периодически продолжалась до моего отъезда. Связь с ним была, как и предыдущие, взаимноактивная.
В 1938 г. были два случая педерастической связи с Дементьевым, с которым я эту связь имел, как говорил выше, еще в 1924 г. Связь была в Москве осенью 1938 г. у меня на квартире уже после снятия меня с поста Наркомвнудела. Дементьев жил у меня тогда около двух месяцев.
Несколько позже, тоже в 1938 г. были два случая педерастии между мной и Константиновым. С Константиновым я знаком с 1918 г. по армии. Работал он со мной до 1921 г. После 1921 г. мы почти не встречались. В 1938 г. он по моему приглашению стал часто бывать у меня на квартире и два или три раза был на даче. Приходил два раза с женой, остальные посещения были без жен. Оставался часто у меня ночевать. Как я сказал выше, тогда же у меня с ним были два случая педерастии. Связь была взаимноактивная. Следует еще сказать, что в одно из его посещений моей квартиры вместе с женой я и с ней имел половые сношения.
Все это сопровождалось, как правило, пьянкой.
Даю эти сведения следственным органам как дополнительный штрих, характеризующий мое морально-бытовое разложение».
Николай Иванович хотел сказать Иосифу Виссарионовичу: если надо меня посадить, то сажайте меня по введенной в кодекс только в марте 1934 года статье 154-а, карающей за половое сношение мужчины с мужчиной лишением свободы от трех до пяти лет. Но беда Ежова заключалась в том, что его надо было не посадить, а расстрелять. Поэтому смешная статья 154-а даже не попала в вынесенный ему приговор.
Зато признание Ежова помогло Лаврентию Павловичу при ведении следствия. Берия и его подчиненные изобрели совершенно фантастический заговор во главе с Ежовым, будто бы направленный на убийство Сталина и захват власти во время парада 7 ноября 1938 года. И они создали два ряда псевдозаговорщиков, кроме традиционных фигурантов подобных дел – бывших подчиненных Ежова по НКВД. С одной стороны, это были фигуранты донжуанского гомосексуального списка Ежова, разумеется, кроме анонимных. Все они были арестованы и в дальнейшем расстреляны. Большинство из них охотно признавались в гомосексуальной связи с Ежовым, рассчитывая пойти не по расстрельным пунктам политических статей, а по легкой «мужеложской» статье. Но этим мечтам несчастных не суждено было сбыться. Следователь говорил им примерно следующее: «Э, дурашка, нас твои педерастические шашни не интересуют. Ты давай рассказывай, как вы с врагом народа Ежовым думали товарища Сталина извести!» И бедняги понимали: это конец. А потом из Ежова и из его бывших любовников побоями и пытками выбивали признания в заговоре, шпионаже и умысле на теракт.
С другой стороны, в заговорщики произвели многочисленных любовников второй жены бисексуального Ежова, Евгении Соломоновны Ханютиной, покончившей с собой 21 ноября 1938 года. Многие из них принадлежали к творческой интеллигенции. В середине августа 1938 года с помощью подслушивающей аппаратуры в московской гостинице «Националь» была зафиксирована интимная связь Ежовой с писателем Михаилом Шолоховым. Николай Иванович ограничился тем, что крепко поколотил ветреную супругу, примерно как Степан Астахов Аксинью в «Тихом Доне». Но вскоре они помирились, и Ежов компрометирующую запись уничтожил. Осталась только препроводительная записка к ней. О любовной же связи Исаака Бабеля и Евгении Хаютиной было хорошо известно, да и сам Ежов подтвердил этот факт на допросах. А вот когда его арестовали, следователи оказались перед выбором: кого из писателей делать участником заговора Ежова и его жены с целью убийства Сталина и государственного переворота, Шолохова или Бабеля. Но автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» был тогда в фаворе, и «красноречиво молчащий», как он сам говорил на следствии, автор «Конармии» и «Одесских рассказов» оказался гораздо более подходящим кандидатом на роль заговорщика. По всей видимости, насчет Шолохова и Бабеля консультировались лично со Сталиным, и тот распорядился пощадить «социально близкого» Шолохова и казнить «социально чуждого» Бабеля. Михаила Кольцова в качестве любовника жены и заговорщика Ежов на допросах назвал сам.
А в последнем слове на суде 3 февраля 1940 года Николай Иванович заявил: «Я долго думал, как пойду на суд, как буду вести себя на суде, и пришел к убеждению, что единственная возможность и зацепка за жизнь – это рассказать все правдиво и по-честному. Вчера еще в беседе со мной Берия сказал: «Не думай, что тебя обязательно расстреляют. Если ты сознаешься и расскажешь все по-честному, тебе жизнь будет сохранена».
После этого разговора с Берия я решил: лучше смерть, но уйти из жизни честным и рассказать перед судом действительную правду. На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, я не террорист, но мне не верили и применили ко мне сильнейшие избиения. Я в течение двадцати пяти лет своей партийной жизни честно боролся с врагами и уничтожал врагов. У меня есть и такие преступления, за которые меня можно и расстрелять, и я о них скажу после, но тех преступлений, которые мне вменены обвинительным заключением по моему делу, я не совершал и в них не повинен…»
Ежов считал себя виновным только в том, что «…почистил 14 000 чекистов. Но моя вина заключается в том, что я мало их чистил». И в заключение он заявил: «Судьба моя очевидна. Жизнь мне, конечно, не сохранят, так как я и сам способствовал этому на предварительном следствии. Прошу об одном, расстреляйте меня спокойно, без мучений.
Ни суд, ни ЦК мне не поверят, что я не виновен. Я прошу, если жива моя мать, обеспечить ее старость и воспитать мою дочь.
Прошу не репрессировать моих родственников – племянников, так как они совершенно ни в чем не виноваты».
На следующий день Ежова расстреляли, а родственников впоследствии репрессировали. Тогда Берия, конечно, не знал, что через тринадцать с половиной лет ему придется разделить печальную участь Николая Ивановича, причем в связи с почти такими же обвинениями.
К вновь арестованным применялись те же незаконные методы следствия, которые ЦК формально осудил в ноябре 1938-го. В мае 1939-го был арестован старый большевик М.С. Кедров, дядя расстрелянного в 1937-м бывшего начальника Иностранного отдела НКВД Артузова. Михаилу Сергеевичу предъявили вымышленные обвинения в шпионаже, сотрудничестве с охранным отделением и проведении вредительства в годы Гражданской войны. Кедров безуспешно взывал к ЦК, настаивая на своей невиновности. 19 августа 1939 года он писал, не зная, что его письма не пойдут дальше Следственной части НКВД: «Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взываю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса, не пройдите мимо, заступитесь, помогите уничтожить кошмар допросов, вскрыть ошибку.
Я невинно страдаю. Поверьте. Время покажет. Я не агент-провокатор царской охранки, не шпион, не член антисоветской организации… Пятый месяц тщетно прошу на каждом допросе предъявить мне конкретные обвинения, чтобы я мог их опровергнуть, тщетно прошу следователей записать факты из моей жизни, опровергающие указанные выше обвинения. Напрасно…
И с первых же дней нахождения моего в суровой Сухановской тюрьме начались репрессии: ограничение времени сна 1–2 часами в сутки, лишение выписок продуктов, книг, прогулок, даже отказ в медпомощи и лекарствах, несмотря на мое тяжелое заболевание сердца.






