Пружина для мышеловки Маринина Александра
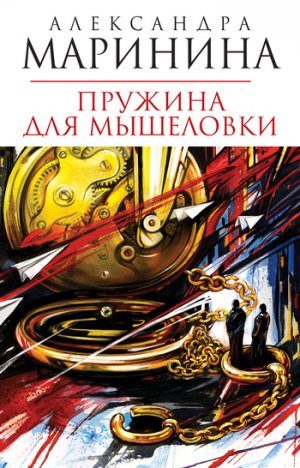
ГЛАВА 1
Глаза консула смотрели на Мусатова с нехорошим прищуром.
– Вы дважды меняли фамилию.
– Но я все указал в анкете. При рождении меня записали на фамилию отца. Родители развелись, когда мне было полтора года, мать взяла девичью фамилию и ее же дала и мне. Потом, когда мне было девять лет, мать вторично вышла замуж, ее муж усыновил меня и дал мне свое отчество и фамилию.
– Это я понял. Но мне нужны подтверждающие документы. В частности, свидетельство о расторжении брака и документы о вашем усыновлении и смене фамилии в связи с этим. Кстати, а где сейчас ваш родной отец?
– Понятия не имею, – пожал плечами Мусатов. – Родители развелись почти тридцать лет назад. Как я могу знать?
– Это надо знать, – назидательно произнес консул.
Мусатов начал терять терпение. Конечно, его предупреждали, что американское посольство дает визы крайне неохотно, особенно если виза не туристическая, на пару недель, с заказанными и оплаченными отелями и обратным билетом, а деловая, на пять месяцев. Ох, не хотят они русского бизнеса в своей процветающей стране! И в каждом человеке, въезжающем из России, они видят потенциального эмигранта, которому до спазмов в горле захочется остаться в США на веки вечные и который тут же придумает себе или жену-американку, или близкого родственника, уже проживающего в стране. У Мусатова и без того положение не очень крепкое, он ведь не женат, следовательно, консул может подозревать его в нехорошем намерении за пять месяцев пребывания в стране найти себе невесту.
– Надо знать, где находится ваш отец и чем он занимается, – повторил консул.
– А если его нет в живых?
– Тогда принесите свидетельство о смерти. Для вас это будет лучше.
Да уж конечно. В этом случае американцы будут уверены, что отец не проживает в Штатах и не ждет родного сыночка с распростертыми объятиями. Господи, вот морока-то!
Андрей вышел из здания посольства и не спеша побрел к станции «Баррикадная», рядом с которой так удачно припарковал машину. Надо же, ведь еще радовался, дурак, подумал, что если повезло с парковкой, то и все остальное сложится хорошо. Ан не тут-то было.
Он сел в машину, но двигатель заводить не стал. Вынул из кармана телефон и позвонил матери в Питер.
– Ну что, Андрюша? – быстро, с напористой тревогой в голосе спросила мать. – Приняли документы на визу?
– Нет. Мам, им нужны сведения об отце. Где он, что он, как он и так далее.
– О Господи, – выдохнула она. – Вот так я и знала, что конца этому не будет! Прости меня, сынок, если б я только знала, что из-за этого будет столько проблем…
– Мама, перестань, – ласково сказал Андрей. – Ты же хотела, как лучше, я все понимаю. Надо его найти и решить проблему. Ты говорила, он родом откуда-то из Курской области, да?
– Ну да. У меня есть только адрес его родителей, мы туда даже ездили, когда ты родился. Но после семьдесят шестого года я этим адресом не пользовалась, написала им только, что брак расторгнут – и все. Больше ничего не знаю. Может, они переехали, да не один раз. Как их теперь найдешь?
– Да найти-то – не вопрос, были бы деньги. Ладно, будем надеяться, что они знают, где сейчас их сын. Адрес помнишь?
– Что ты, Андрюша, конечно, нет. Надо в бумагах порыться, найти старую записную книжку.
– Хорошо, мамуля, как найдешь – сразу позвони, ладно? И я сразу же поеду. До стажировки еще два месяца, я все успею.
До семнадцати лет Андрей Мусатов был уверен, что рожден матерью-одиночкой, потому и фамилия у него сначала была мамина – Кожухов. На все детские вопросы «А где мой папа?» мать добросовестно отвечала, что его нет. Она не придумывала небылиц про погибших летчиков-испытателей или офицеров, тайно исполнявших интернациональный долг где-то в далекой загранице, она просто говорила, что поссорилась с андрюшиным папой и рассталась с ним до того, как они успели пожениться, но уже после того, как успели зачать ребенка. Никаких комплексов по этому поводу у мальчика не сформировалось, в его классе почти треть ребят росла в неполных семьях. В школу он пошел в восемьдесят первом, когда слово «мать-одиночка» уже не казалось страшным и оскорбительным, а уж на Андрюшу Кожухова никому бы и в голову не пришло смотреть косо – его мать была в этой же школе учительницей английского языка и литературы, а когда он перешел в девятый класс – стала завучем. В языковых спецшколах было два завуча, один из которых отвечал за весь цикл преподавания иностранного языка, и Ксению Георгиевну Мусатову (ко времени назначения на руководящую должность она уже несколько лет пребывала в счастливом браке и при новой фамилии) так и называли: английский завуч.
А брак у Ксении Георгиевны был действительно счастливым, Константин Мусатов оказался для Андрюши превосходным отцом, сумел не вызвать в мальчике ревности и построить с приемным сыном настоящую мужскую дружбу. Однажды двенадцатилетний Андрюша даже сказал матери:
– Хорошо, что ты вовремя поссорилась с моим отцом. Если бы вы успели пожениться, я бы с Костей не познакомился.
Как ни странно, но несмотря на всю эту дружбу и взаимную любовь, мальчик так и не стал называть Константина папой, хотя и был им официально усыновлен. Мать нервничала и переживала, а ее муж относился к ситуации философски:
– Просто ребенку нужен не столько отец, сколько взрослый друг, – успокаивал он жену. – Пусть называет меня Костей, если ему так нравится. Тем более я точно знаю, что за глаза, в кругу ребят, он говорит про меня «мой папа».
Катастрофа обрушилась на них в девяносто первом году, когда умерла старенькая бабушка Константина, в квартире которой он был прописан. Появилась возможность улучшить жилищные условия, родители активно занялись поисками обменных вариантов, и уже через три месяца семья Мусатовых собралась переезжать в новую, более просторную и удобную квартиру. Семнадцатилетний Андрей активно помогал собирать и упаковывать вещи, мать с Костей в свободное от работы время носились по магазинам в поисках мебели и всяческих необходимых в новом жилище мелочей, и так уж получилось, что Андрей самостоятельно набрел на ветхую папку с завязками, в которой между мамиными институтскими грамотами за успехи в учебе и работе студенческого научного кружка обнаружилось свидетельство о разводе Ксении Георгиевны Личко с Олегом Петровичем Личко. После расторжения брака гражданке Личко присваивалась фамилия «Кожухова». И Случилось это в августе семьдесят шестого, когда Андрюше было уже целых полтора года! Значит, мама была замужем официально. Почему она это скрывала? Что в этом стыдного? Более того, свидетельство о разводе было выдано одним из московских ЗАГСов, значит, в то время они жили в Москве. Получается, они не все время жили в Ленинграде? Выходит, Андрей по рождению – москвич по фамилии Личко, а вовсе не ленинградец по фамилии Кожухов? Или как?
Вечером мама рыдала, пила сердечные капли, Костя метался вокруг нее, то и дело щупал пульс и порывался вызвать «неотложку», а Андрей сидел надутый, не понимая, что вообще происходит в их семье и почему из-за такой ерунды надо разводить целую трагедию. Потом мама все-таки успокоилась, взяла себя в руки и рассказала сыну то, о чем уже давно знал ее второй муж.
Олег Личко, Костин отец, был маньяком-убийцей, сумасшедшим, причем сумасшедшим настолько, что его, когда поймали, даже в тюрьму не посадили, а признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа. Он успел убить шестерых маленьких девочек, которых хитростью уводил из детских садов. Самое отвратительное состояло в том, что Олег было не только безумным маньяком, но еще и работником милиции, служил в уголовном розыске. От этого Ксении было почему-то особенно стыдно.
Закон позволял в случае привлечения человека к ответственности за тяжкое преступление оформлять с ним развод даже без его согласия и явки в суд. Наличие малолетних детей в этом случае препятствием к разводу не являлось. Ксения немедленно развелась с Олегом, обменяла московскую квартиру на ленинградскую и уехала туда, где никто не знал постыдной истории ее мужа. Олега Личко она вычеркнула из своей жизни, ничего никому о нем не рассказывала, на вопрос об отце ребенка отвечала уклончиво, там, где было можно, о своем замужестве не рассказывала и ограничивалась словами «мать-одиночка», а там, где приходилось показывать свидетельство о рождении сына Андрея, скупо упоминала о неудачном и потому быстро распавшемся браке. В свидетельстве ясно написано: отец – Личко Олег Петрович, мать – Личко Ксения Георгиевна, так что безмужним грехом не прикроешься. Перед тем, как отдавать сына в школу, Ксения весьма «удачно» потеряла свидетельство, поехала в Москву за дубликатом, показала бумажку о смене фамилии и получила новое свидетельство, в котором в графе «отец» стоял многозначительный прочерк, а мать и ребенок фигурировали уже как Кожуховы. Конечно, для этого ей пришлось обратиться к бывшим коллегам мужа-убийцы, в противном случае так легко новый документ с другими фамилиями она бы не получила. Бывшие коллеги ее чувства понимали, проявили дружеское участие и помогли. История маньяка-убийцы Олега Личко на много лет осталась семейной тайной, владели которой все меньшее и меньшее число людей: Ксения рано потеряла родителей, мать умерла, когда Андрюше было семь лет, а через год вслед за ней ушел и отец. С родителями Олега она отношений не поддерживала, не писала им и не звонила, да они и сами ее не искали, видно, понимали, что не нужно, и на встречах с внуком не настаивали. От второго мужа, Константина, Ксения правду скрывать не стала, но на него можно было положиться.
И вот теперь история выплыла наружу благодаря, как это всегда и бывает, нелепой и непредвиденной случайности. Уничтожить свидетельство о разводе Ксеня не посмела, все-таки официальный государственный документ, мало ли что… Но ей казалось, что она так надежно его спрятала! Отдать кому-то на хранение она побоялась, ведь это значило бы посвятить в свою тайну еще одного человека. А о банковских ячейках в те времена в нашей стране даже и не слыхивали.
– Значит, я – сын психа ненормального? – дрожащим голосом спросил Андрей.
– Сынок, ты не должен так думать, – торопливо заверила его Ксения Георгиевна. – Ты – мой сын, наш сын, я тебя родила, а Костя помогал тебя растить и воспитывать.
– А это передается по наследству? – упрямо продолжал он.
– Ты – совершенно нормальный, – твердо заявил Константин, – можешь мне поверить, уж я-то в этом разбираюсь. Мы с мамой все эти годы наблюдали за твоим развитием, за твоим характером и темпераментом, и я говорю тебе как профессионал: ты абсолютно здоров психически, в тебе нет ни малейших признаков каких бы то ни было отклонений.
Константин говорил очень уверенно, и Андрей сразу успокоился. Все-таки Костя – психолог, кандидат наук, да и мама педагог с большим стажем. Им можно верить.
Удар, однако, оказался сильнее, чем показалось в первый момент. Одно дело – совсем не знать своего отца и думать, что это просто был легкомысленный и безответственный тип, и совсем другое – знать, что он психически больной убийца. Стыдно. Противно. И немного страшно.
Но помог переезд. Заботы, хлопоты, тюки с одеждой, коробки с книгами, бечевка, которая то рвется, то заканчивается, то куда-то исчезает; посуда, которую надо упаковать так, чтобы не побилась, то есть каждую тарелку, каждую чашку и рюмку обернуть газетой; грузчики, которые не приехали вовремя и которые выносят мебель так неаккуратно, что – того и гляди – испортят, поцарапают, искорежат; сумка с предметами первой необходимости – туалетными принадлежностями, тапочками и бельем, которую положили на самый верх, чтобы не искать, и которая куда-то делась и найти ее совершенно невозможно… А потом все упакованное распаковать, все завязанное развязать, все завернутое в газетные листы развернуть, и всему найти место, и постараться не забыть, где теперь все это лежит, потому что шкафы другие и стоят они по-другому, квартира-то больше, и мебели в ней больше. Если бы не переезд, еще неизвестно, как справился бы семнадцатилетний юноша со своим стыдом, отвращением и страхом.
Жизнь вошла в нормальное русло, Андрей закончил школу и поступил в Технологический институт, какое-то время поработал на государственном предприятии, потом друзья соблазнили его работой в частной компании, где его знания и способности оказались весьма востребованными, потом была более серьезная фирма, потом – еще более серьезная и уже в Москве, и вот теперь, в 2004 году, тридцатилетний Андрей Константинович Мусатов должен ехать в США на стажировку, чтобы по возвращении возглавить крупный многомиллионный проект. И совершенно неожиданно в его безоблачную жизнь вмешался биологический отец. Ну и где его искать?
Тридцать лет назад родители Олега Петровича Личко проживали в поселке Черемисино. Ксения Георгиевна не ошиблась, он действительно находился в Курской области. Поселок – не город, человека найти нетрудно, лишь бы он был, человек этот. Андрей решил пойти самым простым путем и начал поиски с местного отдела милиции, а точнее – с паспортной службы. Запасся коробкой дорогих конфет и бутылкой хорошего виски, ведь никогда не знаешь, на кого попадешь, на женщину или на мужчину.
В ход пошли конфеты.
– Личко? – средних лет дама в блузке с оборочками с любопытством взглянула на Мусатова. – Да, они у нас проживали.
Андрей обратил внимание на то, что дама из паспортной службы ни на секунду не задумалась перед тем, как ответить. Значит, Личко в этом поселке – люди известные.
– Проживали? – переспросил он. – А где они теперь?
– Умерли. Оба. Когда сына посадили, сначала Любовь Васильевна начала болеть, а потом и Петр Александрович стал постепенно сдавать. А вам зачем? Вы что, родственник? На наследство претендуете?
– А есть на что претендовать? – улыбнулся Андрей. – После них остались несметные сокровища?
– Я вас разочарую. Ничего не осталось. Даже дом сгорел. Представляете? Дней через пять после похорон Петра Александровича. Вот и не верь после этого в судьбу!
– Не понял, простите…
– Ну я же говорю: как будто там, наверху, – она неопределенно ткнула пальцем в потолок, – не хотели, чтобы от этой семьи хоть что-то осталось. Сначала сына сажают в психушку, потом мать умирает, потом сын, потом отец, а потом и дом сгорает. Всё. Никаких следов на земле от этой породы не осталось.
Ну да, подумал Андрей, не осталось. А как же сын Олега Петровича, то есть я? Обо мне что, все забыли? Впрочем, наверное, это и к лучшему. А Личко-то в поселке, судя по всему, не любили… Значит, сын тоже умер.
– Я, собственно, как раз Олега Петровича и разыскиваю. Он когда-то с моим отцом вместе служил, отец попросил узнать, где он, как живет… – начал врать Мусатов.
– Так нечего его разыскивать, умер он, лет двенадцать назад примерно, а то и больше.
– Здесь, в Черемисине?
– Ну что вы, нет, конечно. В психушке. Родителям официальное извещение пришло. Любовь Васильевна-то не дожила, а Петр Александрович после этого сгорел буквально в считанные месяцы. Он после смерти жены еще не оправился, а тут сын… В общем, врагу не пожелаешь такую судьбу.
– Где Олег Петрович похоронен? Здесь?
– Нет, тело не привозили, это точно. Наверное, там же, в психбольнице. То есть не в самой больнице, конечно, а на местном кладбище. Хотя и это вряд ли.
– Почему же? – удивился Мусатов.
– Да почта у нас знаете как работает? Когда Петру Александровичу извещение пришло, Олег уже два месяца как умер. Кто ж будет два месяца тело держать? Наверное, отдали в морг какого-нибудь медучилища или института, чтобы студентов обучать.
Андрей внутренне поежился. Ничего не осталось от его биологического отца, даже могилы. Но хоть свидетельство-то о смерти осталось?
– Вы не помните, на похороны Петра Александровича родственники приезжали?
– Да какие родственники! – дама махнула рукой и вдруг спохватилась: – А вам зачем? Вы же Олега ищете, а спрашиваете про родственников.
– Да я подумал, может, фотографии какие-нибудь остались, я бы отцу отвез.
– Так сгорело же все, я вам русским языком сказала!
– Но если приезжали родственники, они могли еще до пожара какие-то вещи забрать, альбомы с фотографиями, документы, что-то на память. Понимаете?
Дама задумчиво кивнула.
– Знаете что? Поговорите с Перхуровыми, они через два дома от Личко жили. Я вам сейчас адрес запишу. Личко вообще-то мало с кем общались, гордые были сильно, заносились, но с Перхуровыми дружили.
Еще через два часа Андрей Мусатов уже знал, что родственники на похороны Петра Александровича Личко действительно приезжали, но на следующий день после похорон уехали, и в том, что они не взяли из дома Личко ни одной вещи, ни одной бумажки, супруги Перхуровы могли поклясться.
– Это были очень приличные люди, очень приличные, – несколько раз повторила Перхурова, имея в виду дальних родственников Личко. – Они совершенно не стремились нажиться, разграбить дом, что-то утащить. Они люди состоятельные, им все это не нужно было. Даже дом им не был нужен. Люди городские, жили в Приморском крае, зачем им развалюха за тридевять земель? Они когда уезжали, так и сказали, мол, мы ни на что не претендуем, если объявятся какие-нибудь наследники – пусть забирают дом себе и делают с ним, что хотят. Да и дом-то был – одно название, Любочка много лет болела, да и Петя слабел с каждым годом, а уж когда Любочка умерла, Петя вообще стал никакой. Пока могли – ездили к Олегу в больницу, а это ведь не ближний свет. Сначала его держали в Белых Столбах, под Москвой, а потом перевели в больницу общего типа, в Вологодскую область. В восемьдесят девятом Люба умерла, а в девяностом или девяносто первом пришло сообщение из больницы, что Олег умер.
– В девяносто первом, – суровым голосом уточнил Перхуров, – как раз после путча, в сентябре, я точно помню.
– Ну ладно, тебе виднее, – покладисто согласилась его жена, – значит, в девяносто первом. А потом и Петя ушел. А домом Любочка с Петей совсем не занимались, он ветшал, разваливался, но у них не было ни сил, ни денег приводить его в порядок. Каждую копейку откладывали, чтобы оплатить билеты и купить что-нибудь для сына – одежду, продукты, нянечкам и санитарам сунуть, чтобы не обижали Олега.
– Почему же они не забрали сына домой, когда его выпустили из Белых Столбов? – удивился Андрей. – Неужели он был настолько буйным?
Перхурова тяжело вздохнула и опустила глаза, видно, вопрос показался ей болезненным. Ее муж же, напротив, как-то словно набычился, налился негодованием.
– Почему не забрали? – начал он, повысив голос. – Так я вам скажу, почему.
– Понимаете, Любочка очень гордая была, – торопливо перебила его Перхурова.
– Не гордая она была, а заносчивая, перед всеми нос задирала, – загремел Перхуров. – Не гордость это, а гордыня.
По яростным взглядам, которые метали друг в друга пожилые супруги, Мусатов понял, что спор этот у них давний и примирения позиций до сих пор не наступило. Ему стало неловко, словно присутствовал при интимной семейной сцене, и он на какой-то момент даже пожалел, что пришел сюда. Ему всего-то и нужен один-единственный документ – свидетельство о смерти Олега Личко, а приходится терять время и выслушивать дебаты чуть ли не на библейские темы. Гордость, гордыня… Да какая разница?
Любовь Васильевна Личко проработала в Черемисине всю жизнь, сначала простым учителем-словесником в местной школе, потом выросла до директора школы. Петр Александрович к тому моменту, когда сын Олег закончил школу, занимал высокий пост в местном исполкоме. Одним словом, семья достойная, уважаемая и вся на виду. Разумеется, Олег закончил школу с золотой медалью, а разве могло быть иначе? Нет-нет, никакого блата, никакого административного давления, Олег с детства был умненьким и трудолюбивым мальчиком, усидчивым, вдумчивым, об этом Ольга Ивановна Перхурова могла судить не с чужих слов, а по собственному опыту, потому как работала в той самой школе, которой руководила Любовь Васильевна, преподавала историю в старших классах. На Олега Личко как на ученика она нарадоваться не могла.
С золотой медалью, отлично усвоенным материалом школьной программы и солидным багажом дополнительных знаний Олег поехал в Москву поступать в Университет на юридический. И поступил. Гордости и радости родителей не было предела! На четвертом курсе он познакомился с хорошей девушкой, студенткой педагогического института, и через год, перед самым дипломом они расписались. И снова Любовь Васильевна радовалась: сын выбрал жену с такой же профессией, как у нее самой. Невестка будет учителем, ну пусть не русского языка и литературы, а английского, сути это не меняет. Все равно сын высоко ценит профессию матери, потому и жену себе выбрал такую же, на маму похожую. На юридическом факультете Олег тоже учился лучше всех, получал повышенную стипендию, специализацию прошел по кафедре криминалистики, активно участвовал в работе студенческого научного общества, выступал на всех конференциях, и было вполне естественным, что при распределении ему предложили остаться в аспирантуре. Но от аспирантуры юноша отказался. Тогда перед ним как перед лучшим выпускником курса положили список мест, куда должны были направляться на работу молодые юристы, и Олег без колебаний выбрал Главное управление внутренних дел Москвы, в народе более известное как «Петровка, 38»
И снова Любовь Васильевна расцвела от очередного приступа гордости за сына и за себя саму: ее мальчик, скромный молодой человек из скромного райцентра, – и на самой Петровке служит. Это ж помыслить невозможно! Это почти как в космос слетать, по тем-то временам. Петровка, олицетворение честности, мужества, высочайшего профессионализма, Петровка, о которой написано столько замечательных книг, и в этих книгах каждый герой – образец для подражания. Юлиан Семенов, Аркадий Адамов, братья Вайнеры – да все, все самые лучшие советские писатели посвящают свои произведения именно им, офицерам милиции, работающим на Петровке, 38. А фильмы! Сколько прекрасных фильмов снято об их самоотверженной и опасной работе!
– А уж когда Олег сообщил, что поступил в эту, как ее… ну что-то вроде аспирантуры, только для военных…
– В адъюнктуру, – хмуро подсказал Перхуров.
– Ну да, наверное, – кивнула Ольга Ивановна Перхурова. – Он поступил на заочное отделение, чтобы от работы не отрываться. Любочка была уверена, что он быстро напишет диссертацию, потому что Олег очень способный, у него голова светлая, и учиться он умеет и любит. И вдруг такое случилось… Ужас! Представляете, что было с Любой? Ведь весь город узнал о том, что Олег – убийца-маньяк, у нас ничего скрыть невозможно. У Любочки случился тяжелейший инфаркт, она так окончательно после него и не восстановилась. Ну как, как она могла привезти Олега сюда? Ей и без того до самой смерти казалось, что на нее все пальцем показывают и за спиной хихикают и гадости говорят. Конечно, Петю сразу же с работы сняли, мол, человек, не сумевший воспитать собственного сына, не может руководить людьми в исполкоме. Спасибо, хоть из партии не исключили, но собирались, это я точно знаю. Я в те годы была членом бюро райкома. У Пети после снятия с должности – инсульт. В общем, оба стали инвалидами, жили на пенсию, работать здоровье не позволяло…
– И гордыня, – снова встрял Перхуров. – Они стали от людей прятаться, стыдно им было, что сына своего восхваляли на всех углах и всем в пример ставили. Вот только с нами и поддерживали отношения. Я им сколько раз говорил: переезжайте в другое место, где вас никто не знает, и заберите сына туда, все-таки вместе будете.
«Моя мама как раз так и поступила», – подумал Андрей.
– Они болели очень, – вступилась за покойных друзей Ольга Ивановна. – И потом, легко сказать: переезжайте. Это если бы они были полны сил и могли работать, то нашли бы работу в другом городе, а так – пенсионеры, да еще с инвалидностью, кому они были нужны, чтобы им жилплощадь предоставлять? Тогда другие времена были, не то, что сейчас. Тогда нужно было найти обмен, а кто стал бы с ними меняться, когда дом мало того что в захолустье, так еще и разваливается? Они ж с семьдесят пятого года, как Олежку посадили, так и начали болеть, ни одного гвоздя в доме не прибили, ни одной досточки не поправили.
– Скажи уж проще: отказались они от сына, вот что, – припечатал Перхуров. – Столько лет на самой вершине были, почет им и уважение, все кланяются, все здороваются, с праздниками чуть не весь город поздравлял, а тут из-за Олега все рухнуло. До самой смерти они ему этого не простили. Потому и не взяли к себе, когда стало можно. Навещать – навещали, а забирать не стали. Петя бы забрал, он добрее был, а Люба даже слышать не хотела. Вот так. Когда Люба умерла, Петр Александрович слег, но со временем все чаще заговаривал о том, что вот чуть-чуть окрепнет, сил наберется и поедет в больницу Олега забирать, он и письмо тамошнему главврачу написал, тот ему ответил, что Олега можно выписать на домашний уход, он спокойный, не буйный. Но не успел Петя. Пришло сообщение о смети сына. А после этого он и сам недолго протянул.
Н-да, печальная история… Петя и Любочка. Его дедушка и бабушка. Мусатов внимательно слушал рассказы супругов Перхуровых и то и дело ловил себя на том, что пытается осознать: речь идет о его кровных родственниках, о бабушке, дедушке и отце. И если бы все сложилось иначе, если бы мама так и оставалась женой Олега Петровича Личко, то его, маленького Андрюшу, привозили бы сюда каждое лето, и он, наверное, бегал бы как раз по этой вот немощеной улице, которая видна из окна, и лазил бы вместе с местными мальчишками через вот этот забор, чтобы воровать яблоки из сада Перхуровых или объедать смородиновые кусты… Он пытался придумать свое несостоявшееся детство и понимал, что ничего не чувствует. Ни сожалений, ни грусти, ни даже сочувствия к Любови Васильевне и Петру Александровичу. Они – чужие. Он никогда их не знал. Впрочем… Мама же говорила, что его совсем крохой привозили сюда. Но что он мог тогда понимать? И тем более помнить.
– Значит, ничего не сохранилось, ни документов, ни фотографий? – безнадежно спросил Андрей.
– Ничего. Все сгорело. Я думаю, это мальчишки набезобразничали, – авторитетно заявил Перхуров. – Все знали, что хозяин умер, дом стоит пустой, ну вот они и забрались туда. Знаете, как это бывает? Пиво, дешевое вино, сигареты. Может, окурок бросили непотушенный, а может и подожгли из хулиганства.
Может, может… Какая разница, из-за чего сгорел дом, важно то, что свидетельства о смерти Олега Петровича Личко теперь нет. А его надо раздобыть во что бы то ни стало.
В Вологодскую область Андрей смог поехать только через неделю. Психиатрическую больницу он нашел на удивление легко, супруги Перхуровы, хоть и не знали ее точного адреса, но, обладая хорошей памятью, вспомнили все, что их соседи Личко о своих поездках и этой больнице рассказывали, и Андрей ехал, вооруженный яркими ориентирами: названиями станций, указаниями на промышленные предприятия и прочими важными сведениями, которые, конечно, могли за полтора десятка лет значительно устареть. С предприятиями именно это и произошло, а вот названия станций и географические ориентиры сохранились, и это здорово помогло.
Свидетельствами о смерти ведал ЗАГС, куда Андрей и направился в первую очередь, но там его ждало разочарование: никаких архивов не сохранилось, в девяносто девятом году произошло перерайонирование, местные административные органы сливались, разливались, ликвидировались и вновь создавались, и после всей этой суеты найти ничего просто невозможно. Компьютерной базы, соответственно, и не было, ее начали создавать только два года назад.
– Вы сходите в больницу, пусть они поднимут свои архивы, – посоветовали Андрею, – они дадут вам новую справку о смерти, а мы на ее основании выпишем повторное свидетельство.
Больница показалась ему не просто страшной – жуткой. Деревянное трехэтажное покосившееся здание, насквозь пропитанное запахами отчаяния, лекарств и тушеной кислой капусты. На колченогих лавочках сидят, греясь под первым слабым весенним солнышком, люди со странными лицами и неестественно окаменевшими спинами. А глаза у этих людей такие, словно они или совсем ничего в этом мире не понимают, или, наоборот, знают о нем что-то такое, что другим знать не дано.
Кабинет главврача находился на втором этаже. На белой двери с давно облупившейся краской висела табличка: «Главный врач Юркунс Л.Я.» Андрей достал из портфеля сложенные в пластиковый файл документы – свидетельство о разводе матери с Олегом Петровичем Личко, свой паспорт и прочие бумаги, из которых было видно, когда и почему изменялась его фамилия, – и решительно вошел в кабинет, порадовавшись про себя, что никаких приемных со строгими секретаршами здесь не было.
Едва переступив порог, Андрей наткнулся на острый взгляд ярких светлых глаз, которые оказались почему-то очень близко. В следующий момент он сообразил, что кабинет главного врача был таким маленьким, что каждый входящий, не успев сделать и полшага, оказывался перед столом, за которым сидел пожилой мужчина в ослепительно белом халате.
Мусатов, привыкший к просторным и хорошо обставленным офисам, до того растерялся, что вместо заготовленных фраз промямлил:
– Ой, здрасьте…
– Добрый день. Вы ко мне?
– Если вы главный врач – то к вам. Можно?
– Можно. Да вы присядьте, – хозяин кабинета указал на стул, в который Андрей уже уперся коленями. – Слушаю вас.
Осторожно развернувшись, чтобы ничего не разгромить и не уронить в этой немыслимой тесноте, Мусатов присел на стул и тут же почувствовал, как тот угрожающе зашатался.
– Моя фамилия Мусатов, – представился он.
– А имя?
– Андрей Константинович.
– Лев Яковлевич, – ответно представился главврач. – Так я вас внимательно слушаю, Андрей Константинович. Какие у вас проблемы?
– В вашей больнице находился на излечении Олег Петрович Личко, здесь же он и скончался много лет назад, в девяносто первом году. К сожалению, свидетельство о его смерти утеряно. Я уже был в ЗАГСе, меня отправили к вам за справкой, на основании которой мне выпишут повторное свидетельство. Что мне нужно сделать, чтобы получить дубликат справки о смерти?
Андрею показалось, что при упоминании фамилии Личко что-то неуловимо изменилось в лице доктора Юркунса. Или только показалось?
– Только одно: вы должны доказать, что имеете право на получение этого документа. После этого дубликат вам выпишут в течение получаса. Архив сегодня открыт, так что сложностей не будет. Итак?
Андрей молча протянул главврачу папку с заготовленными документами. Лев Яковлевич читал каждую бумажку так долго, словно текст был написан по меньшей мере иероглифами. Наконец он поднял голову и выстрелил в Андрея ярким залпом из своих светлых пронзительных глаз.
– Правильно ли я понял из представленных документов, что вы являетесь сыном Олега Петровича Личко?
– Да, правильно.
– И судя по тому, что ни вы, ни ваша матушка сюда никогда не приезжали…
– Да, верно. До семнадцати лет я вообще не знал, что мой родной, или как теперь принято говорить, биологический отец находится в психиатрической больнице.
– Позвольте полюбопытствовать, а что вы о нем думали? Где он, по-вашему, находился? Вам рассказывали, что он летчик-испытатель и героически погиб при выполнении государственного задания?
Ну вот, со скукой подумал Мусатов, сейчас начнется лекция о том, что не знает только тот, кто не хочет знать, и как нехорошо бросать больного отца и ни разу его не навестить.
– Мне говорили, что я рожден вне законного брака и никаких сведений о моем отце мама не имеет. До определенного момента мама даже имени его не называла. То есть до девяти лет у меня было отчество «Олегович», но фамилии отца я не знал, потом меня официально усыновили и я стал «Константиновичем».
– И когда же, позвольте узнать, наступил этот «определенный момент»?
– Когда мне было семнадцать лет. Я случайно нашел свидетельство о разводе матери с Олегом Петровичем Личко. Послушайте, Лев Яковлевич, я догадываюсь, что вы собираетесь мне сказать. С тех пор прошло тринадцать лет, Олег Петрович Личко, возможно, был еще жив, когда я узнал о его существовании, но я не пытался его увидеть, навестить в больнице…
– Голубчик вы мой, Андрей Константинович, – рассмеялся Юркунс, – да вы посмотрите на меня! Вы видите, сколько мне лет? Если не видите, то я вам сам скажу: семьдесят восемь. В этом году исполняется ровно пятьдесят пять лет, как я в психиатрии. Неужели вы думаете, что мне нужно объяснять подобные вещи? Да ни боже мой! Быть сыном человека, которому выставлен серьезный диагноз из нашей сферы – мало приятного, а уж быть сыном убийцы – и того хуже. Тем более вы этого маньяка-убийцу не помните, вы ведь были совсем крохой, когда он исчез из вашей жизни. Он вас не растил, не воспитывал, не водил вас в зоопарк и не брал с собой на рыбалку, не делал вместе с вами ваш первый скворечник и не ругал за первую «двойку» по поведению. Я все это прекрасно понимаю, и у меня и в мыслях не было читать вам мораль. У меня к вам только два вопроса. Вы позволите?
– Конечно, – кивнул Андрей, расслабившись.
Ну вот, лекция на морально-этические темы отменяется, уже хорошо. И этот Лев Яковлевич Юркунс, судя по всему, не сомневается в том, что Андрей Мусатов – сын Олега Петровича Личко и имеет полное право на получение дубликата свидетельства о смерти. Тоже хорошо. Архив сегодня открыт, и это просто прекрасно. Можно считать, что сегодня ему, Андрею Мусатову, повезло, а потому вполне можно ответить на любые вопросы главврача, даже если их будет не два, а больше.
– Вопрос первый: зачем вам свидетельство о смерти? Возникли вопросы с наследством?
– Да бог с вами! – Андрей искренне расхохотался. – Я оформляю визу в США, меня посылают на пять месяцев на стажировку…
– Все-все-все, можете не продолжать, – замахал руками Юркунс. – Вся эта кухня мне прекрасно известна. Множество моих коллег выезжало в Штаты как по частным приглашениям, так и по деловым, и каждый раз начиналась эта безумная морока. От одного из них потребовали свидетельство о разводе с первой женой, с которой он к тому времени уже лет двадцать не жил и находился в четвертом браке. Они чего только не придумают, лишь бы визу не дать, все боятся, что население нашей страны поголовно может эмигрировать в их американский рай. А вы дважды меняли фамилию, так что кажетесь им подозрительным. Тогда мой второй вопрос: как вы пережили тот факт, что ваш отец оказался убийцей-шизофреником?
– Тяжело, – признался Андрей. – Хорошо, что мы в тот момент переезжали на новую квартиру, это здорово отвлекло, да и мама с Костей все время были рядом. Но все равно было тяжело.
– Вы очень страдали?
– Я? – Андрей задумался. – Нет, если честно, то не очень. Я, правда, не знаю, что такое «очень страдать». Мне долгое время казалось, что я какой-то грязный, мама даже обратила внимание, что я стал по три раза в день мыться в душе и торчал в ванной подолгу. Знаете, какое-то странное ощущение грязи на коже, как будто я родился в клоаке и за все эти годы так и не отмылся. Но потом это прошло.
– Это, голубчик мой Андрей Константинович, как раз и называется «очень страдать». У вас начинался невроз. Хорошо, что рядом с вами оказались ваши близкие, которые не допустили до беды. Чем занимается ваша матушка?
– Педагог, преподает в школе английский язык и литературу. Теперь, правда, это уже гимназия.
– А ваш приемный отец?
– Психолог, кандидат наук.
– Ну вот видите, вам просто повезло, что рядом с вами в трудный момент оказались опытные профессионалы, педагог и психолог. Если бы не они, мы бы с вами сейчас вряд ли разговаривали бы.
– Почему? – удивился Мусатов.
– Да потому, что не было бы никакой стажировки в США. Вы просто не сделали бы такую карьеру. Неврозы, голубчик вы мой, штука очень коварная и опасная. Нажить легко, избавиться потом невозможно. Можно приглушить, притушить, добиться стойкой ремиссии, а он в самый неожиданный момент поднимет голову и напакостит. Вы надолго в наши края?
– Да нет, – пожал плечами Андрей, – как только получу свидетельство – сразу назад. А что?
– Мне нужно с вами поговорить, и очень серьезно. Вы могли бы задержаться здесь до завтра?
Время у Мусатова было, он ведь не предполагал, что так легко найдет нужную больницу, и начальство на работе отпустило его на несколько дней. Но зачем ему задерживаться в этой жуткой дыре?
– В принципе, мог бы, – неуверенно ответил он. – Но…
– Я сейчас дам команду, чтобы в архиве подняли документы и выписали вам справку, на основании этой справки ЗАГС даст вам новое свидетельство. Сегодня вы в ЗАГС все равно уже не успеете. Я предлагаю вам переночевать у меня, а завтра вы закончите все свои дела и спокойно уедете.
Перспектива провести ночь у доктора Юркунса показалась Андрею не самой приятной, но ведь гостиница в этой дыре если и есть, то такая, что «мама, не горюй». А может, ее и вовсе нет.
– Здесь есть гостиница? – на всякий случай спросил он.
– Есть, – улыбнулся Лев Яковлевич, – но даже мое скромное жилище на три порядка лучше. И не беспокойтесь, вы меня никоим образом не стесните, я живу один, а места у меня более чем достаточно.
На том и порешили.
Лев Яковлевич Юркунс росточка был совсем небольшого, и когда Андрей это увидел, то страшно удивился, потому что, восседая за рабочим столом в служебном кабинете, доктор производил впечатление человека массивного и крупного. Наверное, играла свою роль спокойная доброжелательность, несуетливость и уверенность, с которой держался пожилой психиатр. Дома же у себя, в небольшой трехкомнатной квартирке, расположенной на четвертом этаже блочной пятиэтажки, он смотрелся маленьким старичком, сухоньким, но живым, энергичным и веселым.
– Располагайтесь, голубчик, – гостеприимно улыбался он, проводя Андрея по всем комнатам. Вот здесь сплю я, а вы можете выбирать между кабинетом и гостиной, в обеих комнатах, как видите, есть большие диваны, они раскладываются, очень удобные. У меня много гостевых мест. Если хотите мой совет, то выбирайте диван в кабинете.
– Почему?
– Вы, голубчик, курите, и курите много. Ужинать и беседовать мы с вами будем в гостиной, зачем же вам потом спать в прокуренном помещении? На улице пока еще очень холодно, так что посидеть с открытыми окнами нам с вами не удастся.
Андрею не терпелось узнать, о чем же хотел поговорить с ним Лев Яковлевич, но Юркунс категорически отказался беседовать «о серьезном» до ужина. Ужин был поистине холостяцким и состоял из отварного картофеля и сосисок, но и того, и другого было много, так что голодным Андрей не остался. Он пытался внести свою лепту в организацию трапезы и все порывался зайти в магазин и купить каких-нибудь продуктов, но Лев Яковлевич запретил ему даже думать об этом.
– В нашем магазине все просроченное или поддельное, эдак и отравиться недолго. Единственное, что можно покупать без опаски, это сосиски, они вполне приличные и наверняка не просроченные, потому что их каждый день привозят и в течение двух часов раскупают, но сосисками у меня и без того холодильник забит, я в основном ими питаюсь.
– Что же вы едите, если магазинные продукты не покупаете? – удивился Андрей.
– Ну как что? Картофель, капусту, свеклу и прочие овощи, это подделать нельзя. Хлеб, само собой, и всякую бакалею, она хоть и низкого качества, потому что поддельная, но отравиться ею невозможно. Иногда езжу в Вологду, запасаюсь консервами, иногда на рынке мясо покупаю. Да много ли мне, старику, надо?
К предусмотрительно захваченной Андреем из Москвы бутылке коньяку Лев Яковлевич отнесся вполне благосклонно, однако, накрывая стол к ужину, рюмки не поставил.
– А коньячок потом, – пояснил он, – под разговор. Картошка и сосиски с коньяком – это моветон, голубчик.
«Да что же это за разговор такой таинственный!» – недоумевал Мусатов, поглощая безвкусные ватные сосиски и сладковатый промороженный картофель. Наверное, ничего особенного доктор Юркунс ему не скажет, просто старику скучно и одиноко, и он воспользовался случаем, чтобы залучить к себе гостя и скоротать вечерок. Ну да ладно, какая, в сущности, разница, все равно ведь ночевать пришлось бы, в ЗАГС Андрей действительно в тот день уже не успевал.
Наконец, дело дошло и до коньяка.
– Скажите, голубчик, – начал неторопливо Лев Яковлевич, – как вы считаете, может опытный врач отличить леченого больного от залеченного здорового?
Вопрос показался Андрею странным и несколько не по адресу.
– Я же ничего в этом не понимаю, Лев Яковлевич, я не врач. А в чем смысл?
– Смысл, голубчик вы мой, в том, что я-то как раз врач, и с большим, позволю себе заметить, опытом. Пятьдесят пять лет в психиатрических лечебницах кое-что да значат. Ваша матушка еще на свет не появилась, а я уже лечил больных. И поверьте мне, я могу отличить больного, которого подвергали лечению, от изначально здорового человека, которого просто-напросто залечили.
Ну вот, как и следовало ожидать, сейчас пойдут разговоры о разных случаях из практики психиатра. Слушать это Андрею было совершенно не интересно, но куда ж деваться.
– Так вот, хочу вам сказать, Андрей Константинович, что ваш батюшка Олег Петрович Личко никакой шизофренией не страдал. Он был абсолютно здоровым человеком. Конечно, галоперидол, аминазин и прочие штучки из кого угодно могут сделать растение, но у меня достаточно опыта, чтобы в конце концов определить, чем было это растение раньше, чертополохом, с которого в процессе лечения ободрали колючки, или чем-то совсем иным. Вы меня понимаете?
– Нет, – честно признался Андрей. – Вы хотите сказать, что Олегу Петровичу поставили ошибочный диагноз? Что он был не маньяком-убийцей, а убийцей обыкновенным? И что его место было не в психушке, а в тюрьме?
Юркунс сделал крохотный глоточек коньяку, осторожно поставил рюмку на стол и окинул Андрея долгим взглядом своих светлых ярких глаз.
– Олег Петрович не был ни маньяком, ни убийцей. Вот что я хочу вам сказать. Когда его перевели в нашу больницу из Белых Столбов, он был в очень плохом состоянии. Есть такая формулировка: в связи с утратой общественной опасности. В Столбах сочли, что он уже не опасен, то есть утратил активность, интерес к жизни, и его можно переводить в больницу общего типа. В целом они не ошиблись, Олег Петрович действительно утратил активность в том смысле, что не рвался кричать на всех углах о своей невиновности, у него на это просто уже не было сил. Но он до самого последнего дня пытался разобраться, что же все-таки произошло и почему его осудили за то, чего он не совершал. Ему было трудно сосредоточиться, он начинал размышлять и очень скоро сбивался, забывал ход собственных рассуждений. У него в результате псевдолечения серьезно нарушилась память, то есть он достаточно хорошо помнил события давние, но придумав какое-то логическое построение, уже через десять минут забывал его и совершенно терялся. Я посоветовал ему вести записи. Он так и сделал, записывал свои мысли, воспоминания, потом терял листки или рвал их и выбрасывал, потому что приходил в отчаяние от того, что ничего не получалось. Я приносил ему новую тетрадь, он снова записывал, и снова вырывал листы и выбрасывал.
– Погодите, – голова у Андрея шла кругом, и он вдруг подумал, что даже если у него, здорового мужика, мысли в стрессовой ситуации разбредаются в разные стороны, то каково же было тому, кого долгие годы закалывали прихотропными препаратами, – погодите, Лев Яковлевич, я ничего не понимаю. Откуда вы можете быть уверены, что Олег Петрович не совершал тех преступлений, за которые его привлекали к ответственности? Да, я верю, что вы как опытный врач смогли понять, что он изначально был здоров, я это допускаю. Но как вы можете точно знать, что он невиновен?
– Хороший вопрос, – Юркунс улыбнулся краешком тонких губ. – Если он виновен, но при этом психически здоров, то почему он оказался на принудительном лечении, а не в колонии?
– Он мог симулировать, чтобы уйти от ответственности.
– Ну конечно, и при этом каждый день заявлять, что он здоров. Что ж это за симуляция такая? Ему поставили диагноз шизофрении, а когда он попал ко мне, я не увидел ни одного сипмтома, ни единого признака этого заболевания. А шизофрения, голубчик мой Андрей Константинович, не излечивается, это вам не алкоголизм какой-нибудь. Вы мне скажете, что у Олега Петровича была стойкая ремиссия, поэтому я не обнаружил признаков заболевания, а я вам отвечу, что я как врач гроша ломаного не стоил бы, если бы не умел отличать больных в ремиссии от здоровых. Я очень много занимался вашим батюшкой с самого начала… Впрочем, простите, я вижу, вам неприятно, когда я называю Олега Петровича вашим отцом. Хорошо, я буду называть его по имени-отчеству.
– Спасибо, – пробормотал Андрей, которому и впрямь слова «ваш батюшка» резали ухо. – Вы всеми своими больными так внимательно занимаетесь?
– Разумеется, нет. И далеко не обо всех я так долго храню в памяти различные подробности. Кстати, и Олегом Петровичем я не должен был заниматься, для этого есть палатные врачи. Но меня привлекла его фамилия.
– Это почему же?
– Ну, вы-то не знаете, а вот любой психиатр скажет вам, что Личко – это имя в нашей науке весьма известное. У нас есть классификация «по Личко», определения «по Личко», в общем, в психиатрии это классика. И мне стало любопытно взглянуть на больного, носящего такую же фамилию. Олег Петрович, что называется, «зацепил» меня с первой же беседы, я некоторое время наблюдал его сам, а потом отменил все назначения, оставил только общеукреплящие препараты, витамины, стимуляторы мозгового кровообращения… Впрочем, вам эти детали ни к чему. Я как врач понимал, что после лечения в Белых Столбах он уже не восстановится полностью, но надеялся, что смогу хоть чем-то помочь ему. Вы еще очень молоды, голубчик, вы не знаете, какой была жизнь в середине восьмидесятых, когда Олег Петрович попал в нашу больницу, и по каким правилам тогда играли. Я не мог ни опротестовать диагноз, ни изменить его. Я не смел. Мне хотелось продолжать работать и, если угодно, жить. Диагноз Олегу Петровичу поставили в институте судебной психиатрии, а вы знаете, что это такое? Конечно, вы не знаете, откуда вам знать! Если бы я посмел поставить под сомнение их диагноз, меня постигла бы примерно такая же участь, как и Олега Петровича. В институте судебной психиатрии в те годы ставили диагнозы всем диссидентам и прочим неугодным лицам, которым нужно было заткнуть рот. Там работали блестящие ученые, превосходные диагносты, там была мощнейшая научная база, но что они могли сделать, когда поступал звонок сверху? Ни-че-го! Им приказывали – и они ставили диагноз, потому что наша тогдашняя власть сделала психиатрию своим подручным карательным средством. И все оказались заложниками: и больные, и здоровые, и сами врачи. Вы знаете, что произошло с человеком, который стрелял в Горбачева?
– Нет, – удивленно протянул Андрей. – Я и случая такого не помню. А что, в Горбачева стреляли?
– Боже мой, голубчик мой, как же вы молоды! – весело воскликнул Юркунс и почему-то рассмеялся. – Как многого вы не знаете из нашей прошлой жизни! Так вот, в Горбачева стреляли прямо-таки на Красной площади, во время демонстрации, из толпы. Стрелка вовремя обезвредили, он только-только успел оружие достать и прицелиться. И знаете, что сделал Горбачев? Он сказал, что не хочет, чтобы этот человек сидел в тюрьме, и если его нужно наказать, то пусть его сделают психически больным. Сказано – сделано, команда свыше – это приказ. В два счета соорудили диагноз, и человек пять лет пробыл в заведении по моему профилю. Правда, лечили его не так исступленно, как Олега Петровича, все-таки времена были уже другие, и тот стрелок вышел из больницы почти совсем сохранным.
– Но кому был неугоден Олег Петрович? Он был обыкновенным милиционером, оперативником, к тому же совсем молодым… – растерянно произнес Андрей. – Если бы он был диссидентом, мама знала бы об этом, а она искренне считает его убийцей. Тогда что же?
– Вот именно, голубчик, – Лев Яковлевич налил себе еще коньяку и принялся потягивать мелкими глоточками. – Тогда что же? Кстати, Олег Петрович действительно не был диссидентом, потому что даже в самые ясные часы и минуты никаких подобного рода рассуждений или высказываний я от него не слышал. Значит, было что-то другое.
– Но что же, что? За что можно запереть в психушку молодого милиционера и залечить его до состояния растения? У него были какие-нибудь предположения? Ну хоть какие-нибудь? Вы ведь сами сказали, что много общались с ним, он должен был вам сказать, если бы что-то подозревал.
– В том-то и дело, что он ничего не подозревал. И потом, как вы себе представляете наше с ним общение? Долгие вечерние беседы в тихом кабинете за чашкой чаю, как у нас с вами сейчас?
Честно признаться, Андрей почему-то именно так и думал.
– У главврача масса забот, должен вам заметить. Это только малосведущие люди думают, что главный врач – это именно главный врач, то есть врач всем врачам, самый лучший специалист в данной больнице. Может быть, так оно и есть, да только фукция главврача не в том состоит, чтобы лучше всех ставить диагнозы и лечить, а в том, чтобы обеспечить жизнедеятельность вверенной ему больницы. Чтобы крыша не протекала, чтобы санузлы не засорялись, чтобы лекарства были в наличии и в потребном ассортименте, чтобы вакансии врачей, сестер, санитаров и нянечек не пустовали, чтобы продукты вовремя привозили, чтобы у пожарной инспекции и санэпидстанции не было претензий, чтобы прачечная работала, как надо… всего и не перечислишь. И после рабочего дня, наполненного всеми этими хлопотами, как-то не хочется и минуты лишней оставаться в кабинете. Хочется прийти домой, раздеться, поужинать и взять в руки умную книжку. Ни с кем не разговаривать. Хочется тишины и молчания. Поэтому разговоры мои с Олегом Петровичем имели место в основном днем, чаще всего – во дворе, если он сидел на лавочке и дышал воздухом, а я пробегал мимо и у меня были свободные десять-пятнадцать минут. У него в руках всегда была тетрадка, в которую он пытался записывать свои мысли, воспоминания и рассуждения, и если у меня было время, я просил показать пару страниц. Должен вам сказать, голубчик, что даже в письменном виде это было довольно бессвязно, но две вещи повторялись постоянно, и я их запомнил. Вам интересно?
«Нет, – хотел было ответить Андрей. – Мне совершенно не интересно, что там писал в своих тетрадках этот псих. Мне нужна справка, на основании которой мне выдадут свидетельство о смерти, свидетельство я отнесу в посольство США и получу визу, чтобы уехать на пять месяцев на стажировку. Всё. Больше мне ничего не нужно и не интересно. Даже если Олег Петрович не был сумасшедшим, даже, в конце концов, если он и убийцей не был, то какое это теперь имеет значение? Для меня, во всяком случае, – никакого. Я не Андрей Олегович Личко, я – Андрей Константинович Мусатов, и мне нет дела до бессвязной писанины несчастного милиционера, которого во времена советской власти запихнули в психушку и залечили до полного разрушения личности. Нет мне никакого дела, нет, нет!!!»
Но вместо этого он почему-то ответил:
– Конечно, интересно, Лев Яковлевич.
Но обмануть доктора Юркунса оказалось не так-то просто. Он, казалось, прочел невысказанные мысли Андрея, потому что недобро усмехнулся.
– Не уверен, голубчик. Мне кажется, вы лукавите. Трагическая история Олега Петровича, похоже, оставила вас равнодушным. Но я все равно расскажу вам то, что собирался, даже если вам это не нужно и не интересно. Как знать, возможно, ваше отношение к этой истории со временем изменится, и тогда то, что я вам расскажу, может оказаться полезным. Так вот, в писаниях Олега Петровича постоянно повторялись две фразы. Первая: «Если бы знать, почему Лена так поступила». Или, как вариант: «Не понимаю, зачем Лена это сделала. Мне кажется, если я это пойму, то пойму и все остальное.» И вторая фраза: «Все дело в Группе. Мне кажется, это единственное объяснение. « Причем слово «Группа» во всех случаях было написано с заглавной буквы. Ну вот, кажется, и все. Больше мне нечего вам сообщить, Андрей Константинович. А вы, голубчик? Ничего спросить не хотите?
На этот раз ответ «Не хочу» даже не пришел Андрею в голову. Ему стало интересно, как интересно бывает дочитать до конца детективный роман, чтобы узнать, кто же все-таки преступник, хотя ни один из персонажей не вызывает ни малейшего человеческого интереса.
– А кто такая Лена? И что это за группа с заглавной буквы? Вы что-нибудь об этом знаете? – спросил он.
– Насчет группы – ничего, – развел руками Лев Яковлевич. – А вот что касается Лены – тут у меня есть кое-какие соображения. Вы, конечно, не знаете, но я вам скажу: когда человека направляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу, вместе с медицинской картой обязательно прикладывают копию судебного решения.
– Ну, это понятно, – пожал плечами Мусатов. – Должен же быть документ, на основании которого человека помещают в больницу. Почему вы думаете, что я этого не знаю?
– А вы знаете, как выглядит это решение? – хитро прищурился Юркунс.
– Ну как… Обычно выглядит. Бумажка, официальный бланк с реквизитами, все такое.
– Ой, Боже мой, – старый доктор снова расхохотался, – как же вы молоды, голубчик, как же вы молоды! Неужели вы всерьез полагаете, что тридцать лет назад жизнь была такой же, как сейчас? Какие бланки? Какие реквизиты? Бог с вами, окститесь! Вы хоть примерно представляете себе принципы ведения делопроизводства в те времена, когда не было компьютеров, а ксероксы были большой редкостью и все до единого стояли на учете в КГБ, и для того, чтобы сделать копию одной-единственной никому не нужной бумажки, нужно было получить сто пятьдесят разрешительных и согласовательных подписей?
– Я не понимаю, к чему все это, – сердито буркнул Андрей, которого бесконечные упоминания о его молодости и неопытности уже стали раздражать.
Лев Яковлевич плеснул немного коньяку в опустевшую рюмку и стал задумчиво крутить ее за толстую короткую ножку.
– Не сердитесь на меня, – внезапно улыбнулся он, – я так часто говорю о вашей молодости не потому, что хочу как-то поддеть или уколоть, а только лишь для того, чтобы вы перестали, наконец, равнять прошлое с настоящим. Это разные эпохи, принципиально разные, и никакие аналогии тут не проходят. Чтобы что-то понять в той жизни, недостаточно обладать острым аналитическим умом. Нужно знать. В частности, нужно знать, что если подсудимый признается виновным и вменяемым, суд выносит ему приговор, а если виновным, но невменяемым, как это было в случае в Олегом Петровичем, выносится судебное решение. Названия-то разные, и это юридически оправдано, все-таки в одном случае человек признается преступником, а то, что он сотворил – преступлением, а в другом случае человек признается психически больным, а то, что он сделал, называется общественно опасным действием невменяемого, но суть одна, и выглядят эти документы совершенно одинаково. И в том и в другом содержится полное описание содеянного и излагаются доказательства, в том числе и показания свидетелей, называются имена этих свидетелей. Просто в самом конце, в так называемой резолютивной части документа, в одном случае пишется: «суд приговорил», а в другом – «суд решил», вот и вся разница.
– Ну и что? – недоумевал Андрей. – Какое это имеет отношение к нашему делу?
– О, вот вы уже и сказали: к нашему делу. Это прогресс. Так вот, копий приговоров и решений всегда нужно много, экземпляров десять-двенадцать, чтобы хватило для всех инстанций и заинтересованных лиц. А печатные машинки, даже самые лучшие, электрические, на обычной бумаге пробивали максимум пять экземпляров, из которых только первые три были хорошо читаемыми, а два последних – почти «слепыми». Поэтому все приговоры и решения печатались на папиросной бумаге. Первый экземпляр, как и положено, делали на хорошей бумаге, а все остальные – на папиросной. Не знали?
– Не знал, – улыбнулся Андрей. – Мне это и в голову не приходило. Вы хотите сказать, что у Олега Петровича был на руках приговор?






