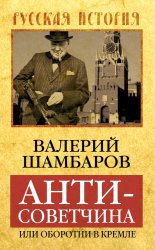Станция Переделкино: поверх заборов Нилин Александр
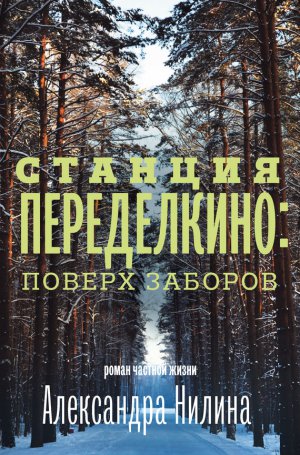
© Нилин А.П.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Они ушли, а я остался их соседом
по Переделкину, по времени и по себе,
вместившему память об ушедших…
Александр Нилин
Судя по всему, я и зачат был здесь длинной дачной ночью осенью тридцать девятого – и мне ли не чувствовать дачный поселок Переделкино своей родиной?
Все, кого узнал я в раннем детстве (или чуть-чуть позже), давно ушли, и вот что самое забавное: очень скоро не будет и меня – ребенка, впервые увидевшего литературных людей сквозь штакетник соседских заборов.
Для красного словца, без которого про писателей не расскажешь, я сразу же отчасти и приврал: за войну все заборы между дачами сожгли, и вновь они появились позднее, когда я чуть подрос.
Мое первоначальное представление о Переделкине – территория, не разграниченная ни послевоенным штакетником, ни сплошными заборами впоследствии.
И какой сюжет мог увлечь меня больше, чем тот, что заложен был в особенностях писательского соседства – менявшегося в оттенках, но все равно продолжавшегося?
Все, кого знал я с детства, исчезли.
Они уходили один за другим. Одни жили в Переделкине (и вообще) очень долго, другие относительно долго; были и такие, что ушли, как принято говорить, безвременно, хотя кому дано знать, с какой интенсивностью расходуется время, отведенное на жизнь каждого из нас.
Они ушли, а я остался их соседом – по Переделкину, по времени и по себе, вместившему память об ушедших.
“Но кто мы и откуда…”
Доподлинно ли знаю, что строчка эта сочинена на дачной переделкинской земле?
А какая – в данном случае – разница?
Книги на тщательно проверенном справочном материале напишут другие, а ты, Саша (я то есть), полагайся на эксклюзив собственной памяти.
И все же лестно надеяться, что вопросом “кто мы” и так далее наш сосед задался именно в Переделкине.
К тому же сам Борис Леонидович предпочитал тасовать карточную колоду безусловных реалий по своему усмотрению: не согласился же он с замечанием Ахматовой, что в белые ночи питерских фонарей не зажигали, – в его трансформации ночей утро должно было тронуть “первой дрожью” фонари непременно зажженные, а то как бы он назвал их “бабочками газовыми”?
За годы, проведенные в писательском поселке, я так и не сделался арендатором и прожил в Переделкине больше семидесяти лет на птичьих (родственных) правах.
Официальным владельцем здешних угодий считается потерявший свое прежнее значение Литературный фонд.
Но принадлежит Переделкино в своей писательской части и будет все равно принадлежать, когда исчезнет физически (что не за горами, а точнее, за гибнущим лесом), истории, и не только истории литературы.
И я, ничуть не смущенный неопределенностью своего статуса, позволяю себе развести действующих в повествовании лиц в определенную (мною же определенную) мизансцену для моментальных снимков.
I
Поверх заборов
Глава первая
1
Меня преследует, мучая, фраза: “Последнее мирное лето”.
Произнесенная как бы вслух, она помогает вызвать в памяти необходимое мне для повествования лето. Лето сорокового года – я родился тридцать первого июля. По совпадению: за окном столь малый фрагмент переделкинского пейзажа, что вряд ли он сколько-нибудь существенно изменился за прошедшие больше чем полвека. Некошеная трава с незажженными фонариками одуванчиков, накренившийся ствол березы, извилистая сосна и сохранившие стройность ради конвоирования темной аллеи тополя.
В последнее, действительно мирное лето крестный положил на мое имя в сберкассу сто рублей с условием, что вкладом я смогу воспользоваться по наступлении совершеннолетия – в тысяча девятьсот пятьдесят шестом то есть году.
Год, предшествовавший моему рождению, и первый год моей жизни в биографии родителей смотрится временем как бы не наибольшего для них благоприятствования.
Конечно, в историческом контексте их молодой оптимизм выглядит едва ли не кощунственным.
И вчитайся я в отцовские записи того периода не сегодня, а, скажем, позавчера, мое осуждение родительских настроений не знало бы удержу.
Сегодня же записи в старой тетради помогают мне не впасть в отчаяние – в толщу непрозрачных лет я не окунаюсь, а ныряю…
2
Мне всего полтора месяца, когда впервые еду я на автомобиле из Переделкина в Москву, о чем свидетельствует запись отца в тетрадь, названную им бортжурналом. Тетрадь эту он заводит в августе сорокового года по случаю покупки машины “М-1” (в просторечии “эмки”). В бортжурнал он вкладывает плотный конверт с грифом Управления делами СНК Союза ССР (Москва, Кремль).
Для покупки новой машины тогда требовалось распоряжение Совнаркома – оно и было получено шестого августа за Ки 898–451, а двадцать девятого “эмку” уже перегнали из Смоленска в Переделкино. И отец записывает, что со всеми накладными расходами и оплатой за перегон она обошлась ему в десять тысяч восемьсот сорок рублей шестьдесят пять копеек.
Это почти половина стоимости нашей старой машины, купленной у народной артистки Барсовой и ее мужа Бориса Львовича Камень-Камского. Но новую машину никак нельзя сравнить с дрянненькой барсовской колымагой.
Новую нашу машину можно сравнивать только с транспортом будущего. Она нам кажется сейчас самой красивой, самой лучшей.
Она черного цвета с красной полоской…
Что это? Хроника преуспевания молодого, едва переступившего в четвертое десятилетие литератора или, скорее даже, кинематографиста? Хлопоты его кажутся сплошь приятными и подтверждающими причастность к миру людей известных, влиятельных и тоже, разумеется, преуспевающих и, похоже, беспечальных, уверенных в своем завтрашнем дне. Все вокруг выглядят довольными судьбой.
Единственное исключение: “Обратно в Переделкино с нами ехала девушка Мариша, которую в этот день за опоздание на работу в Библиотеке иностранной литературы приговорили к пяти месяцам принудительных работ с удержанием двадцати пяти процентов зарплаты.
Мы угощали ее яблоками, везли в новой машине, но она все равно была очень грустная. Ее не развеселил даже пирожок с мясом, который я купил ей по дороге…”
Впрочем, и такая запись тоже есть: “Мы ходили с Евгением Петровым по парку его дачи и говорили обо всем и о войне. Он говорил, что это ужасно, что немцы сбросили миллион бомб на Лондон. К Петрову пришел его брат Валентин Катаев. И тоже сказал, что это ужасно.
А я пошел домой, чтобы писать сценарий и повесть про Мишку Селезнёва. В доме у нас тихо, тихо…”
Не гонит ли отец от себя ненужные для душевного спокойствия мысли? И нет ли доли самовнушения, нет ли психотерапии в подробном перечислении успокаивающих подробностей его тогдашней внешней жизни?
Он учится управлять машиной. “Возил Афиногенова на Баковку. Был выпивши. Вел плохо”.
Машины есть еще не у всех даже весьма известных собратьев.
“Дорогой Павел Филиппович, – пишет ему записочку Лев Кассиль, – если вы вернулись вчера, – встаньте, пробудитесь и с подательницей сего сообщите, в какой, как говорят моряки, часовой готовности Вы и Ваш «кар» находитесь”. Кассиль шутливо подписывается “Ответственный по футболу”.
Они едут вместе на международный матч московских динамовцев с болгарами – страстный спортивный болельщик Кассиль и отец, ни до, ни после той довоенной поездки на футболе не бывавший…
Театр – родителей приглашают на свои премьеры дачные соседи-драматурги: Александр Афиногенов и Борис Ромашов.
Знаменитое кафе “Националь” – завтраки, бритье в парикмахерской. “В «Национале» виделся с Луковым”.
“В сценарном отделе встретил Афиногенова. Поехали вместе в «Националь» …”
“Заехал в ВУАП. Встретил старика Тренёва. Познакомившись со мной, он сейчас же сказал: «Меня жена тормошит, говорит, что вы знаете, где продают “Бюик”. Хочу купить». Я сказал, что не знаю. Он огорчился. Подумал, наверное, что не стоило знакомиться”.
“У нас бал”, – записывает отец восьмого ноября. Запись короткая, поскольку: “…пьянствовали до пяти утра”.
В гостях были: режиссер Луков, кинооператор, снявший “Броненосца Потёмкина”, Эдуард Тиссе, Евгений Петров, Кассиль, Первенцев, Афиногенов и Вирта с женами, генерал-майор Спирин с женой и наказанная за опоздание на службу Мариша, навсегда оставшаяся другом моих родителей…
3
При слове «бал» я немедленно воображаю, как с детства привык, лакированный, разграфленный в крупную клетку потолок нашей дачной столовой, глубоко вобравший в себя электрический свет.
Атмосфера стойкой, я бы сказал, праздничности возникает в этой просторной комнате немедленно после щелчка выключателя.
И всю свою жизнь, явно недостаточно зарабатывая денег, я ни минуты не считал себя бедным – не из-за того ли, что ранние мои мечты слагались при долгом взгляде на клетки потолка, отчасти напоминающие шахматы и уж точно созданные для самых смелых ходов воображения?
И уж не припомню, в какой связи сказано было, что потолок, аналога которому ни на одной из построенных по стандарту дач городка писателей не было, сделан был по особому заказу первого арендатора.
И для меня этот дачник – Борис Пильняк – как бы исчез в омуте зеркального отражения вместе со всем, что окружало его здесь. Хотя на самом деле все произошло прозаичнее и оттого страшнее…
С Борисом Адроникашвили я познакомился в гостях у Гены Шпаликова в начале шестидесятых.
Я и раньше слышал о нем от Катерины Николаевны Виноградской, преподававшей во ВГИКе. Она рассказывала о талантливо описанной им вишне после дождя.
Борис был не только литературно талантливым, но и неотразимо красивым, женатым в первом браке на Людмиле Гурченко.
Помню его тамадой на свадьбе другой кинозвезды. Он производил впечатление бонвивана, и, хотя в веселье его чувствовалось вовсе не шутовство, а скорее артистическая, человеческая значимость, знака драмы в судьбе Бориса я тогда не прочел – в нашем поколении мы и при явной симпатии редко относились друг к другу с должным вниманием, занятые самими собой.
Впрочем, и в себе мы, похоже, не разглядели главного.
Я не сразу узнал, что Боря – сын Бориса Пильняка (носит материнскую фамилию).
И когда узнал, никак почему-то не связывал это обстоятельство с собою и Переделкиным – “общей” дачей.
Но Борис, задумавшийся, очевидно, о том же, что занимало всецело меня, написал о воскресном дне тридцать седьмого года, когда гости съезжались на дачу к писателю, за которым вечером придут… нет не на “черном вороне”, а на обыкновенной “эмке” и увезут из дома навсегда.
Оборудован ли был для веселья этот дачный дом?
Года не пройдет после “бала у Нилиных” – и начнется война.
Сразу после войны здесь соберутся отметить триумфальную, как большинству казалось, премьеру второй серии “Большой жизни”, на открытой веранде будут пить и веселиться любимые всей страной артисты – Пётр Алейников, Борис Андреев.
А через год автор сценария станет героем идеологического постановления партии о грубейших ошибках фильма.
И долго будет в опале, “под боем”, без денег, без ясности дальнейших замыслов, без того, главное, куража, который обрел он с началом сороковых, судя по бортжурналу…
4
В записках преуспевающего молодого кинодраматурга и обещающего прозаика нет и намека на отсутствие вчера еще своего жилья.
Отца выгнали из редакции «Известий» году в тридцать пятом и по суду потребовали освободить комнату в ведомственной квартире, помещавшейся по странной случайности в доме на Большой Ордынке, где жили мои друзья Ардовы, чей дом я всю молодость считал своим вторым, а то и первым.
На основе очерков, сочиняемых прежде для газеты, отец начинает писать роман.
Собственно, на эпическом жанре он не особенно настаивает – не случаен же подзаголовок “Очерки обыкновенной жизни”.
Написанное в необычайно краткие сроки он несет тем не менее в самый и тогда уважаемый литературный журнал “Новый мир”. Надо заметить, что “Новый мир” редактирует в этот момент Иван Михайлович Гронский, уволивший отца из газеты. Однако в тридцать шестом году роман публикуется.
И книжка журнала с отцовским романом попадается на глаза режиссеру Леониду Лукову. Он предлагает делать по книге фильм. И в год моего рождения по всем экранам идет картина “Большая жизнь”. А Гронского, как и многих знаменитых людей, репрессируют. В пятьдесят шестом году, когда семья наша будет жить на Беговой, я услышу в телефонной трубке: “Передайте папе, что звонил Иван Михайлович Гронский”. Гронский работал в Институте мировой литературы.
5
После ареста Пильняка на даче поселились два замнаркома авиационной промышленности. Литфонд, которому принадлежали все дома в городке писателей, от этой дачи как бы отмежевался – боялся связываться с НКВД.
Зимой тридцать девятого года на прогулке отец с журналистом Сергеем Диковским размечтались, что хорошо бы им тоже поселиться, как “взрослым”, на даче в Переделкине. Дачу, где замнаркомы по каким-то соображениям не зимовали, молодые люди облюбовали сначала как бы в шутку.
К изумлению всех окружающих, повергнув в растерянность контору писательского городка, они самовольно вселились в дачу – и сторожа наняли, чтобы он топил и охранял ее.
Замнаркомы подали в суд, забыв в горячке, что никаких прав на литфондовское имущество не имеют, – и проиграли дело.
А НКВД, естественно, на случившееся никак не отреагировал: замнаркомов, между прочим, сажали, пожалуй, чаще, чем писателей…
Для объективности повествования я могу, конечно, бросить отцу с Диковским упрек в суетности или поиронизировать о преждевременности переселения их на “литературную территорию”. Но я же знаю, что было дальше.
Я знаю, что шаг был сделан навстречу судьбе.
Я не только тень Пильняка имею сейчас в виду. Присутствие живых знаменитых писателей, соседство с ними, при всей кажущейся лестности такого соседства, никакого допуска к пирогу еще не обещало.
Но случайно ли в отцовских записях четверть века спустя припоминается эпизод, как весной сорок первого года в Переделкино приехала мама его тогдашнего приятеля Вадима Кожевникова и по ошибке толкнулась в калитку напротив, где жил Николай Погодин. Она спросила: “Где дача Нилина?” – “А кто он такой?” – спросил пьяный Погодин. – “Писатель…” – “Такого писателя нет, мадам…”
Дела же отца к той весне шли по всем приметам лучше и лучше.
Весь сороковой год с экранов не сходили сразу две его картины. Кроме “Большой жизни” шла еще поставленная Иваном Пырьевым “Любимая девушка” с Мариной Ладыниной в главной роли.
Со всех сторон предлагаются договоры на сценарии.
Замнаркома угольной промышленности торопит с новым фильмом о шахтерах.
На радио делается монтаж по “Большой жизни”.
Театр предлагает переделать сценарий в пьесу.
Запись в бортжурнале, сделанная в воскресенье шестнадцатого марта сорок первого года: “Утром включили в семь часов радио и до девяти ждали передачи о Сталинских премиях. Дали”.
Это было самое первое присвоение премий.
Лауреатами стали в тот раз самые знаменитые писатели: Шолохов, Алексей Толстой, Твардовский.
Первоначальное лауреатство возводило, казалось бы, в ранг, освобождающий от сомнений в счастливой будущности.
И все же нельзя сказать, чтобы награда напрочь опровергала замечание соседа Погодина.
Проза отца, обратившая на себя внимание кинематографистов (“Любимая девушка” тоже ведь экранизация рассказа), широкого читателя в ту пору не обрела.
Он, в сущности, только начинал. Должно было пройти время для признания в профессиональной среде.
А он уже в Переделкине, на машине, лауреат… Правда, сейчас видишь, что как минимум два из опубликованных им рассказов (например, “Знаменитый Павлюк” и “Модистка из Красноярска”) какое-то место в литературе, наверное, обеспечивали.
Истинному успеху прозаика нужно эхо времени.
В затянувшейся паузе вдруг и позабудут.
Но страшнее всего – разочаровать, заторопившись с публикацией нового.
6
Странно, но по тяготеющему к светской хронике легкомысленному бортжурналу каким-то образом догадываешься, что владельцу новенькой “эмки” работа легка и в радость. Эйфории он, по складу своего характера, не испытывал. Но, склонный к острым приступам тревоги во все периоды жизни, он в начале сороковых годов, несомненно, гонит от себя неприятные мысли.
Едет в командировку от “Правды” в Донбасс – и публикует написанные там очерки сразу же по возвращении в Москву, точнее, в Переделкино.
“Вечером приходил Вирта. Хвалил повесть «О любви»” – это в “Новом мире” напечатанная вещь, переделанная отцом в середине пятидесятых годов в “Жестокость”, принесшую ему наконец известность.
Оценок и рассуждений в записях мало. Однако лучше бы их не было совсем.
Ну вот, пожалуйста: “Разбирали пьесы Леонова «Метель» и Катаева «Домик». Доклад делал Фадеев. Осуждал. Затем выступил непременный оратор Вишневский. Крыл. Потом выступали разные, в том числе Николай Асеев. Осуждал мягко. Наконец, говорили Леонов и Катаев. Каялись. Я запечатлел для себя только самое главное, это очень страшно, когда писатель отстает от общества…”
Этот, допускаю, искренний, но слишком уж поспешный отклик еще дорого обойдется отцу.
В природе спасительных заблуждений автора сказывается прежде всего природа.
7
Я много раз спрашивал потом мать: но неужели вы никогда, ну хотя бы лицемерно-осуждающе, ничего не говорили о тех, кто не по своей воле покинул дачи Переделкина, – о Бабеле, о том же Пильняке?
Она уверяла: нет, никто никого не осуждал, однако и не вспоминал; вообще не вспоминали почти о случившемся, словно в иной и бесконечно далекой жизни все это случилось, а не два года назад…
И только Афиногеновы обмолвились как-то невзначай о том, что не зажигали по вечерам света, сидели в темноте на балконе, ожидая: у каких ворот остановится машина – у Пастернака, Всеволода Иванова, Федина?
Улица, ведшая к Афиногеновым, начиналась дачей Павленко: теперь известно, что, пользуясь дружбой со следователем, Павленко, прячась за портьерой, присутствовал на допросах Мандельштама.
Но ведь и Бабель, и Пильняк близко знали видных должностных лиц, водили тесное знакомство с начальством из карательных органов – как это повлияло на их судьбу?
Меч был занесен над каждым.
И каждый, выходит, был готов при малейшем послаблении забыть гнетущие его страхи? Забыть или спрятать поглубже в себя (от чего вряд ли становилось легче)?
Узнавший страх (у него и портфель со сменой белья и пижамой был наготове) Александр Афиногенов к началу войны воспрял духом после нашумевших премьер в лучших театрах.
Дом его продолжал быть открытым. Родители мои частенько гостили у Афиногеновых, где и познакомились с Иваном Тимофеевичем Спириным.
В квартире Спирина на стене висела фотография: Сталин целует Ивана Тимофеевича… Иван Тимофеевич Спирин – флаг-штурман первой воздушной экспедиции на Северный полюс – оказался в числе и первых Героев Советского Союза. Он любил артистов, тянулся к писателям. В Переделкине он построил дачу уже после войны, но гостем зачастил сюда гораздо раньше.
В свою очередь переделкинские обитатели регулярно пользовались генеральским гостеприимством. Когда для родителей перестала быть тайной моя любовь к напиткам, отец в сердцах предположил: а не зачат ли Саша был после винокушества у Спирина?
Работники искусства обожают начальство.
К тому же в начале сороковых годов авторитет военных, тем более летчиков, был необычайно велик.
В общении генерала Спирина с художественной интеллигенцией я бы все же обратил внимание на нюанс, подмеченный женой Афиногенова – американской журналисткой Дженни.
Высказываемое в застолье писателями или актерами она обычно уже где-то читала или слышала.
И только в репликах Ивана Тимофеевича находит для себя безусловно новое и вполне оригинальное.
8
Отец мой не умел дружить – и на одиночество, остро ощутимое им в конце жизни, был в общем-то обречен.
Любопытно, что быстрее всего отцу наскучивали люди известные, те, к кому по обыкновению тянулись окружающие. Мне иногда теперь кажется, что относительно малая известность самого отца в какой-то мере связана с тем, что именно во взаимоотношениях со знаменитостями он бывал нетерпелив и недостаточно к ним внимателен.
А на продолжительную известность скорее может рассчитывать тот, кто сумел попасть в определенный круг, задержаться в “стае” тех, кто “всегда” на виду…
Писательское Переделкино изначально жило по неписаным правилам стаи.
Судя по записям в бортжурнале, где рассказывается о новоселье Кассиля, отец к зиме сорок первого года уже охладел к Афиногенову. Но отношения со Спириным оставались наилучшими. И не только потому, что генерал был крестным его сына.
Сегодня, разумеется, не меня одного шокирует “назначение” крестным в ходе застолья вместо положенного таинства.
Как вообще могло прийти в голову отцу и Спирину – людям православным – обратить в шутку обряд, непременный в их детстве?
Четверть века спустя отец записывает: “Очень религиозный в раннем детстве, я вскоре, зараженный «духом времени», легко отверг все религиозное и, как все, привык, не размышляя, с насмешкой относиться к самому понятию – Бог. И сейчас я должен что-то преодолевать в себе, заставить себя прочесть хоть абзац из рассуждений В.С. Соловьева о Богочеловечестве…”
Накануне своего пятидесятилетия, в девяностом году, то есть еще до гиперинфляции, я вспомнил вдруг про вклад, сделанный генералом Спириным на мое имя, и захотелось узнать: во что превратились те сто рублей за полвека? Выяснилось, что в двадцать девять рублей с копейками…
9
Вовсе не помню Ташкента времен эвакуации.
Смотрю на снимок восьмидесятилетней давности – возле черной щели среднеазиатского арыка: мать, тридцатичетырехлетняя, в черном пальто, Корней Иванович Чуковский, наш из Переделкина, тоже в пальто и с папкой под мышкой, седоголовый, но пружинисто-стройный в свои каких-то шестьдесят (ему предстоит еще долгая и непростая жизнь), и я в распахнутом коротком пальтишке, в картузике набекрень.
Вижу себя, но ничего сейчас своими тогдашними глазами увидеть не могу.
А ведь не сомневаюсь, что уловленное мною тогда живет во мне сегодняшнем…
На излете марта сорок второго года вернувшийся в Москву отец протоптал тропинку в завалившем двор на Неглинном снегу, – снег забился даже в подъезд, – вошел в огромный замороженный и необитаемый дом.
“Мертвенно-жесткий нетронутый снег, – вспоминает отец, – лежал у самых дверей квартиры. В коридоре холоднее, чем на улице…”
…Позапрошлый Новый год встречали у Афиногеновых. Дамы, кроме моей матери, что крайне огорчило ее, были в вечерних платьях.
С необыкновенной красавицей пришел знаменитый авиаконструктор Микулин, послуживший прототипом Бережкова в романе Александра Бека…
Каждый из гостей написал на отдельной бумажке свой прогноз: будет ли война в наступающем году? Бумажки сложили в конверты, конверты заклеили – они остались на хранение у Афиногенова.
Уже после гибели Афиногенова вскрыли конверт с прогнозом Спирина: генерал был уверен, что войны в ближайшее время не будет…
Отец порылся в старых бумагах – и случайно нашел бортжурнал. Перелистал его озябшими пальцами: “Было грустно и стыдно читать эти записи, пусть иронические, пусть нарочито глуповатые. И захотелось сделать заключительную запись, хоть теперь уже и нет машины и где-то далеко осталось сытое, ленивое и слегка тщеславное Переделкино…”
Рукою матери двадцать первого июня записано, что из города привезли в Переделкино режиссера, намеревавшегося работать с отцом.
“Я хорошо помню этот последний мирный вечер, – пишет в брошенной квартире продрогший отец, – режиссер Анненский Исидор Маркович, хорошо упитанный чистенький молодой человек с озабоченно нюхающим воздух носом, стоял у ворот нашей дачи и благодарил меня за то, что я согласился писать сценарий на белорусском песенном фольклоре, где должна быть отражена наша зажиточная жизнь в деревнях, наше раздолье и пафос мирного труда. Я говорил: «Да, конечно, это надо, своевременно, интересно. Будем писать»”.
Переделкино первого дня войны мне не слишком трудно вообразить.
Внешне, как свидетельствует запись, ничего не изменилось: “…буйно росла зеленая трава. Было знойное лето. Весь день по радио пели песни. Но в песнях этих уже была тревога. Пришла теща Вирты. Тревожилась, что вся семья уехала в Ригу. Обедали. Пили вино, думали. Из «Правды» приехал Миша Штих. Повез меня к редактору. Вызвался ехать военным корреспондентом. Вернулся на дачу. Всю ночь не спал. Всю ночь в мозгу стучали немецкие мотоциклы. Почему-то они первыми приходили на память, когда возникло представление о немецкой армии. Может быть, они были наиболее доступными выразителями ее стремительного марша в войне на Западе?”.
10
В Киеве отец остановился в “Континентале”: “Я тут жил неделями раньше, писал сценарии, пил водку…”
Он не был военнообязанным.
После перенесенного в детстве полиомиелита он всегда потом заметно припадал на левую ногу, которую энергично и косолапо выбрасывал вперед, стараясь скрыть хромоту особенностью походки. Тем не менее хромой военный в уже охватываемом паникой Киеве вызывал подозрение – и его несколько раз забирали в комендатуру, принимая за диверсанта…
“Рано утром мы на машине уезжали на фронт. Я выносил из «Континенталя» свой рюкзак и шинель. В вестибюле уже было много народу, встревоженного бомбежкой. Парни, девушки. Девушки говорили нам: «Счастливо». Было стыдно. Они не знали, что мы только корреспонденты…”
И еще из записей, сделанных в марте сорок второго в Неглинном переулке.
“Мы оставляли всё новые и новые города. Во Львове стреляли в нашу армию. Большой наш танк шел по плацу Бернардинскому. В него стреляли из окон. И кто-то бросил гранату. Танк развернулся и врезался в дом. Я вспомнил, как жил в отеле «Жорж»…”
“На станции Жмук произошел конфликт между начальником станции и старшиной, которому было поручено доставить состав со снарядами. Начальник станции почему-то не давал паровоза. Старшина три раза просил его. Потом застрелил. Минут через пять он застрелил еще машиниста и его помощника. Пришел в путейскую бригаду и сказал: товарищи, у меня никакого выхода нету. Я только что застрелил начальника станции, машиниста и помощника и сейчас вас всех перестреляю, если вы мне не составите состав. Состав, наконец, прицепили. Старшина снял гимнастерку, окатил себя водой из-под рукава, которым заправляют паровозы, и поехал дальше…”
Встретив по прибытии на обратном пути в Киев Бориса Лапина и Захара Хацревина, которых ко времени записи на этих оставшихся чистыми с июня сорок первого года страницах бывшего бортжурнала уже не было в живых, отец вспомнил юношеские стихи “Бобика” Лапина: “Солдат, учись свой труп носить, / учись дышать в петле, / учись свой кофе кипятить / на узком фитиле”.
Отец, похоже, начинал догадываться о сложности этой науки.
Вдрызг разругался со спутниками – корреспондентами Яковом Цейтлиным, Григорием Певзнером и награжденным медалью за Хасан фотографом Виктором Тёминым. Они сердили его разговорами о возможной гибели.
Цейтлину и Певзнеру его гневные упреки могли показаться и опасной демагогией, уставным патриотизмом.
Они, возможно, действовали в интересах самообороны.
И, как сам отец признает, “не без ловкости отомстили”.
“Не их, а меня вызвали в Москву.
Я ехал в товарном вагоне с летчиками, потерявшими до боя материальную часть. Они ехали за новыми самолетами. И нас долго преследовали два «Дорнье». Они кидали бомбы в наш эшелон, но попасть не могли. На этот раз бомбежка уже не волновала меня.
Я сильно струсил только один раз. В Житомире. Впервые за пять суток я снял сапоги, разделся голый и сел бриться в отеле. Все курятники на Украине называются отелями. И это был типичный курятник, деревянный, шаткий, скрипучий.
Бомбы без предупреждения стали ложиться около меня, и меня посетила ужасная трясучка. Я хотел заскочить обратно в штаны, но не мог: тряслись коленки. Отказался от этого намерения. Понял, что выйти на улицу в таком трясучем виде нельзя, скажут, что же у вас уж и Красная армия трусит (я был в военном). Заставил себя успокоиться.
После этого в Тернополе, когда бомбили куда страшнее, никакой трясучки не было. Было просто унизительно страшно. А потом и страх прошел. Осталось только чувство, которое, наверное, никогда не пройдет и повторялось уже и будет повторяться при каждой бомбежке, человеку тяжело думать, что он беззащитен.
В эшелоне это чувство, по-моему, особенно остро испытывали летчики. Их пугали бомбежкой, а они ничего не могли: у них не на чем было воевать. Они хмуро молчали. А один самый молодой младший лейтенант, посмотрев в открытую дверь на небо, крикнул: «Я хочу увидеть тебя, <…> твою мать, когда полечу обратно на МиГе», – и заплакал. Плачущего этого летчика я не забуду никогда”.
В пропотевшем, запыленном обмундировании отец вернулся жарким днем в Переделкино, показавшееся ему “потрясенным слухами”.
Он был здесь, в сущности, первым, кто видел войну. И после завтрака с вином на даче стал собираться народ.
Отец рассказывал, успокаивал.
Когда все, кроме Погодина, разошлись, Николай Фёдорович сказал: “Ну, Паша, все ушли. Расскажи теперь правду. Бьет нас немец? Бежим?” – “Бежим”, – подтвердил отец. Но ничего особенно “правдивого” рассказать не мог.
“Я говорил только то, во что верил тогда. Я говорил, что резервы наши в бой еще не вошли… Я верил в это и рассказывал, что армия наша все-таки и сейчас сильно бьет немца, хотя ей трудно… Все это я потом рассказывал Чуковскому Корнею, Борису Пастернаку и другим. В воскресенье мы лежали с Афиногеновым на задах его дачи, около ручейка, в зеленой траве, и ему я тоже рассказал…” (Через много лет опубликованы были дневники Афиногенова. И есть в них запись: “Приехал Нилин. Рассказывал о героизме наших солдат”.)
Лирические вечера в Переделкине прекратились. Последний был, кажется, накануне бомбежки.
11
Луков со своей съемочной группой собирался в Ташкент – кинематографистам дали вагон.
“Я решил, – вспоминает отец, – ехать, чтобы написать там сценарий. И, главное, увезти семью. Впервые инстинкт отцовства заговорил во мне. Было страшно думать, что Сашу каждую ночь придется таскать в сырую щель на даче Петрова.
Среди ночи во время бомбежки он вдруг проснулся и хохотал беззаботно. Веселила его свечка, горевшая в щели.
А папе было страшно за него, хотя сама по себе бомбежка уже не казалась страшной”.
Велик соблазн соврать, что я хоть какие-то детали этого путешествия запомнил. Однажды я так и поступил, когда на рубеже шестидесятых годов встретился в ресторане Дома актера с Петром Алейниковым – Ваней Курским из “Большой жизни”.
Мы расцеловались. Начались прилюдные воспоминания о “военной дороге”.
И мне уже казалось, что я всё и всех из того времени помню.
При слове “эвакуация” я теперь, отвыкающий врать, немедленно представляю себе великого и угасающего Алейникова за ресторанным столиком…
Конечно, кое-что вообразить себе могу, поскольку некоторых из пассажиров я узнал позднее и в жизнь мою они вошли…
Кинематографистам разрешалось взять с собою близких родственников.
И мы везли с собою обеих бабушек. Отец поэтому спал в тамбуре на бурках из кинофильма “Александр Пархоменко”.
Ночью он заходил в вагон – посмотреть, как я сплю:
“После барской пищи на даче, после всяких соков и каш Сашу теперь кормят чем придется, а он такой же крепкий, сильный, мой сын. Мать не закрывала на ночь окно, потому что в вагоне было смертельно душно. На ночь окно прикрывалось только простыней, и холодный ветер раздувал ее. А Саша спокойно спал, по-стариковски кряхтя во сне, будущий солдат наш. Днем я выносил его при остановках на перрон. Он самостоятельно еще не ходит. Но когда я держал его за руку, он рвался вперед, бежал, и на первых его сандалиях собиралась пыль многих перронов Средней Азии…