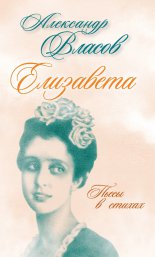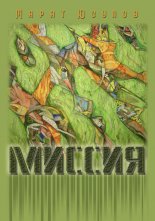Завтрак палача Бинев Андрей
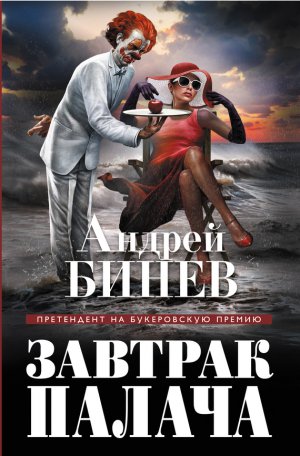
© Бинев А., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
* * *
Одно из главных отличий правды от лжи состоит в том, что правду не поколеблют никакие последствия, даже самые жестокие. Она в этом смысле похожа на льва. А ложь всегда в беспокойных мыслях о последствиях, потому-то она гибкая и изворотливая, как змея. Так что же ближе сердцу – жестокость или гибкость? Оттого лжи в мире больше, чем правды, как популяция змей неизмеримо многочисленней, чем популяция львов.
Спросили волка и льва: «Кто учил вас рвать зубами овцу?» «Голод», – ответили звери. И съели вопрошающего.
* * *
Я наблюдал, как полный господин с печалью смотрит в синеющую даль моря, словно размышляя о том, сколь долго оно будет радовать его стареющее сердце и юные голубые глаза, необычайно точно отражающие аквамарин воды и неба.
Я давно уже привык, что мои клиенты задумчивы и печальны, и в этом (быть может, лишь в этом) они честны перед Богом. Кто знает… Возможно, лишь я один так о них думаю, потому что притерпелся к их быту, страстям, вкусам, привязанностям и прочим слабостям человеческой натуры.
– Синьор Контино[1], не желаете еще что-нибудь? – спросил я у полного господина, вежливо склонившись у него за спиной.
Синьор Контино медленно поднял к небу свои аквамариновые глаза и произнес отстраненно, словно обращался к небу, а не ко мне:
– Знаешь ли ты одну забавную историю?
И небо, и я почтительно молчали.
Синьор Контино пожевал полными губами и тем же спокойным, даже чуть отрешенным голосом доверил нам с небом нечто важное, навеянное, видимо, лазоревой далью моря…
– Один итальянец подозвал к себе чернокожего официанта и спросил, знает ли тот, почему он весь черный, как ночь, а ладони у него белые. Тот удивленно пожал плечами. «А вот потому, – сказал итальянец, – что, когда я тебя красил в черный цвет, ты упирался в стену ладонями». Чернокожий промолчал. «А знаешь ли ты, почему у тебя белые пятки, в то время как все, кроме ладоней, черней ночи?» – не унимался мой веселый соотечественник. «Не отвечай! – строго велел итальянец. – Я отвечу за тебя. Это потому, что, когда я тебя красил и ты упирался ладонями в стену, я позволил тебе стоять ногами на земле». Чернокожий официант покачал головой и наконец задумчиво изрек: «Знает ли господин, почему он весь белый, а сфинктер у него темный?» Мой соотечественник не успел возмутиться, как чернокожий закончил свою мысль: «А все потому, белый итальянский господин, что после того, как вы меня покрасили, я стал вас иметь, но у меня к тому времени еще не просох член от вашей краски».
Синьор Контино энергично повернул голову в мою сторону, качнув шезлонг, и затрясся всем своим тучным телом. По его огромному белому животу прошли мощные тектонические волны. Я некстати подумал, что, наверное, именно так и выглядит настоящее землетрясение, а живот синьора Контино вполне мог служить школьным глобусом для визуального объяснения того, как происходят в природе столь разрушительные явления.
Я вежливо улыбнулся. Синьор Контино издал хлюпающие звуки и вновь отвернулся к бесконечному небу и бездонному морю. Он неосторожно махнул полной рукой и задел полупустой кубок с его привычным коктейлем: одна треть русской водки, одна треть «Джонни Уокер», одна треть сухого мартини и яичный желток. Безо льда. Синьор Контино называл эту убийственную бурду, на рецепте которой настаивал с самого начала, La strada della vita[2]. На мой же взгляд, это вело, скорее, от жизни, нежели к ней. Впрочем, в жизни все весьма абсурдно – что ни делай, все ведет в обратную от нее сторону. Так что, может быть, он и прав.
Почему он рассказал мне этот анекдотец? Потому что я официант, потому что я мулат? Думаю, нет. Это его наивный пасс в обратную сторону от расизма по тому же принципу реверсного движения, что и в жизни. Или наоборот? Кто ж его поймет, этого синьора…
Я придержал кубок и успокоил его возмущенную пляску на гладкой поверхности круглого белого столика. Меньше минуты назад, вероятно, так же стоило угомонить и сотрясающийся живот итальянца.
– Иди, марокканец! – одними губами произнес синьор Контино. – Мне надо подумать. – Он вновь уставился в синюшную даль, отражая ее лучший спектр в своих юных глазах.
Я не марокканец. Но это не важно. Здесь многое не имеет значения. Все или почти все сводится к единому знаменателю, как всех объединяет английский: у кого-то хуже, у кого-то лучше, а в конечном счете это тоже не важно.
Я неслышно отошел от итальянца и бросил быстрый, внимательный взгляд на немца – худого седого старца, слепленного господом словно в укор сдобному итальянцу. Глаза герра Штрауса карие, щеки впалые, шея худая, морщинистая и длинная, будто уворованная у страуса, живот подведен под выпирающие ребра, коленки ног торчат кверху бильярдными шарами, а длинные пальцы худых рук постоянно шевелятся, как ленивые червяки.
Немец все же поймал мой быстрый взгляд и недовольно поджал сухие бледные губы. Я прозрачно улыбнулся и приветливо кивнул.
Герр Штраус медленно поднял кверху костлявую, как у египетской мумии, длань и щелкнул в воздухе своими ленивыми тощими «червяками». Он недолюбливал меня, как, впрочем, и все остальное человечество. Пожалуй, герр Штраус – самый древний член нашего клуба. Он появился здесь за пару лет до меня.
Этот щелчок означал, что ему следует немедленно подать бокал белого сухого чилийского вина и стакан ледяной воды. Его костлявые ноги нетерпеливо шевельнулись на шезлонге. Но он вовсе не собирался вставать и бежать за вином. Скорее, хотел бы двинуть мне шаровидным своим коленом под задницу для ускорения. Я даже почти почувствовал, как крупный белый бильярдный шар (такой же, как в русском бильярде) попал мне в задницу, словно в лузу.
В холле номер четыре стояли три русских бильярдных стола – огромных, как вертолетные площадки. Администрация держала их для русских. Сейчас их в парк-отеле проживало двое. Они не любили друг друга, и в бильярд каждый из них играл сам с собой: просто с озлоблением катали шары, выкрикивая странные слова. Один стол всегда простаивал.
Одного русского называли Товарищ Шея, или Genosse Hals, что по-немецки это же и означало, но, говорят, на самом деле его когда-то звали товарищем Шеиным. Как ни странно, этот серенький невысокий человечек симпатизировал лишь одному герру Штраусу, а тот, судя по скупым ужимкам рептилии, отвечал взаимностью. Они словно происходили из одного племени, но общественные катаклизмы развели их семьи по разные стороны, и родство ютилось теперь лишь в холодной крови.
Я зашел под навес пляжного бара. Каменно-молчаливый, будто глухонемой, бармен, бельгиец Юм, как всегда, молча поставил мне на поднос бокал запотевшего сухого белого чилийского вина и стакан ледяной воды. Он со своей служебной точки видел все, что происходит на пляже, и знал, так же, как я, когда, что и кому подавать. А еще он всегда был в курсе, кто на кого и как посмотрел, что и как сделал, какое движение произвел, даже самое неприметное. Мне кажется, он к тому же еще и читал по губам. Во всяком случае, сделал вдруг неприличное движение указательным пальцем левой руки и пальцами правой, заключенными в кольцо, надевая это кольцо на тот напряженный палец. И тут же покосился на полного итальянца. Потом усмехнулся краешками губ, но так, что лучше бы просто расхохотался.
С ним я не должен быть предупредительным и вежливым, поэтому я тоже чуть заметно оскалил свои крепкие белые зубы. Бармен Юм не платил здесь за удовольствия. Он получал их, как видно, дозированно, тайком. Я бы сказал, воровал. Собственно, мы все, работающие здесь, воровали свои удовольствия.
Товарищ Шея в синих шортах, в расстегнутой розовой гавайской рубашке с изображенными на ней кораблями и рыбами сидел тут же на высоком табурете и вертел в руках пластиковую карту-ключ от своих совершенно не нужных ему апартаментов. Он потер кончиком карты нос и хмыкнул что-то невнятное. Юм тут же плеснул ему водки в матовый стакан и швырнул туда три кубика льда в виде сердечек. Русский зачем-то повертел стакан в руках, завороженно прислушался к звону ледышек и тут же наотмашь выпил водку.
Он выпивал в день не меньше литра своего крепкого национального напитка. К вечеру чуть розовел, под цвет своей неизменной рубашки, и спал как убитый до утра там, где его заставала черная южная ночь: на пляже, в холле корпуса на кожаном диване, под пальмой на паркинге для электромобилей или в апартаментах, если успевал доползти до них и не валился навзничь в гостиничном коридоре. Часто прямо на полу или в сухой джакузи в ванной. Мне приходилось приносить ему ранним утром водку во время обычного похмелья, но я ни разу не видел в его спальне разобранную постель. Его личный бар в апартаментах всегда был пуст и скучен. Хотя мы заполняли его дважды в день.
Второго русского звали, как и положено, Иваном. Фамилия у него была странная – Голыш. Будто и не русская. Ивану, огроменного роста и неопределенного возраста, на вид можно было дать лет сорок пять или больше. Бритый наголо, до синевы, круглый, правильной формы череп, маленькие светлые усики под мясистым носом, серые невыразительные глаза, очень мелкие и очень нервные. Он не употреблял спиртного и, по-моему, даже боялся его. Наверное, когда-то лечился и теперь отчаянно сражался со своей национальной бедой – непросыпным пьянством. Как и остальные, он был сказочно богат, но встреть такого человека где-нибудь в портовом городе, сразу подумаешь, что это не то заезжий моряк, не то местный портовый грузчик или даже просто мелкий бандит.
Мне кажется, Товарища Шею он не любил за то, что тот постоянно сдавался на милость их общему врагу – зеленому змию – и тем самым позорил нацию.
Голыш почти весь день с озлоблением лупил по шарам на своем русском бильярде, очень редко загоняя их в лузы. Товарищ Шея, наоборот, играл в бильярд всегда полупьяным (между двумя крупными заправками) и редко мазал. Он победно поглядывал на высоченного соотечественника, а тот лишь тихо рычал и сквернословил, не сводя своих маленьких глаз с очередной пары белых шаров и сжимая кий в руках так, словно это копье, а шары – головы врагов.
Во всех остальных случаях эти люди никогда не оказывались рядом.
Я вообще заметил, что русские словно недолюбливают друг друга, избегают общения между собой за границей и даже стараются не разговаривать громко на своем языке при посторонних. Не знаю точно, с чем связано такое их странное упрямство, но видимо, они смертельно надоели друг другу за всю их историю. А может, стесняются чего-то, как если бы на них на всех лежала общая печать векового проклятия.
Я никогда не замечал такого ни у немцев, ни у англичан, ни у итальянцев, ни у других европейцев. Хотя нет. Припоминаю, раз или два встречал таких же закомплексованных французов и еще, пожалуй, американцев.
Французы чрезмерно спесивы и раздражительны. Это, видимо, от какой-то застарелой обиды. Кто-то их когда-то недооценил или унизил, причем всех сразу…
А вот американцы обычно беспардонны, резки и крикливы. Это, видимо, от настойчиво скрываемого ими смущения. И еще я вот что думаю: когда их предки дали деру из Европы, то поклялись, что сделают все не так, как их веками учили дома. В Англии, например. И правда, получилось нечто иное… Но им оно, по-моему, самим тоже не очень-то и понравилось. Вот и смущаются теперь. А чтобы никто не догадался, орут все время и руками размахивают, да еще всем кулаками грозят.
Я тут на них на всех нагляделся. Да и не только тут.
Я наконец вернулся к немцу и поставил на столик перед ним вино и воду. Немец еле заметно кивнул и сделал движение клешней, чтобы я убирался к чертовой матери. И я убрался. Клиент всегда прав. Особенно в таком месте, как это.
Но уйти далеко не мог – это мой пост от завтрака до обеда. Потом я перемещался в основной ресторан, менял сорочку, бабочку, белый короткий смокинг на светло-серый дневной пиджак с бордовыми глянцевыми отворотами и с коротким черным галстуком. К вечеру я уже облачался в строжайший черный фрак наподобие тех, в которых размахивают палочкой дирижеры, с белой манишкой и бабочкой под подбородком.
Однако сейчас я должен оставаться здесь, в тени бара, за тростниковой ширмой, и не спускать глаз с ослепительно желтой полосы пляжа, с двух десятков шезлонгов и кресел, с белых широких зонтов, с кромки сочной изумрудной травы вдоль берега, с пальм и цветистых клумб и, главное, с людей, очень немногочисленных, гнездящихся в этом земном раю.
Со стороны моря постоянное наблюдение вели спасатели с двух мощных катеров, хотя в двадцати пяти метрах от берега, сразу под водной гладью пляжной бухточки, была натянута мелкая сеть, чтобы ни туда, ни обратно не проникло ни одно не зарегистрированное и не позволенное администрацией живое существо.
Однажды здесь утонула дама, а следом за ней солидный господин. Глубина (до сети) составляла не более ста семидесяти сантиметров, но они умудрились захлебнуться. Дама была трезвая, а господин смертельно пьян. Кто-то сказал, что они утопились намеренно – сначала она, а спустя два дня он. Она была полькой, а он аргентинцем; ей было чуть за сорок, а ему пятьдесят четыре. У них был тихий, уютный пляжный роман. Они шептались о чем-то подолгу под одним зонтом, пили «Дайкири», сидели за одним уютным столиком в ресторане, за ширмой, в восточном, немного навязчивом, стиле, ночевали то в ее, то в его апартаментах. Однажды она зашла в воду и больше оттуда не появилась. Он напился в тот же вечер коньяку, потом повторил это на следующий день, а утром третьего дня, смертельно пьяный, захлебнулся в этой же огороженной сетью и берегом аквамариновой луже.
Со спасателей и береговой охраны спросили всерьез: уволили сразу восьмерых, включая двух шефов – спасательной службы и службы специального берегового наблюдения. Потерять такую работу – величайшая трагедия. Это как быть изгнанным из рая ангелом.
Я в те дни не работал – приболел и валялся в своем двухкомнатном служебном номере, поглощая россыпи разноцветных таблеток. За нами, за обслугой, неусыпно наблюдала специальная немногочисленная группа медицинского персонала: любое подозрение на банальную простуду – и мы попадали в беспощадный карантин. Дорогих клиентов нельзя подвергать риску заражения!
Так что тут мне повезло. А мог ведь тоже оказаться в числе восьмерых неудачников, ведь официанты входят в систему берегового наблюдения. Как и бармены, уборщики пляжной полосы, садовники, водители электромобилей, обслуга теннисных кортов, гольф-поля, пяти бассейнов, банщики в четырех банях, охрана вертолетных площадок, складов, ангаров, двух пристаней и даже кинозала.
Мы все наблюдаем за тем, чтобы нашим клиентам ничто не угрожало. Они должны быть здоровыми и довольными своим пребыванием в нашем раю, который даже на вездесущих картах Google виден лишь как молочное, туманное пятно.
Здесь ведь и Интернет, и мобильная связь, и мировая пресса, и телевидение, и радио строго лимитированы. Они предназначены лишь для очень узкого круга обслуживающего персонала, с которого берут подписку о неразглашении того, что узнают на стороне или внутри комплекса. Клиентов решено было не беспокоить мировыми новостями. Пусть всемирная помойка бурлит и смердит далеко в стороне от райских кущ нашего гигантского парк-отеля, нашего клуба счастья, этой синекуры избранных. Каждый клиент, а их всегда не более семнадцати богатейших и крайне одиноких людей, знал это правило: он может все, что пожелает, кроме связи с миром. С грязным, безжалостным, завистливым, ржавым, разлагающимся миром.
Женщин среди нашей клиентуры мало – всего пятеро, да и те в большей степени бальзаковского возраста. Не считая утопленницы-польки (ее звали – Ева Пиекносска[3]), здесь обитали две англичанки (Кейт и Джулия), украинка Олеся Богатая и испанка Мария Бестия[4].
Сейчас на пляже, в стороне от всех, нежилась в тени самого широкого белого зонта загорелая пятидесятилетняя красотка, черноокая брюнетка Мария. Она взмахнула загорелой ручкой, и я тут же оказался у нее за спиной, тайком, с наслаждением наблюдая за великолепными шарами у нее под лифом плотного белого купальника. Голову даю на отсечение, она знала, что всякий мужчина, оказывающийся рядом с ней, не в состоянии оторвать взгляд от этого божественного великолепия.
Нам, обслуживающему персоналу, эти естественные удовольствия строго запрещены. За такое можно поплатиться местом, как за утопленницу или утопленника. Но что я мог поделать со своим либидо! Я же мулат!
– Бой! – произнесла она низким прокуренным голосом. – Закажите мне массаж по-тайски до обеда… в восточной бане, в турецкой. Кишасу туда покрепче, как я люблю, и виноград. И чтобы сахар только тростниковый, бразильский, в вазочке. Еще лимон, можно испанский. Да, и не забудьте, что для кишасы положены бразильские martelinho[5]… по пятьдесят грамм, не больше и не меньше.
– Слушаюсь, синьора! – Я еле оторвал взгляд от ее груди и тут же подумал, что сам бы с удовольствием сделал ей массаж.
Пятьдесят лет, а такая великолепная дама! Чуть полновата, бедра, может, слегка тяжеловаты, ноги могли быть длиннее, но общее впечатление все равно умопомрачительное. И волосы – воронье крыло с синевой. А глаза… Чернее ночи эти ее глаза.
Но я всего лишь официант, мулат и милейший парень средних лет.
* * *
Утром следующего дня в своих апартаментах повесился здоровяк Иван Голыш. Он висел на длинном шнуре, оторванном от тяжелых гардин в гостиной. Шнур зацепил за трубу в малой ванной комнате, накинул петлю на свою бычью шею и мужественно подогнул ноги. Когда его обнаружила горничная, он уже был весь синий и холодный.
В то утро я впервые увидел, как плачет Товарищ Шея. Но главное, я впервые увидел его трезвым! Товарищ Шея стоял на пляже один, лицом к ласковому, тихому морю, и слезы неудержимо катились по его серым щекам. Он даже не утирал их, а только громко хлюпал носом. В десятке метров от него сзади в своем пляжном кресле сидел старый немец, похожий на рептилию, и сокрушенно покачивал своей маленькой ядовитой головкой.
Все это очень удивило меня. Русские упрямо избегали взаимного общения, но, оказывается, друг другу прямо-таки до слез сопереживали.
Нет, странный, однако, народ. При жизни готовы на всякую мерзость в отношении своего же соотечественника, а перед лицом смерти вдруг становятся до смешного сентиментальными и слезливыми. Мало того, они вдруг начинают самым жестоким образом мстить друг за друга. Поразительно!
Но вот что мне еще бросилось в глаза: лучше других все это о русских знают немцы. Поэтому, наверное, немцы с русскими то целуются в засос (помните эротичную фотографию Хонеккера и Брежнева?), то рвут друг друга на части (как Гитлер и Сталин). В кровь рвут, на куски! А потом опять целуются и пьют вместе. А еще любят вместе воровать и делить мир – это тебе, это мне… Одни ходят с точной логарифмической линейкой, а другие меряют пьяными шагами. А получается одно и то же.
Меня вызвал мистер Камански, наш утренний шеф, и попросил написать докладную записку о том, когда я в последний раз видел живым здоровяка Ивана.
– Почему я?
– Потому что только ты ему прислуживал в ресторане. Он предпочитал лишь тебя. Вас что-то связывало?
– Ровным счетом ничего. И потом… Когда я отсутствовал, за ним прислуживали другие.
– Они тоже напишут докладные записки.
Я пожал плечами, сел за маленький столик в углу его роскошного кабинета и написал, что в последний раз видел живым мистера Голыша вчера за ужином. Я, как обычно, подошел к нему и подал то, что он заказал, – русский винегрет, стакан газированной воды, свиную отбивную гигантского размера, потом яблочный пирог и чайничек черного английского чая. Он все смолотил за милую душу, словно собирался перекусить перед дальней дорогой. Теперь ясно, перед какой именно.
– Почему он называл тебя по-русски «Кушать подано»? – спросил Камански, поляк по происхождению, хоть и настоящий американец.
– Меня так называют многие. Я обычно подаю и говорю: «Кушать подано». На всех известных мне языках. Не только на русском. И называют клиенты меня так каждый на своем языке. Они сговорились…
– Они никогда ни о чем не сговариваются. Они презирают друг друга и в упор не видят.
– Видят. Двое видели. Они утонули.
– А этот повесился. Большая потеря для нас. Он был одним из самых состоятельных и щедрых клиентов.
– Не могу ничем помочь. Я не снимал для него шнур с гардин, не завязывал петлю, а он не оставил мне наследства.
В этот же день специальная бригада техников заменила во всех апартаментах механизмы для тяжелых гардин. В новых механизмах шнуров уже не было. А по-моему, их пеленать всех надо перед сном и связывать руки, как младенцам, чтобы не оцарапали себя случайно. Все-таки они очень дороги нам.
Мы без них никуда, а они – без нас. Мы связаны невидимой цепью их предыдущих жизней, которые свели всех их в нашем общем доме, на нашем «острове покоя». Не будь нас, давно бы уже не было их. Но не будь их, не появились бы мы.
Впрочем, я бы появился. У папы с мамой.
Кем бы я стал? Официантом, как теперь? Военным? Полицейским? Торговцем? Продавал бы штучный товар? Например, хорошеньких девочек и мальчиков? Или торговал бы наркотой?
Американца польского происхождения мистера Камански интересовало, почему я произношу чаще по-русски свое «кушать подано». Я же ответил ему, что не только «по-русски». Но ведь не из-за этого же повесился на шнуре от гардин Иван Голыш. И не из-за того, что не умеет попадать белым бильярдным шаром в строптивую лузу русского бильярда.
Может, ему просто надо было выпить один раз как следует со своим соотечественником, с Товарищем Шеей, и сейчас он бы не мерз в морге нашего лазарета, Товарищ Шея не ронял бы свои скупые слезы на пляже, в песок, старый немец не качал бы сокрушенно своей змеиной головкой, а глаза наших остальных немногочисленных клиентов не сочились бы тоской, за которой прячутся ужас и отчаяние. Они все сказочно богаты и фантастически удачливы.
Да, я говорю им каждый раз: «Кушать подано!»
Dinner is served!
Es ist gedeckt!
Vous etes servi!
Il pranzo e servitor!
Comer es dado!
Псти подано![6]
Но впервые я это произнес по-русски. А потом пошло-поехало. Им всем понравилось!
Я – мулат. Мой родной язык – португальский. Моя первая родина – Бразилия. Моя вторая родина – Россия. Это потому что мой отец – чернокожий бразильянец, а мама – белокожая русская. Получился я – русский бразильянец.
Хотя во мне течет и африканская кровь – именно оттуда, из черной Анголы, португальцы привозили в Бразилию рабов. Однажды отец, когда мне удалось увидеть его и даже перемолвиться парой слов, сказал, что наш род происходит от народа овимбунду, с запада Анголы. Он при этом надувал щеки и многозначительно поигрывал бровями.
Я не произношу «кушать подано» по-португальски, потому что здесь нет клиентов ни из Португалии, ни из Бразилии, ни из Анголы. Я произношу это только на тех языках, которые представлены сейчас у нас.
Но обо мне потом. Может быть, это кому-нибудь и интересно – особенно дамочкам, не спускающим глаз с цветных. Они все время смотрят на мои штаны, на мои плечи, на мою грудь, на шею, на руки. Я хорош. В свой сорок один год я в самом расцвете мужской мулатской красоты. И все же – потом.
Единственное, что я скажу: по природе я человек очень внимательный, а мозги у меня устроены так, что они постоянно анализируют все, что видят глаза и слышат уши, и даже то, что чувствует моя смуглая кожа.
Эти люди, тоскующие здесь по оставленному ими миру, друг другу не доверяют ни на йоту, а вот нам, безгласной, глухой и слепой прислуге, порой сообщают о себе такое, в чем не сознались бы даже самим себе. Я спрашиваю себя: «Почему?» И отвечаю: «Мы их единственное оконце в прошлое, одушевленные дневники, неотвратимое настоящее, и мы – молчуны».
Мне приходилось слышать от проституток, что есть особая категория клиентов, которые платят за час или даже за ночь лишь для того, чтобы излить изболевшуюся свою душу, а не опустошить свои яйца.
Одна такая, звали ее Мадлен, рассказывала, что к ней раз в месяц приходил крепкий на вид мужик, французский военный моряк, и всю ночь, обняв ее за обнаженные бедра, повествовал о том, как страстно любит свою легкомысленную жену-немку, как несчастен в браке и как не представляет себе жизни без той потаскухи. Он так увлекался, что начинал называть Мадлен именем жены – Эльзой. Он признавался ей в любви, корил за бесконечные измены, обещал убить, потом просил прощения, безутешно рыдал, размазывая по роже сопли и слезы. И наконец засыпал в объятиях проститутки, даже не стянув с себя штаны.
Она как-то решила проверить, способен ли этот француз на обычный коитус. Может, в этом его проблема? Дождалась, когда он заснет, и со свойственными ей изяществом и любовным опытом (мне-то хорошо известно, на что способна умопомрачительная Мадлен!) проникла к нему в штаны. Реакция наступила мгновенно и более чем великолепно. Он очнулся в самый пикантный момент, глубоко вздохнул от наслаждения, а спустя минуту врезал ей по уху.
Больше он не приходил. Видимо, решил, что она не достойна его тонкой душевной организации, потому что вколачивать свой член он мог в любимую супругу-изменницу, в любую другую довольную этим бабу, а вот доверить себя мог лишь девственнице – пусть не в прямом смысле, а лишь – купленной «девственности» по заниженной цене доступного общественного влагалища.
Ее это чрезвычайно оскорбило. Как же, платит за влагалище, а лезет в душу, во всяком случае, навязывают свою. А тут ведь уже другие расценки! Он понял, что его раскусили, и вмазал ей кулаком в ухо. Она еще месяца полтора ни черта не слышала им – была повреждена барабанная перепонка. Правда, француз бросил в постель ее месячный заработок, и она, утерев кровь, не решилась жаловаться на него администрации борделя.
Так вот, мы тоже для наших клиентов своего рода проститутки. Мы не лезем к ним в штаны или под юбку, а они требуют от нас девственности – молчаливой и сочувствующей.
Парк-отель, где я работаю и живу в двухкомнатном служебном номере, уникален. Думаю, он единственный в своем роде и известен в очень узком кругу как парк-отель «Х». Понять, что это, можно, лишь если приглядеться к нашим постояльцам.
Тут, как ни странно, нет VIP-клиентов и VIP-зон. Все потому, что здесь все поголовно VIP-клиенты и все вокруг VIP-зона – от строго охраняемого периметра этой гигантской территории, девственно чистой прибрежной полосы и даже воздушного пространства. Семнадцать огромных апартаментов предназначены семнадцати постояльцам, ротация среди которых является вопросом особой политики нашей администрации. Я беру на себя смелость (а скорее, неосторожность!) рассказать о некоторых наших клиентах, но я никогда, даже под угрозой четвертования, не стал бы откровенничать об администрации и принципах ее существования. Кому она подчинена, как и кем назначается и кто в действительности владеет всеми этими богатствами – вопрос до такой степени закрытый, что только безумец стал бы об этом не то что рассуждать, но даже просто фантазировать.
Когда я исчезну (а это непременно случится в один «прекрасный» день), после меня ничего на свете не останется. Даже памяти! Но я убежден, что мы – это наши дела. Все сотворены по одному образцу и мало чем отличаются друг от друга. Только делами!
Я уже стал частью деловой биографии тех, кому я много лет говорил «кушать подано», потому что они помнили меня, пока были живы, хотя и считали бессмысленным существом наподобие проститутки Мадлен.
Так обычно относятся, например, к муравьям. Увидят какое-нибудь слабенькое, невзрачное создание неопределенного цвета, ползущее ниоткуда в никуда, и совершенно бездумно раздавят его пальцем. Потом даже руки не вымоют, настолько им безразлична никчемная жизнь этих крох. Только малые дети, душа которых еще не замутнена самовлюбленным осознанием своего человеческого величия, вдруг с замиранием сердечка упадут на животики рядом с ползущей молчаливой божьей тварью и изумятся тому, что, оказывается, есть на свете еще какой-то невидимый мир, в котором живут и страдают крошечные живые существа. Но дети быстро взрослеют, и вот их окрепшие пальцы уже давят все, что мельче их.
Итак, я начинаю ткать своего рода коврик. Нити его состоят из чужих воспоминаний и из моих впечатлений, а вот узелки скрыты на уродливой тыльной стороне.
Если кому-то вдруг покажется, что орнамент на коврике чем-то напоминает политическую карту мира, немедленно забудьте это. Все абсолютно случайно! Одни лишь ничего не значащие совпадения.
Но, главное, все же детали, потому что дьявол скрывается, как известно, исключительно в них. Ведь любая карта ценна именно деталями. Чем она подробнее, тем ценнее.
Мой первый рассказ о том, почему вдруг повесился на шнуре от гардин в своих безумно дорогих апартаментах один наш состоятельный клиент. Об Иване Голыше, огромном русском парне с бритым черепом, маленькими нервными глазками и со светлыми усиками под мясистым носом. Он не умел играть в свой русский бильярд, зато очень многое другое, что привело его к нам, делал блестяще.
Иван Голыш
Иван рассказывал мне, что родился он в семье обыкновенного шофера и портнихи маленькой провинциальной фабрички по пошиву рабочей одежды. Кроме него, то есть Ивана, была еще старшая сестра. Звали ее тоже очень по-русски – Надей. Я вообще-то имена и даты запоминаю плохо, но уж что помню, то помню. Тем более эта самая Надя потом сыграла в судьбе Ивана такую важную, даже роковую роль. Так что хочешь не хочешь, а имя запомнишь.
Папаша у Голышей был человеком обыкновенным для России – не в меру пьющим, не в меру молчуном, не в меру скандалистом, но и не в меру беспомощным. Думаю, он был очень завистливым и страшно страдал от безысходности своего полуживотного существования. Оттого и пил, и дурил, и лупил всех подряд, и молчал, как немой, даже когда требовалось сказать хоть словечко.
Многие принимают молчунов за умных. Они и сами так думают. На самом деле любое животное – молчун: из него ведь ни слова не выжмешь, хоть лопни! Если верить материалистам (я им сам не очень-то доверяю), то человек стал человеком, когда взялся за орудия труда. То есть не рвал все когтями и клыками, а приспособил для этого природные инструменты. Может, так оно и есть, а может, и нет. Все-таки, мне кажется, человек окончательно отошел от своего косматого предка, когда впервые смог выразить членораздельными звуками свою мысль. Потом слить эти звуки в слова, слова соединить в предложения, а дальше составить из предложений разумные и не очень речи, написать разные бумаги, сочинить законы, которые сам же мог нарушать. Именно – нарушать! Потому что зверь никогда законы природы, по которым существует он и все, что его окружает, нарушать не станет, ведь он их не сочиняет, а живет по ним. На это у него табу! А вот для человека никаких запретов нет.
Разве не в этом наше главное отличие, как и в том, что человек выражает себя не столько делом, сколько словом? Пусть даже уродился немым, все равно слово, не высказанное, а лишь написанное или обозначенное условными движениями и особыми знаками, есть его главный признак отличия от животного. Потому-то у человека нет никаких табу! Он ведь всегда может оправдаться или наврать.
Мне когда-то, очень давно, все это рассказывал учитель в школе в Сан-Паулу. Любил порассуждать про орудия труда. Этот молодой человек почему-то считал, что из нас, из отвязной шпаны в двух нищих кварталах, можно что-то приличное слепить. Из всех «орудий труда» тем не менее мы знали и держали в руках только нож, пистолет, кастет и презервативы.
Он, этот наш очкарик-учитель, у которого голова была похожа на стог прелого сена после бури, каждый день пытался вколотить в наши обезьяньи башки, что бог не мог быть изобретателем этих орудий. А вот ручка, бумага, книга, глобус, атлас и прочая ерунда – если и не его изобретения, то уж точно подсказаны им людям. Он был убежден: все, что постоянно находится в наших карманах и всегда готово к применению, выдумано сатаной.
Я уже стал склоняться к этому, но однажды учителя самого застали в постели с малолетней дочкой хозяйки квартиры, где он снимал малюсенькую комнатушку. Бедолагу выволокли на глазах у всех на улицу, и отец той девчонки просто зарезал его.
Вот вам и глобус! Вот вам и книги, и бумага, и ручки, и даже его дурацкие очки! Как такому лжецу верить?
А девчонка, когда подросла, стала санитарным врачом, ушла делать бизнес в страховую компанию и уперла у стариков из нашего и двух соседних районов все деньги, которые они откладывали на старость и на лечение. Потом сбежала с любовником, юристом из Рио, в США. Кажется, в Лос-Анджелес. Этот юрист, настоящий прохиндей, лихо открутил ее от суда. Говорят, они дали взятку одному типу в судебной коллегии, и тот объявил, что старики сами же и виноваты во всем. Дескать, нечего было уши развешивать и подписывать важные бумаги не читая. Там мелким-мелким шрифтом, оказывается, было напечатано, что все их сбережения при определенных условиях переходят в пользование страховой компании. А вот когда наступают эти «условия», решали тот юрист и та девчонка.
Что тут скажешь… Она ведь в карманах и в сумочке ножей и пистолетов не носила. Презервативы, наверное, были, а оружия – нет. Зато уважала глобус, ручки, бумагу и умные книжки.
Так кто и что изобрел? Бог или сатана? А законы кто якобы чтил и кто их умел изящно обходить? А иной раз даже просто перечеркивать! Вот то-то и оно…
Что касается папаши нашего Ивана, он с великим трудом перешел в первое состояние человека разумного, то есть «Homo sapiens», о котором постоянно говорят очкарики-материалисты, а именно: приспособил к своим рукам технические орудия. Например, руль грузового автомобиля. А дальше – остановился.
Никогда бы не вспомнил об этом, если бы Иван, рассказывавший мне (как француз той проститутке Мадлен) свою историю, сам бы не назвал своего папашу «вшивым орангутангом».
Иван пошел в него ростом, силой, раздражительностью и мстительностью, а еще завистью. А ведь зависть может как разрушать, так и созидать. Не знаю точно, почему это происходит. Скорее всего, оттого, что за этим следует – пепел или закаленный в огне камень. Так мне в слезах говорил когда-то один старик – чернокожий художник, которому сожгли картины накануне его единственной выставки в Рио. Он эти картины всю жизнь рисовал, бедняга.
Так вот, Иван пошел в отца, в том числе в зависти ко всему на свете. Отец, однако, переживал все молча, сжав зубы. А вот Иван молчуном не был (дерзил даже отцу), за что не раз получал от папаши увесистые тумаки. Однажды тот даже зуб ему вышиб, правда, еще молочный.
Сестра же его, Надежда, была хрупкой, миловидной и умненькой. Она была старше Ивана на три года и внешне походила на мать. Хорошо строчила на швейной машинке, помогая матери зарабатывать на левых заказах от соседей и случайных знакомых. Вокруг нее всегда крутились понимающие в женском обаянии многоопытные мужчины, что, по-моему, вызывало у Ивана почти неконтролируемые приступы ревности. Он и сам не понимал, что это за чувство такое!
Когда Иван рассказывал мне все это, его маленькие глазки заметно теплели. Он любил и мать, и сестру. Жалел их по-своему, считал себя их единственным защитником.
Жила семья Голышей в малюсеньком провинциальном городке районного значения. Где-то недалеко от Смоленска. Он называл городишко, но с памятью на имена и названия у меня большая проблема. Не укладываются они в моей цветной голове. А тут все-таки странные русские названия. Они что-то означают, но мне это неведомо.
Вот моя мать, например, была из Сибири. Из города Омска. Там мой папа, инженер по каким-то станкам, черный бразильянец родом из Сан-Паулу, и нашел ее в студенческом общежитии. Это все я запомнил, а вот откуда именно были Голыши, хоть режь меня, нипочем не вспомню! Знаю точно лишь то, что где-то в районе Смоленска, и все.
Иван рассказал, что однажды он в очередной раз сильно поссорился с отцом, перед самым призывом на действительную службу. Между ними случилась драка, да такая, что Ивану отложили призыв на полгода: образовалась трещина в ключице, и были сломаны два пальца на правой ноге.
Что такое русский армейский призыв, я тоже точно не знаю, но, если судить по собственному опыту в Бразилии, вряд ли служба в вооруженных силах в обеих странах сильно отличается. Я служил год и вовеки веков не забуду! Еле ноги унес! А у нас ведь океан теплый и погода куда комфортнее, чем в России, где еще и океаны ледовитые, а погоды ядовитые! То зной, то холод! А если уж дожди зарядят – держись! И мать, и отец рассказывали. Они, пожалуй, только в этом совпадали друг с другом.
Иван все же в армию попал и пробыл там не два года, как у них положено в сухопутных войсках, а три. Это потому, как он мне объяснил, что служил на Северном флоте. Один раз сказал, что где-то недалеко от их ледяного города Мурманска, а потом упоминал еще и Новую Землю.
Они, русские, почему-то все время доказывают миру, что льды Северного Ледовитого океана, аж до самого полюса, их Родина. Там минус шестьдесят градусов по Цельсию почти круглый год, ни один человек не может выжить, а они готовы за это биться до смерти!
Тут, конечно, что-то другое – не то нефть, не то газ возлежат там на страшной черной глубине, а еще определенно есть что-то, связанное с военной доктриной. Я бы не стал так думать, если бы не шлепнутые американцы, канадцы, норвежцы и даже тихие датчане тоже бы не претендовали на этот полюс вечной мерзлоты.
Вот там и служил моряк Иван Голыш. Там и закалялся. А потом, много-много позже, повис у нас, в теплом краю, на шнуре от гардин.
За три года его службы папаша сильно сдал, и когда Иван наконец вернулся, тот уже был совсем не тем злобным и сильным мужиком, который провожал сына во флот тычками и пинками под задницу. Да еще ключицы и пальцы ему ломал!
Да и мать заметно состарилась. Досталось им с сестрой Ивана за те три года от стареющего монстра-папаши!
Иван решил не оставаться в их нищем городишке, тем более тогда в России многое уже поменялось. Вроде бы и страны уже такой не стало, то есть СССР. Все скукожилось, сжалось, окончательно обнищало. В общем, уходил Иван служить в одной стране, а возвращался со службы уже в другую. Кроме того, он не хотел жить в маленьком городе, в котором и нормальной-то работы нет. Тут и раньше ничего путного нельзя было найти, а теперь-то уж и подавно.
Мне лично это знакомо. У нас ведь так же: маленький город – это почти приговор к нищете. Никуда толком не устроишься, разве что запишут в какую-нибудь шайку и, если не грохнут на уголовных разборках, непременно упрячут на полжизни в тюрягу.
Я как-то попал в такой же переплет в нашем огромном Сан-Паулу. А случись это в провинции, точно бы пропал! Там ведь все на виду, под кустом не спрячешься. А тут Россия…
Словом, уехал Иван Голыш в Москву, а через три месяца туда прибежала и его сестричка Надя. Вся в соплях, в слезах. Рассказала, что папаша их начал очень сильно пить, лупит мать, а та боится его и даже к ментам не обращается.
Иван пригрел сестренку в общаге, где сам только накануне пристроился, и поехал в их славный городишко договариваться о новых правилах поведения с отцом.
Как они там договаривались, я не знаю, но результатом стал арест Ивана за жестокое отношение к родителям (это он мне так сам сказал). Насколько я понял, жестокое отношение было к одному из родителей. Однако этот родитель вскоре сам пришел к ментам и попросил прекратить дело.
Чем там закончилось, не знаю, но к судьбе папы с мамой он в своих рассказах больше не возвращался. Думаю, померли они после этого очень скоро.
В России вообще это дело, как я понимаю, обычное и очень частое. Один моряк, русский, мне рассказывал, что похоронил мать на кладбище, на новом участке. Там, кроме могилки матери, было еще с десяток, не больше. Городок у них тоже не очень большой. Так вот, через семь месяцев он приехал, пошел на могилу и рот разинул от изумления. Он ее с трудом нашел – вокруг кладбище разрослось так, словно атомная война прошла. Мрут и мрут! Будто им больше делать нечего.
В России все это время что-то очень странное происходило, пугая весь мир и даже порой забавляя его. Пугались, когда соображали, что в руках этой гигантской страны ядерные боеголовки и ракеты, а забавлялись, когда обнаруживалось, что свои боеголовки и ракеты они сами же не знают, куда девать, и вообще, что с ними и с собой дальше делать.
Мне непонятно, как Иван Голыш, человек без образования, без прошлого, без будущего и с сомнительным настоящим, вдруг попал в руководство какой-то промышленной компании и занял там место главного охранника или что-то в этом роде. Мне кажется, дело в его сестре Наде.
По всей видимости, именно ей, женщине несомненно умной и обаятельной, попался на пути влиятельный человек, и она, одарив того особым вниманием, поделилась интимным успехом с братом Голышом.
У нас такое тоже иногда случается. Женщина ведет за собой стаю сильных агрессивных хищников и в какой-то момент выбирает из них для себя вожака, а он, в благодарность за то, что оценен в серьезной конкурентной среде, платит золотой монетой. Даже президентами становятся такие бабы в Латинской Америке! Уж не говоря про первых леди…
Голыш показал мне однажды фотографию его сестры Надежды. Действительно впечатляет! Небольшая, даже компактная, с умненькими карими глазками, правильным носиком, будто нарисованными аккуратными губками, впалыми милыми щечками с ямочками, ладненькой фигуркой и роскошной копной волос каштанового оттенка.
Но главное, все-таки мозги! Они у нее через глаза просвечивали.
В отличие от братца, Надежда успела поучиться за эти годы в университете на филологическом факультете, овладеть двумя языками и даже сесть за научную работу. Очень скоро они разъехались из общежития – он в огромные апартаменты в центре их столицы, а она – в миленький коттедж, подаренный ей одним страшно важным и влиятельным типом. Замуж не вышла, но, по-моему, она к этому даже и не стремилась. Иван не сказал, но я догадался: тот был женат и, возможно, имел наследников.
Иван же оставался холостяком. Вокруг него в это время крутилось немалое количество очаровательных хищниц. Но все останавливались и тут же стачивали зубки, как только появлялась Надя.
Как-то он сказал мне, вспоминая первые свои успехи:
– Я с самого начала очень, очень, очень хотел денег! И чем дальше, тем больше хотел. А когда их становилось действительно больше, я хотел еще больше. Прямо паранойя развивалась. Это не просто алчность. Это сумасшествие. У кого-то тихое, что крайне редко, а чаще все-таки буйное. Сначала я думал, главное – это деньги, даже единственное, а все остальное не имеет смысла, остальное просто мура. Но когда денег стало действительно очень много, так много, что они уже переливали через край, я бросился скупать активы различных предприятий, в том числе не имеющих ни малейшего отношения к нашей промышленности. Это были и всевозможные массмедиа, и огромные концертные площадки, и стадионы, и даже одна наша и одна испанская футбольные команды. Я не мог себе уже представить визуально всего объема денег, которых я лично стоил. Даже ради прикола попросил одного из близких помощников посчитать, во сколько грузовых вагонов бабки, в которые я оценивался, могли бы поместиться. Получился целый состав. И тогда деньги вдруг стали для меня просто коэффициентом успеха: чем больше таких виртуальных вагонов, тем выше мой личный коэффициент. О политике я сначала не думал. Но кое-кто явно думал за меня.
Когда я это от Ивана услышал, очень удивился точности такого наблюдения. Ведь он вроде бы малообразован, простоват. А такой тонкий анализ!
Думаю, именно в это время около него появились прагматичные и очень неглупые люди, которые поставили на него не только как на перспективного скакуна – фаворита своего рода, но и взялись развить его интеллектуальные способности. И даже как-то образовывать его. По существу, он, видимо, был одарен природой, как и его сестра.
Его предыдущий образ жизни, несложное происхождение и то, в каких обстоятельствах он оказался в будущем, с одной стороны, воспитывали в нем сильного, безжалостного зверя, а с другой – приучали к тонкому анализу. Это все равно как образовать вождя племени людоедов. Дикаря непреодолимо тянет жрать человечину, однако уже появляется чувство брезгливости и, главное, понимание этого. Ведь важно не столько само чувство, сколько осознание его. Чувства, наверное, есть и у животных, а осознание их – только у людей. Вот еще одно наше отличие! Это я опять вспомнил учителя-очкарика с его теорией о том, что в нас от бога, а что от сатаны.
Но с Иваном мы все-таки очень похожи. Многое мне в нем понятно и близко, потому что я сам происхожу из плебеев, хотя у меня и мать, и отец когда-то получили образование. Однако матери оно не понадобилось, а отец жил так далеко от меня, что его будто и вовсе не было. А вообще он на меня плевать хотел! Так что я тоже из плебеев. Если родители, кем бы они ни были, плюют на своих детей, они настоящие плебеи. И их дети плебеи, и внуки. Они все обречены!
У меня кое-что в жизни однажды поменялось. Правда, довольно поздно. Но тем не менее я знаю, что такое оглянуться назад и увидеть другими глазами то, что раньше даже не колыхнуло бы. Не могу сказать, что это истинное «прозрение», но все же лучше, чем ничего.
От Ивановой жизни моя отличалась еще и тем, что у меня никогда не водилось столько денег, сколько у него. Но ведь на меня ставили совсем другие люди и учили не тому, чему учили его. Мои клыки затачивались не для того, для чего затачивались его клыки.
Зато я теперь тот, кто я есть, а он повесился на шнуре.
Однако вернемся к нему – пока еще живому.
Вскоре Иван стал вице-президентом громадной промышленной компании и даже возглавил совет директоров гигантского объединения заводов, соизмеримого по объему произведенной продукции со средней европейской страной. И все Надя! Да, именно от нее все и пошло.
Вдруг обнаружилось, что у Ивана, оказывается, есть образование магистра в какой-то русской высшей школе. Я не без удивления посмотрел на него, когда он, страшно смущаясь, сказал мне об этом. Но тут же отмахнулся и промычал, типа, у них так принято: есть большая должность – должно быть большое образование. А как и что – дело десятое. Но когда он мне пытался что-то нарисовать или написать, я понял, что в его лапе даже золотой «Паркер» неуместен. А голова тем не менее работала явно неплохо.
Так часто удивляет зверь – отвратительный оскал пасти, и вдруг ошеломляющая ясность в умных, мелких глазах. Я часто видел подобное, и не только у русских. У нас, в Южной и в Центральной Америке, это в порядке вещей. Это вообще свойственно тем местам, где важную роль порой играет не происхождение, а реальная способность выдающейся личности выжить в чудовищных условиях каменных джунглей, нефтяных прерий, дремучих лесов безграмотности и нищеты, лагерной тайги. Поэтому там криминал играет первую скрипку. Ярость оскорбленного зверя и интеллект человека, заключенные в одном сильном теле. Это даже, скорее, правило, нежели исключение. Отсюда и революции в «слабых звеньях» надменных держав, и гражданские войны, и кровавые подавления тех же революций вчерашними их вождями. Именно так и есть – кровавый звериный оскал и умные глаза безжалостного хищника.