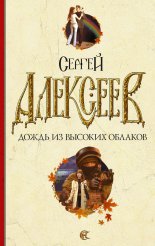Дом слепых Ахмедова Марина

Кто этот человек? Что задумал? Чего от них хочет?
И ни одного ответа. И ни луча света из вентиляционного отверстия, ни луча надежды на возвращение к прежней жизни.
«Да разве ж много мне надо? – твердила про себя Люда, сжимая кулаки. – Да разве ж много?»
Эту фразу она говорила и раньше – лежа у себя в квартире по ночам, глядя в белеющий потолок. Ей нужна была самая малость, но и той не было. Самой малости и той не было… Видано ли дело, чтобы самой малой малости не было?!
– Люда, ты не знаешь, что наступает время молитвы? – прервала лихорадку ее мыслей Фатима.
Она вытряхивала коврик.
– Там холодно, Фатима, – попробовала протестовать Люда, чего раньше не делала. Протестовала она слабо, не надеясь на понимание, просто хотелось, чтобы до Фатимы дошло – нельзя выставлять на холод женщину и собаку.
– Выгони собаку на улицу, – вкрадчиво сказала Фатима. – Пусть уходит.
– Это – моя собака, – Люда говорила с хрипотцой, хрипотца говорила угрозой.
Страх уже принялся за ее голосовые связки, повис на них.
– Лучше б ребенка родила, – обрубила Фатима.
Люда нашарила ботинки, всунула в них раскисшие ноги, зашнуровала. Собрала из-под кровати щенков.
– Чернуха…
Куча тряпья пахла мышами. Люде показалось, что запах стал резче.
– Как же можно вот так – по самому больному? – застонала в сжатый кулак. Никто ее слез не услышит – еще чего. Фатима уколола в самое больное – в самый низ живота. Вот где жила пустота.
«Лучше б с ребенком гуляла» – эти слова, обращенные в спину, преследовали ее и в мирное время, когда она выходила на прогулку с Чернухой. До чего ж больно было…
Вернувшись домой, Люда снимала кофту и лифчик, поворачивалась спиной к трюмо и проверяла – не оставили ли слова ран между лопаток? Спина была чистой. Но отчего же так больно? Отчего?
Собаки – бабушкино наследство. Она заронила зерно в душу – приучала собак жалеть.
– Собака честней человека – никогда не предаст, – говорила она. – Собаке все равно, бедный ты или богатый, больной или здоровый. Она тебя не бросит.
Сбылись ее слова – Люду бросили все, она осталась одна. Только Чернуха не ушла, не предала. И Люда ее не предаст.
Вспомнилось, как возвращались они с кладбища – Люда и собака. Бабушка пережила мать – ту они хоронили вдвоем. А бабушку – уже Люда одна.
Было лето, и солнце безжалостно слепило глаза. Бабушку похоронили на кладбище для русских – на маленьком тихом пятачке в центре чужого города. Города, в который бабушка приехала около полувека назад и привезла с собой свою слепую дочь. От чего убежала бабушка – Люда так никогда и не узнала.
Оркестр играл похоронный марш. Насекомые жужжали в могильной траве. Жужжала и Люда.
Чернуха бегала между оград. А Люда все спрашивала: «На кого ж вы меня тут одну?»
Воздух был хороший – чудесный был воздух в тот день. Цветы растворили в нем свои запахи и пыльцу, а фруктовые деревья сбросили первоцвет, гнали его по легкому ветру, готовились родить фрукты. Люда чувствовала их предродовое состояние, не знакомое ей самой. И даже думалось: лучше бы бабушка умерла прошлой зимой или следующей. Ну зачем люди умирают летом, когда деревья собираются родить?
«Ну зачем ты умерла?» – голосила про себя Люда.
Дома ей снова было пусто. Вечером пришел муж. Пустота продолжилась.
Вон собака и та легко родит, по два раза в год, если не доглядишь. А Люда за десять лет – ни разу. Всю жизнь пустая ходила. Тоже бабушкино словечко – пустая… Лишь женщина, бесплодно пытающаяся стать матерью, может почувствовать всю глубину пустоты – лежа на ее дне или все еще летя в пропасть.
– Сколько сил… – Люда поерзала на куче тряпья.
Столько сил и столько надежд, особенно в первые годы замужества. В те годы Люда сходила с ума, но надеялась – все впереди, свет еще маячил: то приближался – на, хватай рукой, то отдалялся, отступая на шаг, один только шаг… Хорошо, не в этом месяце, так в следующем. Подождем, раз теперь огонек в руки не дается.
Вокруг нее рожали. Боже ты мой, в каких же количествах вокруг нее рожали… Женщины в этом городе только тем и занимались, что рожали. Выйдешь на улицу, и одни беременные животы. Животы, животы, животы… Коляски. Младенцы… Боже ты мой…
Беременные и матери с младенцами собирались на пути Люды со всего города. Шли ей навстречу, желая свести с ума. И она сходила – медленно, но сходила. Пустота становилась объемной, приобретала формы и звуки. Из своей первичной бесформенности лепила младенца и укладывала в руки Люды. А та прижимала к себе младенца и чувствовала пустоту…
Однажды ей приснился сон – низ ее живота раскрылся, и в нем она увидела песочные часы. Но отделений в них было не два, как обычно, а три. Третье, лишнее, находилось посередине. Оно было намного меньше тех, что по краям, походило на полую стеклянную бусину. И пересыпали часы не песок, а яйцеклетки – густо-застывшие капельки крови. Одна яйцеклетка медленно скатывалась из первого отделения во второе и задерживалась там ненадолго. К ней подплывали головастики – короткие, бесцветные, с длинными хвостами, миллионы головастиков, не замеченных Людой в начале сна. Они окружали яйцеклетку, задевали ее хвостами, но яйцеклетка уходила от них, скатывалась вниз, булькала в третье отделение, попадая на кладбище уже негодных, умерших яйцеклеток, которые могли стать младенцами, но не стали. Люда попыталась сосчитать, сколько их осталось в первом отделении, но на этом сон закончился. Она проснулась.
Проснулась, посмотрела на пасмурный день за окном, хотящий своей тучностью продавить стекло, и ее ударила мысль – сразу по обеим щекам. Мысль была такой: рождение ребенка – это стечение малых вероятностей, почти чудо!
Мысль была права и не зря била больно. Жизнь яйцеклетки коротка, головастиков – слишком много. Количество яйцеклеток в часах – ограничено. Рождение – это стечение малых вероятностей…
Люда приняла эту мысль. По-прежнему хотела, плакала, отчаивалась, надеялась, жила, ждала, ходила пустая. Засыпая и просыпаясь, утром и вечером, она спрашивала себя – почему? Почему не может родить она – здоровая, сильная, жалостливая, добрая, мать от природы, от рождения.
Оказавшись в подвале, она перестала считать яйцеклетки. Ей было уже тридцать пять. Она ни о чем не жалела. Жизнь – слишком большая роскошь. Вот только чужие слова били ее так же больно, как мысль, пришедшая однажды поутру после сна о песочных часах.
– Сколько сил… – прошептала Люда, обнимая щенков.
Фатима отмолилась – можно возвращаться. Или самой помолиться-перекреститься, пока никто не видит? Как крестилась днем в подъезде, стоя у лестничной пропасти… Воспоминание о знамении зацепилось концом креста за окно соседнего дома. Снайпер! А может, потому и промахнулся, что видел в оптический прицел, как она крестилась?! Нет, не многажды положенный крест оттолкнул от нее пули… Снайпер сам был крещеным. Теперь в этом городе много крещеных… Только креста на них нет.
Туча повисла над городом – над тем, что от него осталось. Она пришла с востока и, прежде чем пролиться, как будто оглядела с высоты весь город, выбирая место стоянки. Темным брюхом навалилась на дом слепых, и из вентиляционных отверстий потянуло свежей влагой. Ветер мел по земле все, что ему удавалось поднять. Туча заурчала, небо треснуло фиолетовыми изломами. Первые капли плюхнулись на землю, не впитываясь в нее, а разбиваясь вдребезги. Потом дождь зарядил, собираясь на дне воронок, в рытвинах, продавленных гусеницами бронетехники.
– До-о-ождь, – простонал Пахрудин, и его голос был съеден урчанием тучи.
Вода сама пришла, за ней не придется идти на водокачку, и Пахрудин вздыхал, мысленно благословляя дождь и принесшую его тучу.
Незрячие выставили из вентиляционных отверстий металлические миски, набирали их полными и сливали в ведро. Туча не скупилась, наполняла миски так быстро, будто плескала в них воду из ковша.
Пахрудин зачерпнул руками дождя, умыл глаза. Причмокнул губами воду, возвратившуюся с неба на землю – в своем вечном круговороте. Вода была живой, чистой, отфильтрованной тучей. Скупое солнце испаряло земляные лужи, пропускало их через ватные облачные слои, очищая от смерти, серы и бензина.
– Дождь… – повторил Пахрудин, закатывая к потолочным балкам невидящие глаза.
Раньше сильный дождь лишь уродовал не везде прикрытое асфальтом лицо города. Оно раскисало грязью липкой, непроходимой, засасывало трости. Ручьи бороздками текли по нему – полноводные, бурливые. Город терял красоту. Дождь смывал с него приметы для слепых. Сбивал их с пути, а они не могли нащупать стопами привычные маршруты. Запахи, поднятые дождем от земли, концентрировались во влажном воздухе, смешивались, манили не туда. Дождь незрячие предпочитали пережидать дома. Теперь из подвала они благословляли его.
Дождь выбивал по земле дробь. Его барабанный марш пробуждал воспоминания – связанные и не связанные с дождем. Воспоминания влажные, укутанные сожалением о том, чему больше не повториться.
Например, вспоминался вечер, тронутый лучами заходящего солнца. Незрячие, возвращаясь со смены, солнца не видят, чувствуют его макушками, спешат ногами по знакомой дорожке – от цеха до дома. Собираются во дворе у кранта, который уже журчит, открытый Дусей, бьет струей в бетонную ванну, поднимает мыльную пену. Нуник, опираясь на трость, поднимается на пятый этаж, со скамей у подъезда им хорошо слышен гулкий стук его трости по ступеням. Слепые трут натруженные узелки пальцев, разминают их после монотонной работы с шурупами, клавишами выключателей. Они собирают выключатели, рифлеными подушечками пальцев щупают дырочки, проводки, резьбу на шурупах. Проверяют клавиши – включил, выключил; светло, темно. На выключатели спрос, с понедельника по пятницу слепые собирают их сотнями. Они не знают, зачем маленькому городу столько света. Сами они живут без света, но не во тьме.
Нуник появляется из подъезда, припадая на трость. На плече – ремень аккордеона. Они слышат, как дышит мехами инструмент у Нуника за спиной. Нуник садится на скамью, вздыхает сам, вздыхает его аккордеон – глубоко, шумно – широкой диафрагмой мехов. Тогда инструмент был цел и кнопки в нем не западали – выскакивали наружу, едва Нуник снимал с них пальцы. Аккордеон выпускал здоровые, сильные звуки. Какими только интонациями он не говорил со слепыми… И в душе у них как будто расцветали подсолнухи, похожие на солнце. Аккордеон веселился, выплескивал задорные звуки, теребил подсолнухи, обрывал на них лепестки. И лепестки вырывались из слепых душ песнями, кружили желтым счастливым вихрем. Да им в этом городе, в этом дворе было неплохо. Хорошо им здесь было. Они жили коммуной людей, не ведающих света. Не чувствовали себя обделенными – в этом доме все они были одинаково лишенными света.
Дождь отбарабанил свой последний маршок, уронил мелкие капли в полные лужи и затих. Вылив всю влагу, туча иссякла, растворилась, освобождая небосклон для заходящего солнца. Оно прошествовало сверху вниз, желая поближе рассмотреть, что без него в городе наделала туча. Брызнуло закатными лучами, но на то, чтобы высушить город, у него не хватило ни сил, ни времени. Красноватый луч прорезал вентиляционное отверстие, щекотнул лоб Дуси, и та поднесла руку к лицу, словно могла почувствовать его прикосновение. Оторвала седую голову от подушки.
– Не волнуйся, мама. Это солнце садится, ночь наступает, – полным голосом проговорила Роза, и на этот раз не пропустив слабого движения матери.
Луч коснулся и ее чистого лба, спустился к глазам, забираясь глубоко в радужку, делая их похожими на голубые хрусталики. Пошел ниже – по широкому носу к мясистым губам, круглому подбородку. Надо же, она не потеряла румянца – Роза была в том возрасте, когда лишения не сразу отпечатываются на лице. В подвале изменению подверглось только ее дыхание – Роза начала глубже дышать, чтобы и в беспамятстве Дуся слышала – дочь рядом. Сидит на краю кровати, пыхтит самоваром – плотная, пышущая. Посапывает – мама, я здесь… здесь… здесь…
– Дочка, ты мне приснилась.
– Дуся, что ты говоришь? Слепым сны не снятся, – перебила Валя.
– Валя, – задребезжала Дуся в сторону жены Пахрудина, – я всю жизнь мечтала хоть одним глазком взглянуть на свою дочку. Сегодня она мне приснилась…
Дуся всегда повторяла, что мечтает увидеть дочку хоть раз. Пусть самый короткий разок. Она не свет мечтала увидеть, а дочку. Роза привыкла к этим словам, и мысль о том, что ее черты навсегда останутся для матери тайной, не колола ее. Она даже не гадала, какой мать ее представляет.
– Мама, у меня голубые глаза, – говорила она, но Дуся не умела представить цвет. – Цвета неба, – объясняла Роза, но ее мать была слепой от рождения.
Дуся чувствовала небо, когда оно нависало низкой тучей или поднималось высоким куполом. Дуся плохо спала, когда из окна светила луна. От лунного света в груди наматывался клубок беспокойства, прерывающий сон.
Дуся знала, что после дождя над городом повисает радуга. У Дусиной радуги не было ни формы, ни цвета. Но радуга имела вес и плотность, приседала в воздухе, утрамбовывала его и чуть давила на плечи. Плечи радостно зудели – с неба на Дусю опускалось радужное, дугой выгнутое чувство, весомое, плотное, и она ртом хватала воздух вокруг себя, чтобы попробовать его на вкус. С Дусиными губами не могли сравниться ни подушечки пальцев, ни зрячие глаза. Дуся целовала все вокруг – и воздух, и людей, и предметы. «Плохо» или «хорошо» – говорила она. Вот зрячие ошибались часто – в плохом им виделось хорошее, или наоборот. Дусины губы не ошибались никогда.
– Дуся, посмотри ткань, хочу на платье купить. Хорошая?
Дуся оборачивалась на женский голос. Выключала крант, вытирала холодные руки о передник, брала в них отрез, вытягивала перед собой, приближала к нему лицо, обхватывала его кромку губами. На лице ее появлялось выражение, какое бывает, когда прислушиваешься к едва уловимому шепоту неразборчивых слов. Дуся уносилась в то измерение, где была проложена четкая грань между плохим и хорошим. Там не было места для среднего – либо хорошее, либо плохое, и никакой середины.
– Хорошая… – улыбалась Дуся.
За этой женщиной приходила другая, за другой – третья. Глаза им мешали оценить качество ткани. Дуся целовала все, что они приносили с собой.
– Валя, почему думаешь, что слепым сны не снятся? – спросил Уайз. – Я, например, вижу сны – красивые, заманчивые.
– Ты их видишь потому, что ослеп в два года, – назидательно проговорила Валя.
До начала в городе катастрофы они почти никогда не говорили о слепоте. Зрячие ведь тоже редко говорят о каком-то шестом, неведомом им чувстве.
– Тебе кажется, что ты ничего из того времени не помнишь, – продолжила она, – но твоя память держит виденные образы и посылает их в твой сон. Они приходят, и тебе кажется, что ты видишь то, чего никогда не видел. А на самом деле ты видишь то, что уже видел, пока не ослеп, просто забыл.
– Откуда ты это знаешь?
– Из медицинского журнала. В библиотеке брала.
– Пахрудин, тебе снятся сны? – спросил Нуник.
– Нет, – Пахрудин прикрыл рот рукой. – Я засыпаю, просыпаюсь, и мне кажется, что между вечером и утром прошла одна минута. Ночью со мной ничего не происходит, я ничего не чувствую по ночам. Закрыл глаза, открыл – и все, ночь прошла.
– И мне ничего не снится, – покачал головой Нуник, – но иногда я слышу во сне музыку, песни. Не свой аккордеон, а как будто стены звенят и поют разные песни. И как будто еще я знаю, что это стены комнаты, чувствую, как они меня окружают, совсем близко подходят.
– Ха, – хохотнул Пахрудин. – Слышали, у Нуника во сне стены поют!
– Не только стены, иногда поет стол или стул. Я просыпаюсь, хочу сыграть их мелодии на аккордеоне, но уже ничего не помню. Думаю, в другой раз запомню – когда спишь, музыка из сна звучит красиво, заманчиво, как говорит Уайз, и я повторяю ее про себя, напеваю, но утром, хоть тресни, ничего не помню. Давлю на клавиши, а пальцы не туда идут, и про себя музыку уже повторить не могу. Э-э-э… А видеть ничего не вижу, да я и не знаю, что это такое – видеть.
– Сны – не к добру, – отрезала Валя.
– А я вижу сны, – прошептала Галя.
– Почему не к добру? – спросил Нуник.
– Слышала я однажды, – нехотя начала Валентина, – будто бы слепые перед смертью прозревают, только видят они не глазами, а чем-то другим. Чем, не спрашивайте у меня, я не знаю.
– Вах! – Фатима нащупала на груди кожаный амулет, привезенный из Мекки. – Валя, что говоришь? Зачем говоришь? Думай, что говоришь! Глазами только можно смотреть. Зачем пугаешь, а?
– Ты столько молишься, Фатима, что тебя уже ничем не испугать, – повысила голос Валентина, и Пахрудин захихикал. – Они видят астральным зрением, я читала. Знаешь, что такое третий глаз? Он находится над переносицей, у некоторых людей он открывается и очень хорошо работает.
– Вах-х, – выдохнула Фатима и пугливо потерла переносицу, как будто у нее в темноте мог незаметно открыться третий глаз.
– Но сначала слепым как будто начинают сниться сны, – продолжила Валя, – со всякими цветными картинками и видениями, я уж не знаю, еще с чем, сама не видела. Они видят людей и предметы, которых раньше знали только на ощупь. А через сны они и мир вокруг себя видеть начинают. Только длится это недолго. Не к добру эти сны…
Роза заскворчала, будто в самовар пару поддали.
…Ночь наступала. В вентиляционное отверстие вползла темь, коснулась лбов. Пахрудин махнул перед лицом, отгоняя ее, словно муху. Но она не уходила, только сгущалась, и, погрузившись в нее полностью, незрячие перестали чувствовать ее прикосновения.
– Не верю я ни в какой третий глаз, – заговорил из темноты Нуник, – нету его, – он тоже потрогал свою переносицу, – а если не глазами, то чем еще можно видеть? Не пальцами же, не спиной?
– Почему не спиной? – хохотнула Люда. – Вот я – зрячая, а все равно спиной чувствую взгляд, брошенный вслед… А уж слова… прямо хребтом чую…
Ей вспомнилось, как она сворачивала шею у трюмо, разглядывая спину.
– Это, Люда, дорогая моя, не зрение, – усмехнулась Валентина, – это – ощущение. В отличие от вас, оно у нас очень хорошо развито. Уж мы точно не пропустим ни одного взгляда. Мы, слепые, чувствуем его, как физическое прикосновение. Скажи, Пахрудин?
– Чувствуем, как будто пальцем в спину ткнули, – послушно отозвался муж.
– Это смотря какой взгляд, – поддержал Нуник, – иногда пройдет знакомый человек, руки не подаст, слова не скажет, думает, ты не знаешь, что это он идет, а потом еще обернется и так вслед посмотрит, как будто по спине тебя ударит… Э-э-э, с другой стороны, всякие люди попадаются – плохие, хорошие… Только я все равно не пойму, как это можно спать и что-то видеть… Если днем не видишь, ночью будешь видеть, что ли? Сказок ты мне, Валя, на ночь не рассказывай. Не понимаю я этого…
– А и не надо тебе этого понимать, – мрачно заметила Валентина, зевнула, проглатывая большой кусок тьмы. – Не к добру это…
Она еще раз громко зевнула. Подвал затих и, казалось, будет молчать до утра. Но тут картаво заговорил Уайз:
– Сердцем слепые смотрят… Когда Эний попал на другую планету, он прозрел, как и обещал Гермион.
Незрячие подобрались, приготовились слушать – наступило время рассказа.
Когда Эний попал на другую планету, он прозрел, как и обещал Гермион.
Щебет в ушах постепенно смолк, в груди успокоилось. Зажмурившись, Эний пронесся сквозь миллионы вихрей, на огромной скорости – вертикально вверх, и теперь чувствовал под ногами твердь. Сколько времени прошло с тех пор, как он покинул землю? Пять минут? Десять? Или бессчетное количество лет – световых или земных?
Воздух был наполнен влагой только что пролившейся тучи. Тонкие цветочные ароматы щекотали – густые, теплые. Незнакомые запахи обволакивали с ног до головы, пробегали по коже мурашками. Казалось, все вокруг вымочил ливень.
Что-то поднималось от земли, если так можно назвать ту твердь, с которой Эний соприкасался стопами. Что-то входило в него, через колени, живот, поднималось к груди. И когда это что-то достигло сердца, сердце закололо – Энию показалось, будто кто-то неслышно подошел к нему и кольнул в грудь острым копьем. Эний схватился за сердце и закричал от боли. Он услышал, как вместе с ним кричат девять других. Точка в сердце, появившаяся на месте прокола, засипела, забулькала, причмокнула краями полой раны, втянула воздух, напоенный ливнем. Сердце загудело, твердь ответила таким же гудом.
Эний упал на колени, закричал, убитый копьем, но не умерший и не рожденный заново. Вместе с ним закричали другие.
– Оглядитесь вокруг, – донесся голос Гермиона.
Голос изменился – на этой планете он звучал чисто и протяжно, звенел хрустальным ручьем.
Точка в сердце дернулась. Чмокнув, слепила рваные края и вновь их разлепила с душераздирающей болью. Эний широко распахнул глаза, и тогда это случилось – на него нахлынуло, полилось со всех сторон. Его сны окружили его, видения из них навалились тяжелой осязаемостью. Это было новое чувство – пятое, добавленное к тем четырем, что были даны ему при рождении. И Эний увидел свои руки, ноги и испугался этого не нужного ему прозрения, как испугался бы зрячий, когда его глаза начали бы видеть предметы и тела насквозь.
– Теперь это ваш дом, – прожурчал Гермион.
Сердце успокоилось, лишь гудело негромко, как если бы в нем поселилась одинокая пчела.
Эний потрогал глаза.
Вокруг – поляна, окаймленная желтыми цветами на высоких стеблях. Воздух на ней колебался, но то был не ветер – ветер рвется в одном направлении. Воздух шевелился так, будто поляна дышала – втягивала прохладу, а выпускала нагретые струи. Над поляной текло прозрачное небо, состоящее из миллиардов светящихся точек, точки двигались, перемещались с места на место, лепя мозаику серебристых узоров. Желтые лепестки, сорвавшись с круглых головок, плавно уходили вниз – поляна делала вдох – и поднимались на горячих струях вверх – выдох. Лепестки кружили, гулькали человеческими голосами, складывались в песнь.
– Это не сон.
Эний наконец увидел Гермиона – почти великана в черном пиджаке и черной широкополой шляпе.
Гермион смотрел на детей широко распахнутыми голубыми глазами. Из-под полей шляпы выбивались завитки волос. Выдающийся нос блестел, верхняя губа была прихлопнута нижней – пухлой, словно ужаленной пчелой. Оттого лицо его казалось обиженным, надутым, но твердый подбородок делал свое дело – не каждый осмелится обидеть такого человека, как Гермион.
Эний увидел и девять других. Они были похожи. Да что там говорить! Они были неотличимы друг от друга. Да и сам Эний смотрелся в них, словно в зеркало.
Они пошли за Гермионом по тучной земле, жирной насекомыми. Стопы утопали в пышном шалфее с серебристым подбоем, пастушьей сумке, резеде. Двигались лугами, мимо рыжих коров и курчавых овец. Пахло травой и навозом. Над головой бесшумно пролетали крупные птицы – соколы, ястребы или орлы. Шли тропинками, наступая в следы Гермиона, ведущего их вперед прыгающей походкой. Его широкополая шляпа отбрасывала тень вокруг него.
– Я не вижу домов, – окликнул его Эний и запнулся: «не вижу» сказал он вместо того, чтобы произнести, как обычно, – «не слышу», «не чувствую». Как быстро принял он это пятое, непрошеное чувство, еще не успев понять – благо оно для него или зло.
– Скоро мы войдем в город, – ответил Гермион, и его слова разнеслись по всей цепочке.
Они больше не переговаривались между собой. Эний про себя удивлялся: почему девять других все время молчат? Может, немые, подумал он, но вспомнил, как они голосили, улетая с земли. Когда это было? Только что или сто миллионов лет назад? Он прислушивался к своему сердцу, которое так и не перестало жужжать. Когда-нибудь оно замолчит?
По небу вдруг покатился раскаленный шар, разгоняя точки, расплескивая на них, словно краску, свою густую красноту.
– Солнце садится! – крикнул Гермион. – Поспешим!
И они поспешили по густой траве, но не успели пройти несколько метров, как солнце укатилось туда, откуда его было не видно. Наступила плотная тьма, сотканная из мелких кусочков бархата, которые можно было пощупать. Эний решил, он снова ослеп – только что данное чувство было отнято у него, раскаленный шар прижег глаза слепотой. Или все виденное было сном, и он никуда не улетал – продолжает спать в интернате для незрячих детей? А солнце над землей окончательно погасло, и тьма проглотила бетонную коробку интерната и проходящую мимо него трассу?
Пчела замолчала. Эний трогал тьму. Он собрал ее в комок и слепил из нее черную шляпу. Надел шляпу на голову. Гермион обернулся и рассмеялся.
Еле слышная, проснулась пчела. Солнце укатило на запад, но теперь столб розового света поднимался на востоке и разбрасывал на далекие расстояния бледные пятна. Шар овальный, чуть заостренный в нижнем конце выпрыгнул из-за земли и повис на середине неба, легкий, как воздушный шарик. К Энию вернулось зрение, пчела в нем запела новую песню, и в розоватом свете он увидел долину, а в ней – низкие строения, окруженные невысокими деревьями. До захода первого солнца воздух был соткан из прозрачных серебристых точек, теперь, после восхода второго, он стал розоватым с перламутровым отливом.
– Я вам говорил, что над нашей планетой встают два солнца, – пояснил Гермион. – Сутки здесь состоят из тридцати шести часов. Двенадцать часов светит красное солнце, еще двенадцать – розовое, а потом наступает ночь, без луны.
Они приближались к городу и уже могли разглядеть его во всех подробностях. Одноэтажные деревянные дома, над их черепичными крышами – седые завитушки дыма. Солнце подсвечивало розовым окна домов. В этом городе не было высоких строений, собранных из стекла и металла. Его не пронизывали электрические столбы, а небо не прорезали натянутые на них провода. Город раскинулся широко, но в нем не было ничего фантастического, одно строение походило на другое, и все их можно было принять за сельские дома, не будь город таким большим.
Издалека Эний разглядел небольших человечков, идущих по не асфальтированным дорогам. Мужчины носили такие же широкополые шляпы, как Гермион.
– Как называется эта планета? – спросил Эний и услышал, как хором с ним говорят девять других.
– Земля… – помолчав, откликнулся Гермион.
Стоя на пригорке, он смотрел из-под полей шляпы на долину – ласково проводил по ней взглядом, гладил ее дома, деревья, цветы и людей, приветствуя после разлуки. Отблески второго солнца розовели на его носу, успокаивали мрачность его одежды. Гермион протянул к долине руки. Казалось, какие-то вихрящиеся теплые потоки исходят от кончиков его пальцев, струятся до самой долины, и долина улыбается ему в ответ. От этой ее улыбки точка в сердце Эния снова запела, и, прикрывая глаза, Эний поднялся в воздух, сел на струи из пальцев Гермиона и покатился в зеленую мякоть улыбки, как по гладким перилам лестницы интерната, и было ему хорошо, легко и даже весело. Эний открыл глаза – он никуда не катился, а по-прежнему стоял рядом с Гермионом на пригорке. Эний намотал на пальцы волосы у висков, они заструились у щек такими же локонами, как у Гермиона.
– Поспешим, – сказал Гермион. – Нас ждет Великий Раб.
Уайз замолчал. Все ждали продолжения, но по его учащенному дыханию поняли – на сегодня рассказ закончен.
– Уайз, честное слово, с каждым разом твои рассказы становятся все короче, – заворчал Нуник.
– Правильно, – встрепенулся Пахрудин. – Говори сейчас, какой такой Великий Раб ждал Эния. У них там что, на другой планете, до сих пор рабовладельческий строй?
Уайз улыбался – мягко, как только что в его рассказе улыбалась долина. Жмурясь, он смотрел в темноту, всплескивал пухлыми руками, опускал их на одеяло, и растопыренные его пальцы порхали, словно объевшиеся, отяжелевшие от хлебных крошек птицы.
– Мне тяжело представлять места, в которых сам я никогда не был. – Уайз вытянул губы трубочкой, тем самым округляя слова и как будто прося прощения. – Я пока и сам не знаю, что это за Великий Раб. Когда узнаю, расскажу… – Он пожмурился в темноту.
– Выходит, у них на планете все, как у нас? – спросила Валентина.
– Слыхали?! Как у нас?! – в темноте Пахрудин изобразил руками изогнутую фигуру, и будь у него в руках кисточка, мог бы нарисовать на черном фоне темноты сложную художественную абстракцию. – У них там в тысячу, в миллион, в сто миллионов раз лучше, чем у нас! У них два солнца, а у нас – ни одного! – Пахрудин стянул с головы тюбетейку и положил ее под подушку. Голосом он говорил злым и раздраженным, и все, включая Валентину, знали, что в такие моменты с ним лучше не связываться.
Раздражался Пахрудин без видимых причин, как, впрочем, и смеялся в самые неподходящие моменты. Когда на него нападал приступ злобы, что случалось нечасто, он сидел, нахохлившись, издавая вибрирующие звуки. Его раздражение быстро доходило до точки кипения, и в горле Пахрудина начинало клокотать – словно в нем закипала вода. Он вдруг и по-петушиному вскрикивал – сухо, неприятно, а потом начинал смеяться. Приступы смеха длились недолго – всего минуту или две.
И сейчас чувствовалось, что Пахрудин закипает, будто сидит не на кровати, а на горячей конфорке.
– Если ты, Пахрудин, не видишь солнца, это не значит, что его нет, – заметила Марина.
Ей было лень разлеплять уже склеенные сном губы, но не хотелось, чтобы Пахрудин, взорвавшись, кого-то обжег.
Пахрудин глубоко затянулся темнотой и сухо по-петушиному вскрикнул:
– Можно подумать, ты много этого солнца видишь!
Посидел, подумал, поскрипел сеткой кровати. Фыркнул. Вынул тюбетейку из-под подушки, фыркнул в нее еще раз и негромко рассмеялся, похоронив свое раздражение на дне круглой шапочки.
Валентина приподнялась. Кровать ойкнула. Раздался шлепок.
– Спи! – приказала она.
Пахрудин послушно улегся, скрестив на груди руки.
– Руки так не держи! – снова прикрикнула Валентина, будто могла видеть, какую позу принял ее муж. – Сколько раз говорила, не лежи, как покойник! Не к добру!
Пахрудин резко вытянул руки по швам, и тогда подвал наконец замолчал, уходя в сон до утра.
Люда проснулась разбитая, во сне у нее мерзли ноги. Ночью Чернуха скулила, мешала спать, и когда Фатима недовольно заухала, Люда поднялась и вывела собаку в другой отсек.
Ноги за ночь распухли, не втискивались в жесткие ботинки. Люда сняла уже достаточно грязные шерстяные носки и надела ботинки на босу ногу. Жесткая кожа вгрызлась в голые пятки, сдавила пальцы, больше всего досталось маленькому, беззащитному мизинцу.
Прибежала Чернуха, ткнулась носом в колени, засопела, задергала хвостом. Люда почесала ей за ушами. Чернуха повалилась на спину и засучила лапами, напоминая цирковую собаку, обученную крутить педали велосипеда.
– Иди под кровать! – приказала Люда. – В другой раз будешь знать, как выть по ночам.
Она вынула из-под подушки сложенную вчетверо репродукцию «Подсолнухов», раскрыла ее. Потерла тяжелые после сна веки, выбирая из ресниц ночные заскорузлости. Вентиляционное отверстие слабо отбрасывало на земляной пол квадрат короткого ленивого света, не имеющего амбиций пойти далеко, дотянуться до углов и четко осветить черты собравшихся.
Чайник сипел на дымящей печке. Незрячие уже проснулись, и в сером свете все они казались прозрачными, едва заметными – поседевшими от пыли. Не людьми, а тенями жильцов дома, которые по-прежнему живут в своих квартирах на разных этажах.
Люда гладила репродукцию, и подсолнухи нагревали бугорки ее ладони. Единственное яркое пятно… Сначала Люда хотела повесить ее на стену, но передумала – незрячие не увидят, а сырая стена убьет цветы, как избыток влаги убивает горшочные.
Лохматые головки, змеистые стебли, резкие изломы лепестков… Подсолнухи напоминали лохматых рыжих мальчишек – сыновей, которые могли бы родиться из ее яйцеклеток. Рыжих, непослушных, растрепавшихся во время игры во дворе – там, где дорожка ведет в цех, где под кронами абрикосовых деревьев гуляет ветер и где, горланя, бегают дворовые пацаны. Из раскрытого окна до Люды доносились их голоса.
Подсолнухи тянулись к ней и тоже смотрели на нее карими зрачками головок – выпуклыми, удивленными. Цветы, написанные неприкаянным голландцем, не были зачаты в семечке, не выросли из тонкого стебля, а сразу вот такими взрослыми вылезли из влажного темного материнства земли. Пробились на поверхность, взъерошив лепестки, удивившись яркому солнцу. Изломанные, поникшие, неприкаянные, как ее не рожденные мальчишки.