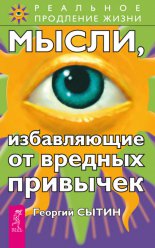Амалия и Белое видение Чэнь Мастер

Мои университетские дипломы сообщают всем желающим, что я – бакалавр (а далее еще и магистр) искусств, что бы это ни значило. Разбираться в финансах кабаре для бакалавра искусств – более подходящее дело, чем детективная работа.
Наконец, после длинного, полного радостей и разочарований вчерашнего дня мне попросту хотелось спать.
Поэтому я поехала в кабаре, проверить счета, а потом прилечь на диванчике.
Спала я, наверное, полчаса (хотя и это было неплохо), а дальше меня разбудили доносившиеся снизу звуки: в пустом зале, между толстых колонн и поднятых ножками вверх на столы стульев, Тони играл на большом белом рояле регтайм, «пам-пам-пам-пам-пам-пам-па», и так далее.
Делал он это довольно паршиво, но вообще-то очень трудно сказать, что он в этой жизни умеет делать хорошо, кроме того что поджидает Магду после выступлений.
Хотя нет, какую-то пользу он иногда приносит, и это связано опять же с Магдой.
Магда, штатный музыкант нашего кабаре, постоянно занята тем, что ищет себе партнеров и создает с ними маленькие временные бэнды. Из филиппинцев, каждый день играющих на Эспланаде, из музыкантов «Истерна энд Ориентла», «Раннимеда» или частных бэндов из особняков на Нортхэм-роуд. То есть попросту ворует людей. Но иногда люди не воровались, и Магда оставалась со своим саксофоном в одиночестве.
Эту проблему она превратила в преимущество «Элизе». Потому что после половины одиннадцатого вечера все рестораны в европейских отелях уже закрываются, танцы заканчиваются около полуночи. И чуть ли не единственный клуб у моря, в центре города, где можно ночью съесть что-то небольшое (например, чисто китайское блюдо под английским названием «чикен чоп» – куриная котлета) – это наше кабаре. А на сцене его в это время звучит грустный тихий голос саксофона Магды.
Послушать эту ночную музыку, уже без каких-либо танцев, приходят очень многие. Тони же в таких случаях просто летаргически перебирает клавиши, не очень искусно, молча шевеля бледными губами, но Магда умело подстраивается под эти звуки. И в целом все получается очень трогательно.
Впрочем, нет – кое-что Тони умеет делать просто отлично.
А именно – играть «Трех поросят».
Он делает это не просто с азартом, а каким-то веселым остервенением, ритмично поблескивая стеклышками пенсне, помогая себе движениями подбородка с неопрятными седоватыми клочьями бородки. При этом на лице его расплывается нехорошая, если не сказать – подлая улыбка, как будто он знает про своих случайных слушателей какие-то очень грязные секреты, связанные, например, с ненатуральной склонностью к животным.
Вдобавок «Три поросенка» – вещь особая, из тех, что почти невозможно прекратить играть, если только тебя не ударят тяжелым предметом по голове. Многие из нас не раз испытывали желание именно это и сделать, хотя надо признать, что этому своему музыкальному пороку Тони предается чрезвычайно редко, и только при очень хорошем настроении.
Я вздохнула и пошевелилась на своем диване, прислушалась к регтайму внизу. Сделала вывод, что сегодня у Тони тоже все в порядке, и еще – что Магды, не любящей регтаймы, здесь нет. Она в это время, впрочем, почти всегда была в постели («девушке полезно немножко поспать днем»), в своем отеле по имени «Чун Кинг», он же «Чунцин», на Чулиа-стрит. Это большой двухэтажный сарай: плоская крыша, буро-красная вывеска, навес для пары авто. У входа – гордая пара двойных античных колонн. Наверху – деревянная галерея и облупившиеся белые ставни комнат. Абсолютно тихое место с зеленым двориком, заросшим манговыми деревьями, с которых Магда на правах постоянного жителя таскала, когда хотела, желтые, в форме запятой, плоды.
Иной раз, впрочем, ее охватывала жажда новой жизни, и тогда она переезжала в отель классом повыше – «Ен Кенг», на той же улице, древнее двухэтажное английское бунгало, где, как говорят, жил какое-то время сам сэр Стэмфорд Раффлз. Тут черепица китайских ворот вся в бирюзовой глазури, а дворик – по площади еще больше, и тоже с манговыми деревьями.
Но каждый новый переезд для Магды был все более сложным предприятием: кули тащили за ней какое-то несуразное уже количество граммофонных пластинок и, отчаявшись, часто били их как бы случайно, в порядке отмщения.
Итак, в «Элизе» все было как всегда, не то чтобы скучно, но как-то чрезмерно нормально. К этому моменту, надо сказать, я еще не знала ничего нового – например, привезли ли тело убитого в Джорджтаун, или похоронили его там, где обнаружили, а до действительно серьезного развития событий и подавно оставалось двое суток.
Так что я решила: поскольку солнце скрыли милосердные облачка, можно отправиться в город без каких-то особых целей.
Впрочем, сначала я, ведя велосипед за руль, прошла несколько десятков ярдов до очень грустного места, которое располагалось буквально на заднем дворе «Элизе». Туда, где солнечные лучи никогда не проникали к позеленевшим камням среди стволов и ветвей, облепленных белым лишайником.
Здесь лежат первые из создававших город – давно, в эпоху молодых Бонапарта, Нельсона и лорда Байрона. Закрыто было маленькое кладбище еще 34 года назад, в 1895 году, и с тех пор оно как-то незаметно оказалось в самом центре города. Но трогать этот сад древних магнолий и эти камни, конечно, никто и не пытался.
Я прошла по толстым, будто лакированным побуревшим листьям в дальний левый угол, туда, где на холмике высился тяжелый камень с великим для этого города именем – Фрэнсис Лайт. Но свернула к другому, соседнему надгробию пористого серого камня, имя на котором не мог бы сегодня вспомнить никто.
«Sacred to the cherished memory of Helen Mary Kerr (далее слово стерлось), spinster who departed this life on the 4 Febr. 1828 aged 21 years and…» – и дальше не разобрать.
Прошел сто один год, я не знаю, как ты здесь оказалась, девица Керр, зачем приехала, какой ты была, и сегодня я старше тебя на целых восемь лет, сказала я имени на камне. И я не «девица». А кто? Вот вам интересная загадка, субинспектор Маклин: не девица, не замужем, не вдова и не разведена. И не говорите, что я «юная леди с прошлым» – это неточный, хотя верный ответ. Жаль, что вы уезжаете и не сумеете при случае назвать отгадку.
Я вздохнула, отогнала комаров, поющих песенку о малярии – на этом кладбище они какие-то странные, громадных размеров и чрезвычайно злобные. И двинулась, через Лайт-стрит, в потоке других велосипедов, рикш и редких «фордов», среди белых костюмов, вьющихся шарфов, тюрбанов и пробковых солнечных шлемов-тупи. Поехала на Эспланаду – громадный газон, отделяющий море от череды гордых британских зданий с классическими греческими колоннадами. Здесь – зеленое сердце города, а по четырем сторонам этого прямоугольника – белая балюстрада у воды, Городской зал, замшелые низкие бастионы Форта Корнуоллиса, строгое великолепие Даунинг-стрит (те самые колоннады). И деревья, везде деревья – громадные, выше портиков и крыш, с густой листвой, цветами и бородами лиан.
Послушала веселый Tiger Rag, который скучно играл филиппинский бэнд в центре Эспланады, прячась от солнца под конической крышей чугунной беседки. Постояла у мавританской Башни Виктории, часы на которой отсчитывали мгновения моего последнего спокойного дня.
Заехала в порт, на пристань Суиттенхэма, посмотрела на маячивший в дрожащей дали тупой обрубок – японский крейсер, почти без надстроек, с двумя несуразно большими орудиями на носу. И – ближе – на пришвартованную к Суиттенхэму посудину с бортом, обросшим пронзительно-ядовитой зеленью водорослей и еще ракушками, торчащими, как обломки зубов. С этого судна по гремящему металлом трапу на асфальт пристани шел нескончаемый поток китайцев, с коричневыми неподвижными лицами и испуганными глазами. Один неуверенно улыбнулся мне, другой в восторге начал рассматривать мои ноги в кремовых чулках и споткнулся. Отсюда им была прямая дорога в Иммиграцию – «Мау ва кун», «место, где задают вопросы» – и далее на оловянные шахты, стройки и куда угодно еще.
Дальше… дальше в тот день я повернула велосипед в расщелину между колоннадами Даунинг-стрит и тронулась к великолепию главной улицы, Бич-стрит, обогнав низкую калошу маленького троллейбуса у здания Гонконг-Шанхайского банка.
На Биче росло постепенно нечто еще более грандиозное, другой банк – «Стандард Чартерд». Трудно в это поверить – но, кажется, в итоге тут будет целых пять этажей, со скошенным вбок фасадом, напоминающим нос линкора. Впрочем, в наши дни, когда деньги растут на деревьях, олово стоит чуть не 300 фунтов за тонну, строят везде – город стучит молотками и скрипит канатами. По всему Бичу пахнет известкой и деревом, старые двухэтажные здания обрастают бамбуковыми лесами: лакированные жердины связаны в суставах канатами, будто бинтами.
Нет ничего более европейского, чем эти яростно перестраивающиеся сейчас по всему городу китайские кварталы: год назад тут был двухэтажный домик из дерева, замазанного штукатуркой, сейчас – то же самое, но из кирпича. Вот из-под бамбуковых лесов выглядывает целый блок прилепленных друг к другу новых двухэтажных домов. Все вместе – как кремовый торт: белая штукатурка, по ней – свежее гипсовое рококо из раскрашенных цветов, непременно античные колонны и фронтоны и обязательно – похожие на стиральные доски ставни на втором этаже. А под самой крышей опять гипсовые медальоны, с выдавленными в них фамильными иероглифами хозяина. Индиго, цвет стен прошлой эпохи, стремительно меняется у нас в Джорджтауне на новомодную бледную бирюзу всех оттенков, тогда как в Малакке стены почему-то становятся сегодня нежно-розовыми, а в Сингапуре – желтовато-лимонными.
Я продралась сквозь многоцветную толпу, говорящую минимум на десяти языках, и это не считая английского. Остановилась у витрин Логана, под вывесками «Пианино Робинсона» и «Коламбиа графонолаз». Посмотрела, как в начищенном до неземного сияния латунном поручне отражается рикша со складчатой крышей, тянущий ее китаец, я в белой шляпке, колонны дома напротив, а в общем – скрученный в трубочку – весь мир.
Зашла в торжественные залы Логана, выслушала «госпожа Амалия, вот это я отложил для вас, совсем новый талант, из Америки, зовут Росс Коломбо – послушайте тихим вечером». Положила, выйдя на улицу, две тяжелые пластинки в велосипедную корзинку. И свернула с Бича в переулок справа, где мир становится, если такое можно себе представить, еще более китайским.
Лавки: счеты, весы и увесистый телефон, вот тут продается что-то ядовитое из аптечной серии – jaga powder, belachan, chinshalok. Везде – масло мускатного ореха и персика в запыленных бутылочках. Дальше – магазин с десятками птиц в клетках.
Море качающихся черных голов, шлепанье босых ног и стук деревянных сандалий. Шарканье каучуковых подметок, изготовленных из стершихся автошин (шнурок между большим и указательным пальцами с желтым ороговевшим ногтем размочален и вот-вот порвется). Звоночки: везут мороженое. Запахи: горят сандаловые опилки, пахнет нефтью керосин горелок, а тут еще лошадки с их ароматами, и редко – проползающие среди толпы авто, едко и черно дымящие.
И еще запах: одеколон парикмахера, работающего перед зеркалом, укрепленным на стене. Полуголый клиент – спиной к уличной жизни, на его укрытые полотенцем плечи ложатся черные кисточки ровно обрезанных влажных волос. В двух шагах – то же самое, но классом выше: перм-парлор в стиле ар-деко, очень заметная часть уличного пейзажа. И почему китаянкам так идет завивка? Я потрогала свою прическу и пошла дальше.
Мимо пахнущих раскаленным маслом и испускающих пар прилавков с надписями: prawn mee, Assam laksa. Вот пирамида зеленых шаров – свежие кокосы, каждый – уже с обструганным белым монблановым верхом.
И дальше, завороженная, я остановилась у сооружения, которого в детстве страшно боялась.
Это настоящий станок, сбоку – тяжелое чугунное колесо, рядом второе поменьше, сверху жестяной кожух-крышка – под ним скрываются два мощных металлических валика, не дай бог между ними попадет палец, эту боль нельзя даже представить. Но китаец в темных шортах до колен и белой майке ничего не боится, он берет бледно-зеленые, похожие на молодой бамбук, длиной в пол-ярда, побеги сахарного тростника, загоняет их под кожух, между валиков. Поворачивает колесо – валики крутятся, и между ними течет густой липкий сахарный сок. Сока не пропадает ни капли, он выливается через жестяной клювик в стаканы со льдом, а несчастные побеги выползают с другой стороны валиков, измочаленные в мелкую сухую дранку.
Тут я все, наконец, поняла и уселась за ближайший столик. И поскольку Элистера рядом не было, то устроила себе такой ланч, что настоящий англичанин содрогнулся бы и отошел. Все вместе это называется лок-лок. Тонкие щепочки, на которых нанизаны кусочками всякие радости жизни типа куриных гребешков, печени, почек, кишок, или, скажем, улитки. Или в другом жанре – рыбные шарики, сушеная медуза, мелкая рыбешка. Все это можно самостоятельно макать в кипяток или горячее масло, а потом в красный острый соус либо в сладкий или соленый соевый соус.
Дальше радости жизни кончились, я со своим велосипедом вернулась на Бич-стрит и оказалась, как мне и следовало, у подъезда мощного четырехэтажного здания с ротондой на крыше: редакция «Стрейтс Эхо». Здоровенная комната с побеленными стенами, рядами «империалов» с белыми круглыми клавишами, беготней; кабинеты великих людей вдоль коридора.
– Тео, – сказала я возвышавшемуся на длинноногой табуретке человеку по имени Теофилиус Уильямс, собрату-евразийцу с корнями откуда-то из Голландской Индии. – Тео, твой начальник появился на премьере и сбежал. А тебя и вообще не было. Я не верила своим глазам. Ну вот тебе еще один пригласительный билет. С женой. И вот тут вторая моя подпись: по два напитка на каждого. Ну, пожалуйста, Тео, приходите вдвоем и потанцуйте. Как же мы без вас?
Теофилиус, подозревала я, мог бы и сам выступать в каком-нибудь нашем ревю, поскольку он говорил на тамильском, английском, малайском, кантонском и хоккьенском: человек-оркестр.
Я изготовилась клянчить у него три-четыре из пачки книг, пылившихся на столе: лондонские новинки, присланные на разгром критикам. После разгрома книги эти все равно валялись тут зря. А еще надо было узнать, что нового на лондонской сцене, действительно ли восходящая звезда драматургии – Ван Друтен – затмила даже Ноэля Кауарда и Уильяма Эшендена. Далее, я сама выписывала на дом еженедельные «Спектэйтор» и «Нэйшн», но в редакции пропадали впустую еще и Truth (что за нахальство – назвать журнал словом «Правда»), и «Нью Стейтсмен»…
– Так, вот она, – сказал Тео.
Тут в моих руках оказался магический предмет: мокрый прямоугольник бумаги с двумя колонками пачкающегося шрифта. Гранка. Конечно, магия – я же видела сейчас то, что все остальные прочтут только завтра, но не в виде отдельных гранок, а все вместе на шершавой газетной бумаге. А может, еще и не прочтут, если кому-то тут, в этом здании, не понравится какая-то гранка.
После первых же строчек моя физиономия начала расплываться в улыбке, а потом я замурлыкала «ля, ля, ля».
– У твоего репортера хороший вкус на музыку, – сказала я, наконец, Тео. – Одна ошибка, если это важно: наша Магда говорит про себя «я, вообще-то, скорее голландка». А ее друг Тони в таких случаях отзывается: «а я скорее американец». Хотя можно оставить и так, последние перед Азией лет двадцать своей жизни она точно провела в Америке…
– Да, – сказал Тео, – да, конечно… Сейчас. Вот, сделано. Амалия, я хотел тебя спросить. Ты здорово удивила меня вчера. И Эллиса, главу нашей репортерской службы. Как это случилось, что ты заранее знала о смерти этого человека? Кем надо быть, чтобы знать об убийстве полицейского чина раньше, чем об этом узнала сама полиция? А, Амалия?
– Тео, Тео – все так просто, я узнала от самой полиции, что его ищут. Не больше. Его действительно нашли в каменоломне – там, где вы написали?
Тео мрачно кивнул.
– А как его звали, кто он был по должности? – задала следующий вопрос я. – Видишь, вот этого я не знала.
– Он? Уайтмен, Джеймс Уайтмен, сорок два года. Заведующий архивом, – странным голосом сказал Тео.
Наши глаза встретились, и я кивнула. Очень интересный глава архива, путешествующий по каменоломням султаната Кедах. Он искал там, среди камней, потерявшиеся архивные записи вердиктов коронера за прошлый год? Не говоря об имени – анонимнее бывает только Джонсон и Джексон. В общем, специальное отделение полиции.
Значит, Элистер Маклин и точно шпион, родился в моей голове неопровержимый вывод.
Чтобы скрыть смущение, я взяла со стола еще одну гранку, с крупным шрифтом. Передовая, конечно, которую писал, как и было положено по должности, лично Джордж Биланкин.
Хм, так у нас же завтра некая дата – 12 августа. День, когда Фрэнсис Лайт впервые поднял британский флаг над этим – заросшим тогда глухим лесом – островом, принадлежавшим до того момента султану Кедаха. Дата не очень круглая, 143 года назад, но все же хороший повод сказать несколько умных слов. Например: «При той разности рас, которые привлекала страна, возможно, это был счастливый случай, что именно Британия, а не другая Держава, всадила в землю свой флагшток в Пенанге, так как никто другой бы не достиг большего в объединении незнакомых друг другу народов, которым надлежало отныне жить вместе».
– Есть комментарии? – чуть заносчиво поинтересовался голос у меня над ухом.
Я скосила глаз и увидела рядом с собой небольшой животик, на котором лежал неинтересный полосатый галстук. Подняла глаза выше и увидела круглые очки в роговой оправе и улыбку господина Биланкина.
– Комментариев – никаких, – бодро отозвалась я. – Есть совершенно постороннее соображение.
– Немедленно его сюда, ваше соображение, – отозвался главный редактор и устремил на меня сверху взгляд веселых глаз.
– Дело в том, господин Биланкин, – сказала я, – что год назад я участвовала в случайном разговоре насчет памятника Фрэнсису Лайту, которого так до сих пор и нет. А нет его потому, что не сохранилось лица этого человека. Видите ли, штат самого Лайта состоял сначала из одного, потом из пяти человек. Да и вообще европейцев на острове в первый год было всего четырнадцать. Два торговца, владелец таверны, корабельный плотник, э-э-э, как это – смолист, что ли, специалист по парусам, плантатор… Чуть позже, в 1801 году, некий Джон Браун был одновременно провостом, шерифом, тюремщиком, коронером и бейлифом. И это был важный человек, потому что на стройках каторжников из Индии было уже 180. Так вот, каторжники были, но ни одного врача, ни одного инженера – или художника.
Тут Биланкин, молча подвинув себе стул, сел со мной рядом и начал смотреть на меня как-то по-другому.
– И тогда, – продолжала я, – мой собеседник сказал: ну, хорошо, зато сохранились портреты сына великого человека – Уильяма Лайта. И еще бы им не сохраниться, потому что в 1836 году он создал другой город – Аделаиду. Наследственный гений, господин Биланкин. Отец начертил здесь первые четыре улицы – Бич-стрит, Питт-стрит, Чулиа-стрит, ну и Лайт-стрит. А сын, Уильям Лайт, – то был первый генеральный сюрвейер Южной Австралии, и он считается автором дизайна одного из самых хорошо спланированных городов мира. И почему бы, сказал мой собеседник, не взять лицо сына для памятника отцу – ведь какое-то сходство было?
– Великолепно, – перебил Биланкин, и, как я понимаю, приготовился просить разрешения использовать эту идею в печати.
– Но тут возникло неожиданное соображение, – задумчиво продолжала я. – Вы слышали такое имя – Розеллс, Мартина Розеллс? Та португалка, с сиамской кровью, которая привела сюда корабли Лайта, принадлежавшие, кстати, калькуттскому торговому дому Журдена Салливэна и, извините, де Соза? У них с Лайтом было четверо детей, включая Уильяма, и неподалеку отсюда сохранился переулок – Мартина-лэйн, домиков в шесть.
Биланкин молчал. И я закончила:
– Так вот, если когда-нибудь здесь будет памятник Лайту, то многие, многие люди будут искать в нем черты Мартины Розеллс. Напишите об этом при случае, господин Биланкин.
Главный редактор поднялся, держа мокрую гранку на руке, как официант салфетку. Моргнул несколько раз, глядя на меня сверху:
– Де Соза. А не де Суза (тут я приготовилась ощериться). Ну, конечно. Простите меня, госпожа де Соза, мне следовало бы вас узнать – это вы главный администратор замечательного кабаре, вечер в котором мне пришлось вчера прервать так неожиданно. Благодарю за приглашение. Это преступление мне все испортило. Но каково же было мое удивление, когда мне сказали, что мои репортеры знали заранее какие-то подробности этого убийства, более того – знали от вас. Это правда? Какое отношение вы имеете к этой истории?
Вот тут я задумалась: а какое, на самом-то деле, я имею отношение к этой истории? Скорее, это она как-то упорно старается иметь отношение ко мне.
В общем, не то чтобы я прямо тогда, в редакции, предугадала, сколько раз еще мне будут задавать этот и другие неприятные вопросы. Но, видимо, что-то почувствовала. И ответила с чарующей улыбкой:
– Не большее, чем вы. Вы сидели тогда за столиком со Стайном и Джошуа, и я за пару дней до этого тоже имела приятный разговор с джентльменом из полиции. И решила принести пользу моему старому другу в вашей газете. И только.
– Да-да-да, – задумчиво сказал Биланкин, и повторил: – Розеллс, Мартина Розеллс. Чем больше тут работаешь, тем больше понимаешь, что ничего простого в этих краях нет и не будет. Первым уроком для меня было, когда я назвал – просто назвал – имя Ганди в одной из первых своих передовых. И получил от местных индийцев шесть дюжин писем, в которых говорилось, что мне еще многое предстоит узнать в жизни, прежде чем получить моральное право хотя бы упоминать светлое имя Махатмы или, скажем, мыть его ноги. Заметьте, это я еще не критиковал его, а просто написал «Ганди»… Я вас покину, извините.
И с гранкой на руке он двинулся обратно в кабинет. А я, с грузом книг и журналов – обратно на раскаленную улицу, в многоголовую толпу.
…И только когда стемнело, и птица куай закончила в моем саду свою вечернюю серенаду (куай, куай, куай – все выше тоном), торжествующая Мартина доложила: телефон, сеньора.
– Элистер, даже не думайте, что я настолько глупа, чтобы на вас сердиться. Я все знаю. Кроме одного: вы собираете чемодан?
Пауза, в течение которой я смотрела во тьму сада.
– Послезавтра, на «Таламбе», – ответил он, наконец, и я совершенно не удивилась. – Нас держали на цыпочках весь прошлый вечер и весь сегодняшний день, хотя разговаривать с нами было не о чем. Полный хаос, по коридорам топают озверевшие инспекторы… А в итоге – домой. Жаль. Очень жаль.
– Вы вчера назвали меня птицей, Элистер…
– Исключительно в знак уважения и симпатии…
– Так вот, позвольте проявить птичье любопытство и спросить – факт убийства господина Уайтмена палочками для еды установлен уже официально?
Элистер снова замолчал, а потом усмехнулся:
– Я забыл, кто вы на самом деле… Иначе откуда бы вам знать его имя, которого, между прочим, не было в газетах… Но боюсь, что вас временно разжаловали из птиц, пока нет замены Уайтмену. Или, скажем так, вы – птица без гнезда. Как и я. Это объясняет ваше поведение. Ну, а я – разжалован до ранга пассажира «Таламбы». Нет, Амалия, установить что-то уже невозможно. Труп пролежал на солнце слишком долго, насекомые, змеи… нет, я не буду беспокоить вас подробностями. Его пришлось похоронить в Алор-Старе, заключение коронера – убит ударом тонкого тупого предмета в мозг, через глаз. И еще был второй удар, в висок, но тут не уверен даже коронер. Но мы с вами знаем, как было дело. А больше не знаем ничего. Хотя вы-то останетесь, и в итоге вам все будет известно.
– В итоге – да, – сказала я голосом Маты Хари. И сделала паузу, ожидая, ожидая…
– За мной приглашение потанцевать в мой отель. Я дал вам слово, – железным голосом сказал Элистер.
И я перевела дыхание.
– Кстати, Элистер, – а что это за отель?
– «Раннимед», – сказал он без энтузиазма. – И не думайте, что мы купаемся в роскоши. Тут есть одно крыло, которое использует для своих гостей ваша полиция… Не очень роскошное, но ничего.
– Знаю это крыло, – уверенно сказала я. – О последствиях приглашения такой женщины, как я, в этот отель вы предупреждены?
– Пусть собратья не подадут мне руки на причале и напишут письмо в Калькутту. Какого дьявола, почему мы не можем сделать невозможное? Без этого неинтересно жить.
– Впечатляет. Знаете что, Элистер, я зарезервирую это приглашение за собой и использую его против вас в любой момент. Но вы уверены, что вам следует танцевать, если только что убили вашего…
– А, черт… Я, конечно, в глаза его не видел, но…
– Знаете что – я плохо выполнила поручение своего калькуттского сородича и не показала вам весь город. Давайте… ну, хоть поднимемся к буддийскому храму в Айер Итаме, там можно будет спокойно поговорить. А что касается вечера – решим по вдохновению. Ну, что – завтра в девять утра у входа в «Раннимед»?
– Бесспорно.
Пусть и разжалованная из птиц, я вздохнула, и душный ночной воздух погладил меня теплой лапой по лицу.
Глава 5
Они безнадежны, Амалия
Над головами – Пагода Рамы Четвертого (она же – Пагода миллиона будд), как башня из сказки, облепленная странными балкончиками и колоннадами.
Под ногами – светло-серые плиты площади, обнесенной чем-то вроде крепостной стены, между зубцами которой замерли десятки абсолютно одинаковых бодхисаттв.
Отблеск солнца на гладкой коричневой коже обнаженного плеча плывущего мимо монаха.
Отдаленный хрип граммофона из домиков внизу, на склоне, под широкими банановыми листьями: хм, новинка – On With the Dance Бена Поллака.
Глупое хихиканье и шарканье ног очередной группы туристов: то ли наивные американцы с их квадратными фотокамерами, то ли английские юнцы, отправившиеся к опасностям и запретным удовольствиям в колониях.
И мы с Элистером, непочтительно устроившиеся с сигаретами у ног одного из бодхисаттв в тенечке. Посматривающие через амбразуру на ржаво-шоколадную чешую черепичных крыш города там, далеко внизу – но в основном друг на друга.
– Элистер, что за детское упрямство? Зачем надо танцевать со мной именно в «Раннимеде»? Ну, будут неприятности. Мы ведь даже не говорим с вами о какой-нибудь там любви. Мы друзья, Элистер, и только. Если, конечно, может быть дружба между англичанином и португалкой. Да еще такой, у которой не меньше пинты малайской и сиамской крови.
– Почему это не может быть дружбы между англичанином и португалкой?
– Потому что ваши пираты украли у наших пиратов награбленное добро. Вот эту страну. Мои предки захватили и разграбили Малакку в начале шестнадцатого века. А потом появились сначала ваши союзники голландцы, а потом и сами ваши предки. Отобрали все награбленное, записали моих предков в «евразийцы» и отправились играть в свой крикет. Общего у нас с вами только одно – кровь пиратов.
– Амалия, мои предки, к сожалению, не пираты. А мирные шотландские пастухи.
– А вы поищите – может быть, какой-нибудь прадедушка был пиратом?
– Увы.
– Ну, и что тогда за пиратская идея – бросать своим собратьям вызов?
– Не впервые. Пусть вычтут у меня из жалованья за каждый танец с вами. И пусть вспомнят, в каком веке мы живем.
– К сожалению, не в лучшем. Вычтут, а то и хуже будет. Вам придется тогда бедствовать. Вы ведь не очень богаты? Хотя, раз вы англичанин, у вас в Калькутте свой домик, слуга и водонос?
– Так и есть, но это даже не рупии, а анны. Я респектабельно беден, как и положено шотландцу. А у вас есть домик и слуги?
– Да, и тоже двое. Я трудолюбивая молодая леди. Работать в кабаре – отличный способ зарабатывать деньги. Так вы любите бросать вызов, Элистер? В теннисе? Гольфе? Крикете?
– И не только. Когда я вижу дурака, то считаю: он создан для того, чтобы ему бросить вызов. Если начинает надоедать.
– Очень уж много дураков, Элистер. Может быть, не надо им на радость разбивать лоб о каменную стену? Может быть, лучше перехит-рить их?
– О, вот это сложно. И долго. Лбом о стену – куда эффектнее… Но вы правы, Амалия. Мы с вами – два евразийца, я – в качестве почетного члена этого ордена, если примете. Нам надо быть умными.
– А они нас за это не любят, за ум, не правда ли? Знаете, что говорят ваши соотечественники о тех своих коллегах, которые изучают все эти бесчисленные китайские языки?
– Нет, в Калькутте таких нет.
– Они говорят, что эти люди становятся мрачно-торжественными, неразговорчивыми, про-являют склонность говорить цитатами из мудрецов китайской древности, да еще и жить по заветам таковых.
– Изумительно. А знаете, Амалия, как называют мои соотечественники на индийской гражданской службе таких, как я, которые вместо спорта уходят с головой в санскрит, хиндустани, тамили, бенгали и прочее?
– Гуру.
– К сожалению, по-другому. Cranks. Свихнувшиеся.
– А как мы с вами назовем публику, которая щелкает вон там своими идиотскими камерами, не имея понятия, что они, собственно, снимают?
– Вон тех? Которые сходят с корабля в солнечном шлеме и темных очках и в ужасе озираются на толпу диких, грязных, заразных азиатов?
– Которые, увидев на стене своего отеля серенькую чичаку, спасающую их от мошкары, с криками «ящерица, ящерица» бьют ее каблуком или ручкой от щетки… Чичака, друг дома, пожиратель насекомых – это ведь здесь почти то же, что у вас – корова, священное животное.
– А, это ваши лары и пенаты, вот как они тут выглядят – на четырех лапах…
– А еще эти люди через каждый час моют руки марганцовкой и демонстративно вытирают их одеколоном, отчего распространяют удушливую парикмахерскую вонь. Смотрят на вкуснейшую еду в мире с дрожью ужаса и пробуют ее так, будто совершают подвиг – при этом путаясь в палочках. Демонстративно выбрасывают наземь лед из стакана: в нем заморожена зараза. Потом глотают для дезинфекции дозу чего-то крепкого из фляжки, в результате сидят с красной физиономией, истекая потом. Наконец не выдерживают, требуют кровавый бифштекс и прочую цивилизованную пищу – и, конечно, ложатся в каюте с расстроенным желудком: кто же ест в Стрейтс-Сетлментс европейскую еду, которую тут не умеют готовить? Ни китаец ни индиец никогда не будут есть в этом климате мясо с кровью, именно из-за желудка.
– Они безнадежны, Амалия! И я не про китайцев или индийцев.
– Всех усыпить, Элистер!
– Начиная с вашей полиции. Они никогда не раскроют убийство этого несчастного Уайтмена – посмотрели бы вы, как они вчера бегали кругами и какие вопросы задавали нам, будто весь наш калькуттский десант – это группа подозреваемых. Кстати… Дорогая и уважаемая Амалия, а вы знаете, что выяснилось насчет того человека, который был убит у храма? Его привез пуллер, выгрузил из рикши прямо в пыль дороги – уже в таком виде, как мы с вами наблюдали. Замахал руками, призывая людей, а сам схватился за рукоятки своей рикши и сгинул. Видимо, вывалить убитого им седока в канаву он не мог – кругом были люди. То есть вы знали, что убийства совершают именно пуллеры рикш? А откуда?
– Да? Потрясающе. Не может быть… Ну, давайте раскроем еще одно дело. Вместе мы можем все. Вы знаете все, что знает полиция. Я знаю все, что происходит в городе.
– А что, если мы раскроем дело, это даст нам возможность безнаказанно потанцевать в «Раннимеде» в мой последний вечер? И никто не скажет, что я не могу танцевать, если мой коллега убит?
– Разве что даст моральное право. Давайте вот как: я включу на полную мощность свое птичье любопытство и допрошу вас. А вы потом допросите меня.
– Великолепно.
– Итак, забудем на время о Уайтмене. За кем следил осведомитель полиции у Змеиного храма?
– Так. Неожиданное начало. Ни малейшего понятия. А может, вообще ни за кем не следил.
– Он что, никак не фигурировал во всех полицейских разговорах вчера? Несмотря на то, что его убили тем же способом?
– Ну, что вы. Фигурировал. Полиция считает, что появилась некая банда, которая убивает вот таким орудием. Но как можно напрямую связать убитого китайца, который иногда что-то рассказывал полиции, и убитого англичанина – нет, пока что речи об этом нет.
– Но это предельно странно. Элистер, вы сами что думаете – чем был занят убитый осведомитель в тот день у храма?
– Вы ведете к тому, что он следил за мной. Или охранял меня. Но из вчерашних разговоров я понял очень хорошо: никто не знает, зачем этот человек оказался у храма. Это значит, что полиция его туда не посылала. Иначе это как-то бы мелькнуло в разговоре.
– Может быть, Уайтмен его туда послал, несколько дней назад? Ну, хоршо – а о чем вообще вас, калькуттцев, расспрашивали коллеги? Что их больше всего интересовало?
– Какой странный вопрос, Амалия. Но у меня есть на него странный ответ: их интересовало, что мы знаем. Они пытались понять, зачем мы приехали. Меня все время расспрашивали, что мне сказали перед отъездом, какие инструкции дали. Но поскольку мне нечего было ответить… О целях нашего приезда знал, похоже, только Уайтмен. Вот даже вы не знали, иначе бы уже мне все рассказали. Когда это стало ясно, мы стали сразу же всем неинтересны, они дали телеграмму в Калькутту, оттуда пришел ответ – выслать нас домой. А дальше они расследуют это дело сами, без нас.
– Не имея понятия, что и где искать?
– Да, пока что такое возникает впечатление. Я понимаю, что вас интересует, Амалия. Да, обычная полиция – в полном неведении об операции их более секретных собратьев.
– Это утешает. Так, по вашим ощущениям, хоть кто-то знает, зачем Уайтмен отправился в каменоломню?
– По моим – нет. Они в полной растерянности.
– Его тело подбросили туда или его там и убили?
– Как я понял, очень трудно это сейчас установить. Но похоже, что он вышел из гостиницы в Алор-Старе и поехал куда-то, возможно – в каменоломню. Ну, вообще-то прошел всего один день, Амалия. Они что-то еще выкопают. Но проблема в том, что Уайтмен в своем, так сказать, архивном департаменте был, оказывается, один, помощник его оказался в Англии…
– …вот отчего ему в помощь выписали всех вас. Так, про меня речь шла?
– Если у меня еще и были сомнения насчет того, кто вы такая, то теперь уж… Да, меня спрашивали, что эта дама делает рядом со мной. И я ответил честно, что я привез вам рекомендательное письмо от вашего калькуттского родственника, и вы пытались мне показать город. Еще мне сказали несколько слов по поводу… вообще женщин…
– Не скрипите зубами, Элистер, я представляю, что они могли именно про меня сказать, а не вообще про женщин. А теперь вопрос: раз они про меня спрашивали, то где именно нас с вами видели вместе?
– У храма с зелеными… да, да, я помню… Нет, не там. Потому что Корки я ничего не сказал о вас, а осведомитель, который нас там мог видеть, был немедленно убит и вряд ли мог кому-то о вас рассказать. В остальных местах мы были вдвоем, и нас не видел никто… И тогда – вы правы – все очень странно. А, нет, еще мы встретились среди целой толпы полицейских на той улице, где нашли склад с динамитом…
– Динамит. Отлично. Теперь я предоставляю вам право допросить меня. Но до того я должна признаться в одной страшной вещи. Элистер, я долго шутила, но сейчас время шуток, кажется, кончается. Я просто молодая леди, работающая в кабаре. Не более того.
– И вы говорите это после блестяще проведенного допроса? Не смешите меня, Амалия. Никогда в это не поверю.
– Meu Deus, tens a cabera dura!
– Меу деуш… Я не успею выучить португальский, Амалия, мне ведь завтра уезжать. Но «дура» – это, видимо, «твердый»?
– Вы все-таки знаете французский, помимо слова «шьен». Но на португальском «дура» – это «упрямый». Если вам нравится считать, что вы скорее «твердый» – тем лучше. Итак, ваша очередь допрашивать.
– Сначала выводы. В том числе из вашего допроса. Местная полиция не способна раскрыть это дело, потому что оно касается сами знаете какой ее части. И наша четверка не способна ей помочь. Мы завтра уедем и, возможно, ничего никогда не узнаем. А вам здесь придется подбирать осколки, когда Уайтмену пришлют замену – из Сингапура, видимо? И вы уже этим сейчас занимаетесь параллельно с обычной полицией, так?
– Я устала спорить.
– Но давайте начнем с другого конца. Простая логика: мы имеем дело с какой-то бандой, убивающей палочками для еды. Вывод первый: это китайцы. Вывод второй: это банда.
– Браво, Элистер!
– Подождите. Не всякая банда имеет настолько серьезные проблемы с полицией, чтобы атаковать не только осведомителей, но и самих полицейских. Ну и что вы, зная местную обстановку, можете на это сказать? Наугад, учитывая, где и на кого вы работаете: это политика? Коминтерн?
– Непохоже, Элистер. Коминтерн – это рабочие кружки и запрещенная литература. Здесь мы знаем о таких штуках разве что из газет. Хотя рабочие – это по большей части именно китайцы и немножко ваших, индийцев. Кружки, пропаганда… Но они конспирируются, а не атакуют полицейских. И у них, думаю, есть револьверы и все прочее. А тут нечто иное.
– Нелегальная иммиграция? Проституция? Контрабанда?
– Иммиграция здесь легальна вся. За последнее десятилетие сюда въехало два с половиной миллиона китайцев, и все легально.
– Да, я знаю, малайцы не любят работать.
– Больше слушайте всякий бред. Малайцы владеют землей, они отлично на ней работают и выращивают все что угодно, от папайи до риса. Зачем им наниматься на оловянные шахты? А потом, здесь, в Пенанге, до Лайта вообще был необитаемый остров, покрытый джунглями. Сингапур до Раффлза – в точности то же. Люди были и остаются нужны, так что только в этом году тысяч двести китайцев в Малайю въехали, и едут еще. Итак, это легально. Проституция… Кэмпбелл-стрит платит кому надо «чайные деньги». Контрабанда? Возможно, но вы сами заметили – как Коминтерн, так и контрабандисты убегают от полиции, а не нападают на нее. Так что я понимаю нашу полицию – дело уникальное.
– Почерк убийц, палочки и прочая экзотика. Вы же видите, куда я клоню, Амалия: эти ваши китайские секретные общества, триады. Вот у них бы хватило наглости…
– Секретные общества запрещены в 1890 году. До того тут были войны между секретными обществами, а белые строили поперек Бич-стрит баррикады. Сегодня… конечно, любой житель Малайи скажет вам, что общества никуда не исчезли, они есть и будут всегда. Это не секрет. Но, Элистер, – в том-то и дело, и я об этом давно уже думаю – палочками тут не убивали никого и никогда. Ритуальное оружие тайных обществ совсем другое. Ножи. Кинжалы. Ну, у них бывают встречи буквально в джунглях, на расчищенных полянах, в милях от шоссе. Полиция находила там емкости с кровью, куда все макают пальцы, со свежим порезом, и приносят в очередной раз клятву. А вот если кто-то клятву нарушит… Когда на таких сходках в джунглях наказывают предателя, то каждый член триады наносит по удару, так что это очень характерные убийства. В Пенанге тоже года два назад раскрыли место таких встреч – позади кладбища Бату Лангчан.