Жильбер Ромм и Павел Строганов. История необычного союза Чудинов Александр
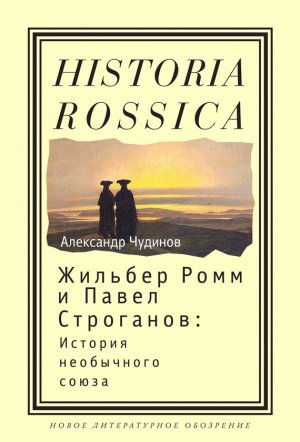
Я хотел бы, чтобы именно это глубоко запечатлелось в сердце Вашего сына. И если бы мне здесь удалось преуспеть в той степени, как я того хочу, я создал бы истинный источник счастья для его отца, для всех, кому он сам небезразличен, для него самого, да и для себя тоже.
Но недостаточно только иметь благие чувства. Нужно также, чтобы они надлежащим образом направлялись и приносили добрые плоды. Надо, чтобы свет Разума озарял, усиливал и укреплял движения прекрасной души. А потому образование столь же необходимо и полезно для порядочного человека, насколько оно опасно для сердца злодея.
Приятные манеры должны обеспечить доступ в общество человеку с просвещенным разумом, поскольку суровый вид был бы плохо там воспринят. Однако они не должны быть основной целью, каковой является стремление быть добрым и образованным; умение же нравиться имеет второстепенное значение.
Париж предоставляет нам широкие возможности для всех видов учебы, но и скрывает также в себе немало подводных камней. Дабы обойти последние и не отвлекаться от достижения поставленной цели, я счел нужным изменить имя Вашего сына, избавившись тем самым от необходимости выполнять пустые и бесполезные обязанности, которые налагало бы на нас его родовое имя. Я не опасаюсь, что он останется не узнан теми, кто знал его с детства, но полагаю важным, чтобы от него не требовали визитов, которые привели бы к потере времени, а может, и к чему-либо похуже. Я с удовлетворением замечаю, что эта перемена имени, больше не являющаяся тайной, указывает на тот образ жизни, которому мы решили следовать, а потому нас до сих пор еще не беспокоили в нашем уединении. Вы на сей счет не высказали никакого мнения, и я хотел бы знать, одобряете ли Вы нас.
Ваш сын не посещает здесь никаких зрелищ, поскольку в Париже они могут быть опаснее для молодого, неопытного человека, чем где-либо еще. Я ему дозволяю лишь те удовольствия, которые он имел в детстве. Учится он математике, рисованию, работе с картой, что должно подготовить его к изучению фортификации, осваивает металлургическую химию и механику. Я предполагаю давать ему уроки английского языка и несколько подтянуть его в немецком. Он неизменно занимается историей, которая преподается ему так, чтобы он дополнительно мог получить представление о французской художественной литературе. У него все еще вкусы ребенка, предпочитающего внешне яркое действительно красивому и способного слушать с вниманием только во время продолжительного отдыха. Что касается юриспруденции, то я нахожу его пока слишком легкомысленным и недостаточно усидчивым для ее изучения. Надеюсь, он смог бы приступить к нему через год или два. Я жду наступления теплого времени для возобновления его занятий плаванием и другими упражнениями, укрепляющими тело. До сих пор мне не приходилось приглашать к нему ни обычного врача, ни хирурга. Но все же я постоянно нуждаюсь в Вашем одобрении своих действий и в Ваших советах. Если бы Вы несколько больше, чем обычно, обращали внимание на сей предмет при чтении моих писем, Вы, конечно, могли бы многое мне сказать, но, судя по Вашим письмам, у Вас огромное множество разных дел.
Я стараюсь ограничить несколько чрезмерную страсть Воронихина к живописи, так как хочу сделать из него человека, действительно полезного для Вашего сына. Я направляю его на изучение архитектуры, механики и всего того, что сделает его сведущим в вопросах производства. Он занимается всем с таким удивительным усердием, видеть которое Вам было бы весьма приятно.
У Вашего сына нет хорошо осознанного стремления к учебе, но он относится к работе добросовестно, проявляя при этом большую сообразительность и точность суждений. У него случаются и ошибки, о которых я как-нибудь смогу Вам поведать и о которых я Вам ранее также уже говорил, но он не совершал ничего такого, что могло бы повредить ему физически или морально. У него нет ничего от внешнего лоска, который делает молодых привлекательными. Он имеет все те недостатки, что порождаются простотой и незнанием светских манер, от коего он когда-нибудь да избавится.
Имею честь пребыть с глубоким к Вам уважением, Господин Граф, вашим преданным и покорным слугой
Жильбер Ромм[678].Этот документ в значительной степени проливает свет на причины изменения Роммом фамилии своего подопечного. Жизнь инкогнито должна была, по мысли наставника, избавить молодого человека от необходимости вращаться в светских кругах с их многочисленными соблазнами, а потому рассматривалась Роммом прежде всего как необходимое условие нравственного воспитания юноши. Вот почему вопрос о перемене имени встал одновременно с принятием решения о поездке в Париж – в октябре 1788 г., когда еще никому и в голову не приходило, что некоторое время спустя во Франции возникнет необходимость скрывать аристократическое происхождение по политическим мотивам.
Впервые упоминание о псевдониме Павла Строганова появляется в письме Ромма Дюбрёлю, отправленном из Лиона 4 октября 1788 г.:
Я счел уместным изменить имя Попо. Барон [Г.А. Строганов] также захотел изменить свое, о чем он известит вас лично. Попо выбрал имя «Очер» по названию одного из владений его отца в Сибири. Пожалуйста, примите это во внимание. Во время пребывания в Париже его надо называть просто г-н Очер. Графа Строганова там быть не должно[679].
Павел известил об этом решении отца в письме из Лиона от 21 октября / 1 ноября: «…Как господин Ромм хочет, чтоб я был не известен в сем городе [Париже], то он мне присоветовал переменить мое имя, и я избрал Очер – имя вашего завода»[680].
Благодаря перемене имени появление Павла Строганова в Париже осталось незамеченным не только многочисленными друзьями и знакомыми его отца, но первое время даже полицией, обычно устанавливавшей негласное наблюдение за прибывавшими во французскую столицу иностранцами. Только с приездом в Париж Григория Строганова, путешествовавшего под псевдонимом «господин Тамань», оба, наконец, попали в поле зрения полицейских агентов, о чем свидетельствует сводка по контролю за иностранцами от 23 января 1789 г.:
Гг. Таманн и Дочер (Tamann et Dotcher), молодые русские офицеры, прибыли сюда на прошлой неделе и остановились в особняке Куси на улице Сен-Бенуа, каковой покинули, чтобы поселиться в особняке Люксембург на улице Малых Августинцев. Эти молодые дворяне приехали из Германии в сопровождении двух французов, своих учителей, на коих возложена обязанность заниматься их образованием. Некоторое время они поживут в Париже, а затем отправятся путешествовать[681].
В Париже учебные занятия Павла Строганова продолжались как и прежде, а объем их, возможно, даже увеличился. Согласно данным книги расходов, которую вел Ромм, сразу после их приезда был нанят учитель немецкого языка, а немного погодя Павел и Григорий стали посещать курсы военного искусства[682]. Круг их общения также составляли в основном люди, связанные с науками. В письме от 12/23 февраля Павел отмечает: «Мы здесь часто видим господина de Mailli, и у него видели часть привезенных им из России руд; кой доказывают чрез их драгоценность его великим охотником, и бывшим в дружестве с теми, которые имеют лутчия рудники в Сибири»[683]. В письме от 31 марта / 11 апреля он сообщает отцу о встрече со своим швейцарским знакомым О.-Б. Соссюром[684]. Любопытно, что письма Павла и его учителя в Петербург зимой и весной 1789 г. не содержат ни малейшего упоминания о политических событиях. Может быть, ни тот, ни другой просто не хотели лишний раз волновать старого графа? Однако другой источник, а именно переписка Ромма с его риомскими друзьями, также свидетельствует o том, что и наставник, и его ученик до мая 1789 г. обращали на политику мало внимания, сосредоточившись в основном на занятиях науками[685].
В апреле пришло сообщение из Петербурга о смерти барона А.Н. Строганова, отца троюродного брата Павла. Григорий начал готовиться к отъезду в Россию. Письмо от 31 марта / 11 апреля, которым Павел откликнулся на столь печальное известие, ярко показывает глубокую и очень искреннюю религиозность этого еще совсем молодого человека:
Милостивой государь и почтенной отец мой,
Я весьма сожалею о смерти дядюшки; это великая потеря для всей его фамилии, а наипаче для братца весьма несщастливо, что ему должно было оставить свои учения в такое время, в которое они ему больше б пользу могли принести. Я чувствую что сия потеря должна и вас весьма оскорблять, а особливо нечаянностию, ибо дядюшка помер в таких летах, в которых обыкновенно человек бывает крепче. Но надобно думать, что сие к лутчему зделано, ибо Бог, ничего не делает, которое бы не было весьма хорошо; в коего вера тем весьма утешительна, что, ежели с одной стороны мы оскорблены чем нибудь, можем с другой нас утешать тем, что противное тому хуже б было…[686]
В мае, с открытием Генеральных штатов, распорядок занятий Павла Строганова претерпевает серьезные изменения. Ромм и его подопечный начинают регулярно посещать Версаль, где с трибуны наблюдают за работой Штатов. Вероятно, первое время Ромм полагал, что ему удастся совмещать столь интенсивное увлечение политикой с продолжением систематического образования своего ученика. Во всяком случае, в мае он направляет А.С. Строганову письмо с пространным планом дальнейшей учебы его сына. Без указания даты оно впервые было опубликовано великим князем Николаем Михайловичем[687]. По мнению А. Галанте-Гарроне, документ составлен в апреле 1789 г. – в момент отъезда на родину Г.А. Строганова, то есть до начала работы Генеральных штатов, сразу после которого Ромм, как полагал итальянский историк, оставил все свои педагогические начинания[688]. Судя по тексту письма, его, скорее всего, действительно повезли с собой в Петербург Г.А. Строганов и Демишель. Однако из Парижа они уехали не в апреле, как думал Галанте-Гарроне, а 12 мая[689] – неделю спустя после открытия Генеральных штатов. Впрочем, последнее обстоятельство пока еще ничуть не мешало Ромму строить новые планы по образованию своего подопечного:
К концу года мы намереваемся проехать по южным провинциям, оттуда направимся в Германию, Голландию и Англию, дабы продолжить занятия по различным дисциплинам <…> Пребывание в Германии будет преследовать цель упрочить наши навыки в немецком и приступить к изучению права. После овладения этим языком, знать который в России настоятельно необходимо, я хочу, чтобы он [Павел] освоил английский, дабы суметь прочесть вышедшие на нем несколько хороших книг по искусству. Изучение этих языков окажется для него менее трудным, поскольку он довольствуется освоением только прозы, которая всегда проще, чем речь поэта[690].
Впрочем, столь замечательным прожектам суждено было остаться на бумаге. Водоворот революционных событий все глубже затягивал и учителя, и ученика. В монографии А. Галанте-Гарроне детально показан процесс быстрой радикализации в мае – июне 1789 г. взглядов Ромма, прежде достаточно безразлично относившегося к политике. О воззрениях его ученика известно гораздо меньше. Логично предположить, что резкая смена обстановки, когда юноша, которого долгое время воспитывали анахоретом, вдруг оказался в гуще политических страстей, произвела на него достаточно сильное впечатление. Если еще осенью предыдущего года политика имела для него более чем второстепенное значение, то с июня 1789 г. она регулярно появляется в его письмах к отцу. Так, 15/26 июня 1789 г. Павел сообщает: «Мы здесь имеем весьма дождливое время, что заставляет опасаться великаго голода, который уже причинил во многих городах бунты. Теперь в Париже есть премножество войск собрано, чтобы от возмущений удерживать народ, который везде ужасно беден»[691].
А вот Ромм в своих посланиях старшему Строганову, напротив, вообще не касается политических тем, рассказывая преимущественно об успехах своего воспитанника в учебе. Так, в письме от 16/27 июня он сообщает: «Ваш сын добился успехов в плавании: дважды он пересек Сену в достаточно широком месте»[692]. И даже в письме от 3/14 июля, в день парижского восстания и взятия Бастилии, Ромм, ни словом не упомянув о происходящем на улице, ограничился обсуждением исключительно вопросов учебы: «Я не могу не обратиться к Вам снова с просьбой, повторяя которую уже наскучил, но которая для нас важна, а именно: прислать нам те предметы, что уже давно собираете для нас и что могли бы расширить познания Вашего сына в географии, истории и экономике его родины. Он находится в добром здравии и добился больших успехов в тех физических упражнениях, которыми занимается, но особенно в плавании»[693].
Однако события 14 июля получили огромный резонанс не только во Франции, но и далеко за ее пределами, а потому дальнейшее молчание о них Ромма могло вызвать недоумение старого графа. И когда Павел 9/20 июля известил отца о случившемся: «Вы может быть уже знаете о бывшем в Париже смятении, и вы может быть неспокойны о нас, но ничего не опасайтесь, ибо теперь все весьма мирно»[694], гувернер от себя добавил: «Господин Граф, мы могли бы Вам писать чаще, чтобы предотвратить тревогу, которую у Вас могут вызвать сообщения газет о происходящем в Париже. Теперь же вокруг нас все в совершенном спокойствии»[695].
С этого времени мало какое из писем уже не только Павла Строганова, но и Ромма обходилось без того или иного упоминания о событиях революции. Например, 24 июля / 4 августа Попо рассказывает о посещении с наставником разгромленной народом Бастилии[696]. Сам Ромм в тот же день направляет А.С. Строганову письмо с объяснением причин их задержки в Париже:
Мы отложили наше путешествие в южные провинции, поскольку при этом всеобщем брожении умов, которые повсюду заняты исключительно вопросами власти и управления, мы не смогли бы там столь же успешно обеспечить себе образование, развлечение и безопасность. Г-н де Лафайет, главнокомандующий городской милицией Парижа, и г-н Байи, мэр города, установили прекраснейший порядок во всех кварталах. Повсюду здесь царит спокойствие, и пребывание в Париже теперь более безопасно, нежели во всей остальной Франции[697].
Утверждая последнее, Ромм мог сравнивать положение в столице с ситуацией в его родной Нижней Оверни, охваченной в те дни, как, впрочем, и многие другие французские провинции, «великим страхом». Дюбрёль сообщал Ромму, что провинция взбудоражена слухами о появившихся неизвестно откуда таинственных разбойничьих шайках, одно известие о приближении которых вызывает страшную панику[698].
Между тем «политическое образование» Ромма и Строганова продолжалось, поглощая практически все их время. Другие занятия оказались заброшены. Поездки в Версаль стали практически ежедневными, а с 11 августа Ромм даже снял там квартиру, которую они с Павлом покинут лишь в октябре, с переездом Национального собрания в Париж[699]. В послании Дюбрёлю от 8 сентября Ромм так описывал освоение нового и для учителя, и для ученика «предмета»:
В течение некоторого времени мы регулярно посещаем заседания Национального собрания. Они мне представляются отличной школой общественного права для Очера. Он проявляет к ним живой интерес, все наши разговоры теперь только об этом. Получаемые нами со всех сторон знания обо всех важнейших сторонах политического устройства столь прочно завладели нашим вниманием и настолько заполняют наше время, что любое другое занятие для нас оказывается почти невозможным[700].
В какой степени эти «уроки» были усвоены Павлом Строгановым? Прежде всего надо отметить, что политика действительно стала наиболее подробно освещаемой в его корреспонденции темой. Любопытно, что особое внимание он уделял продовольственному вопросу, считая основной причиной народных волнений недостаток хлеба. Едва ли не в каждом письме он так или иначе касался этой темы, сообщая, как обстоят дела со снабжением населения продовольствием: 9/20 сентября 1789 г. – «Здесь жатва хотя и была хороша, однако же весьма трудно достать хлеба, и не знают к чему сие приписать; говорят, что много вывозят для императора (хотя вывоз весьма строго запрещен)»[701]; 23 сентября / 4 октября – «Здесь все весьма тихо, хлеб не редок как был прежде и так народ не бунтуется»[702]. Любопытно, что уже на следующий день после того, как это было написано, в Париже начались волнения, вылившиеся в поход плебса на Версаль. Впрочем, и в дальнейшем продовольственная проблема постоянно находила отражение в письмах Павла: 11/22 ноября 1789 г. – «Все мирно теперь в Париже и хлеб не редок»[703]; 2/13 декабря – «Здесь все мирно, и уверяют что меры взятыя, снабдили Париж хлебом на целую зиму»[704]. Письмо от 17/28 декабря 1789 г. также показывает, что перспективу гражданского умиротворения во Франции Павел Строганов связывал именно с благоприятным урожаем грядущего года. В небольшой приписке к этому посланию Ромм добавляет: «…Мы можем лишь повторить, что порядок и безопасность укрепляются с каждым днем, что все идет к установлению мира и что мы здесь пользуемся всеми благоприятными возможностями, которые нам предоставляются в данных обстоятельствах»[705]. Любопытно, что двумя неделями позже младший Строганов почти дословно повторит то же самое: «Я не имею ничего другого вам сказать, как только, что здесь все спокойно и в мире»[706].
Впрочем, это далеко не единственное совпадение в оценках ситуации учителем и учеником. Так, в их письме от 25 ноября / 6 декабря Ромм описывает ее в выражениях, весьма схожих с приведенными выше высказываниями Павла: «Здесь царят порядок и мир; хлеб, столь необходимый для их поддержания в народе, обилен и хорош»[707]. Есть и другие примеры, свидетельствующие о близости взглядов Ромма и младшего Строганова. Выше уже приводилась положительная оценка Роммом деятельности маркиза де Лафайета и Байи[708]. Подобным же образом отзывается о роли Лафайета в событиях 5–6 октября и Павел Строганов, выражая в письме отцу как собственное мнение, так и мнение наставника («Я с господином Ромом думаю»). Отметим также, что из всех существовавших тогда версий о причинах стихийного похода парижан на Версаль Павел приводит ту, которой придерживались наиболее последовательные сторонники революции, а именно: действия парижан стали ответом на «заговор» противников реформ:
…Теперь Париж весьма спокоен, меры которыя взял маркиз de la Fayette для сего, не оставляют никакого страха для совершеннаго мира; нынешния мятежи меня ни под каким видом не удивляют, но на против кажутся весьма натуральными, ибо французской народ переменяет свою constitution, что и причиняет великое множество не довольных, которыя думают привесть паки древную чрез оныя, они желают внутренной войны и есть многия кой боятся чтоб она не случилась, но я с господином Ромом думаю что ето совсем без основания, по хорошим мерам которыя против ея взяты. Не давно что было еще в Париже великое смятение причиненное одним пиром данным королевскими лейб-гвардиями, в котором они произносили в пресудствии короля и королевы многия ругательства против l’assemblйe nationale и народнаго банта, которой есть синяго, краснаго и белаго цветов, бросив его под ноги, и тем вооружили против себя около пятнацати тысяч человек из парижскаго гражданскаго войска, пришедших в Версалию под предводительством маркиза de la Fayette, сии последния их прозбами принудили короля со всею его фамилиею переехать в Париж, где он и пребывает в Tuileries охраняем гражданским войском а не лейб-гвардиями; с тех пор все в Париже в совершенном мире. L’assemblйe nationale также от ныне пребудет в Париже. Я вам советую не тревожится о нас, ибо я уверен что нечего боятся[709].
Неоднократно встречающиеся совпадения в оценках событий Роммом и его подопечным дают основание говорить о значительном влиянии на Павла Строганова взглядов его наставника. И все же из этой констатации еще отнюдь не следует, что ученик смотрел на происходящее исключительно глазами учителя и полностью разделял его воззрения. С появлением нового и общего для обоих увлечения политикой прежние противоречия в их личных отношениях не только не исчезли, но даже усилились. Если еще осенью 1788 г., во время путешествия по Франш-Конте, Ромм сообщал старшему Строганову о том, что вполне удовлетворен поведением воспитанника, который проявляет все большую готовность к послушанию[710], то уже летом 1789 г. конфликты между учителем и учеником возобновились. 19/30 августа Павел пишет в Петербург:
Милостивой государь и почтенной отец мой,
Мы получили ваше письмо, писанное из Сарскаго села от 21го июля; я весьма чувствителен к милостям, которые вы для меня всегда имеете, а найпаче в сем случае; хотя я не всегда их достоин. Я чувствую, что уже несколько времени как я не имею с господином Ромом такое поведение, каковым я ему должен; я его не слушаю, как должен слушать; и чувствую, что имевши с ним худое поведение, я не держу слова, которое вам дал, и, следовательно, против Бога грешу; рассмотря все сие, я возбужден сие письмо к вам написать, и сделать сие исповедание, надеявшись на вашу милость меня в том простить; ибо я весьма в сем поведении раскаиваюсь[711].
Ромм, со своей стороны, в письмах старому графу не раз жалуется на «моральную инертность» своего воспитанника[712]. К сожалению, из корреспонденции не ясно, в чем именно проявлялись разногласия между Роммом и младшим Строгановым. Может, просто сказалась разница в темпераментах? Во всяком случае, она весьма заметна в отношении каждого из них к происходившим вокруг событиям. Задумчивый, чувствительный и глубоко религиозный юноша далеко не в полной мере разделял тот революционный энтузиазм, которым все больше проникался Ромм. Наставник Павла ощущал себя полноправным участником революции. Начав с того, что добровольно взял на себя миссию информировать земляков о работе Национального собрания, Ромм к концу 1789 г. был уже одним из наиболее активных вдохновителей «левых» своего родного города. В письмах Дюбрёлю, которые в Риоме зачитывались вслух перед многочисленной аудиторией, Ромм оправдывал совершаемые в стране акты революционного насилия. По горячим следам событий 5–6 октября он, например, писал: «Доводы одного лишь разума способны повлиять только на слабых и добрых, надо, чтобы разуму предшествовал террор, способный переубедить всех»[713]. И даже в письмах А.С. Строганову, где Ромм, разумеется, умалчивал о своем личном участии в политике, он не скрывал сочувствия к происходившим переменам. Так, когда отец Павла попросил его выкупить заложенные некогда графиней Строгановой в лотерее фамильные ценности, Ромм, обсуждая возможность данной операции, мимоходом давал понять, что считает намерения сторонников преобразований благом, даже если они грозят обернуться старому графу во вред: «При том желании реформ, которое овладело всеми во Франции, некоторые люди требуют ликвидировать лотереи и ломбард (Mont de pit). Поскольку подобная ликвидация вполне вероятна и была бы весьма желательна для общественного блага, то, если она будет иметь место, не повлечет ли она частного зла для Вас?»[714]
В письме тому же адресату от 14/25 января 1790 г. Ромм на конкретных примерах показывал, сколь благотворно, по его мнению, влияет революция на общественную мораль:
Я должен сообщить Вам об одном имевшем здесь место благородном поступке, свидетельствующем о том, что Революция определяет также и состояние нравов. Двое молодых людей занимались подделкой ценных бумаг и были арестованы. Прошел суд, их приговорили к повешению. Вы знаете, что в силу предрассудка проступок одного человека ложился пятном на всю его семью, из-за чего одинаково опозоренными оказывались и виновный в содеянном, и добродетельный человек, имевший несчастье приходиться ему родственником. Ни добродетели, ни прежние заслуги, ни личные способности, ни повышенная осмотрительность – ничто не спасало от преследования со стороны общественного мнения, для которого наказание одного навлекало пожизненное бесчестие на многих.
Теперь Закон провозгласил, что отныне родственники человека, коего покарало правосудие, могут по-прежнему занимать любые гражданские и военные должности и что поскольку вина в преступлении ложится только на того, кто его совершил, то и наказание распространяется исключительно на него же. Было бы недостаточно, если бы Закон только порицал этот предрассудок общественного мнения, гораздо более важно, чтобы Закон обязывал бороться против самого варварского обычая. Пример этому подал один из офицеров. Он снял с себя эполеты, надел их на молодого человека, приходившегося родственником преступнику, и представил его администрации дистрикта со словами: «Я подаю в отставку – вот тот, кто меня заменит». Дядя одного из осужденных был избран председателем администрации дистрикта, а еще одного из родственников произвели в капитаны гренадеров. Столь восхитительное проявление великодушия и справедливости дало повод для военной церемонии, на которой это решение было публично утверждено перед строем батальона, что превратило поступок нескольких человек в дело всех добрых граждан. Главнокомандующий обнял этих добродетельных родственников осужденных, защищая тем самым от сурового отношения к ним общественного мнения. Закончилась церемония подобающей обстоятельствам речью и мессой. Так закон, воинская честь, гражданский долг и религия объединились, дабы победить чудовищное заблуждение. Отчет о происшедшем опубликован и разослан во все муниципалитеты Королевства[715].
Настроения же Павла Строганова, выраженные в письмах отцу, составляют удивительный контраст с восторженным энтузиазмом Ромма. При несомненной симпатии к переменам в общественном устройстве Франции юноша смотрел на них с позиции доброжелательного, но все же стороннего наблюдателя, не ощущая себя участником происходящего и в какой-то степени даже испытывая определенный душевный дискомфорт от царившего вокруг неустройства. Что у него вызывает действительно сильные переживания, так это трудности, с которыми в тот момент столкнулась Россия: войны со Швецией и Турцией, угроза внутренних неурядиц. Лейтмотив корреспонденции П.А. Строганова зимой и весной 1790 г. – это повторяющееся из письма в письмо желание скорейшего прекращения раздирающих Европу войн и мятежей, установления гражданского согласия во Франции и замирения России с соседями. Так, в письме от 30 декабря 1789 г. / 10 января 1790 г. он сообщает: «Я желаю так же, как и вы, чтоб войны, существующия против моего отечества, скоро прекратились»[716].
Различия в восприятии Роммом и Строгановым окружающей действительности ярко проявляются в их совместном письме от 14/25 января 1790 г. Если написанная Роммом и приведенная мною выше часть этого послания целиком посвящена благотворному влиянию революции на нравы, то Павел, напротив, выказывал обеспокоенность возможными беспорядками в России:
Я здесь слышал что был великой бунт в Москве, но что его скоро утишили; великое несчастие быбыло чтоб к двум иностранным войнам присовокупились еще внутренныя мятежи, но надобно чаять что все несчастия не совокупятся вдруг оскорбить Россию; я бы весьма желал чтоб новой год в которой вошли, и с коим я имею честь вас поздравить был не столь мятежен как прошедший, что предвещается, по крайней мере, для здешной земли, ибо хоть иногда и приключаются маленькия мятежи, то тотчас и утишаются, и теперь не токмо в Париже, но и в провинции все в мире[717].
Не менее ярко характеризует умонастроение Павла и письмо от 28 января / 8 февраля, где он восхищается действиями французского монарха по умиротворению общества и выражает тревогу из-за возможной болезни русской государыни:
Здесь мир от часу больше утверждается и теперь основан не поколебимым образом чрез поступок короля его пришествием l’assemble nationale; от коих пор весь Париж в превеликой радости; везде поют молебны, даже и посреди площади Карузельской пели, и присягают, всенародно законам и королю, как мущины так и женщины; в речи короля l’assemble nationale приметили особливо сии слова: «ce bon peuple qui m’est si cher, et dont on me dit que je suis aim quand on veut me consoler de mes peines [этот добрый народ, который мне так дорог и которым я любим, о чем мне говорят, когда хотят меня утешить в моих несчастьях]». Но вы все это подробнее увидите в ведомостях. Я здесь слышал что наша государыня больна и, незнавши, ежели ето правда, вас покорно прошу не оставить меня в незнании о сем[718].
К счастью, сведения о мятеже в России не подтвердились, и это известие дало Павлу Строганову еще один повод высказаться в письме от 12/23 марта в пользу внешнего и внутреннего мира:
Мы получили вчерась от вас письмо, чрез которое вы нас уведомляете, что господин Демишель выехал уже из Петербурга; мы верно его увидим прежде пятнадцати дней. Я весьма рад был увидеть в вашем письме, что сказано ложно о смятении в Москве бывшем, это бы было великое нещастие, ежели б во время когда мы имеем две войны на руках, еще б внутренной мятеж случился; говорят здесь, что теперь есть возмущение в Польше и что поляки переменяют некоторые части их constitution; а в немецкой земле смерть императора причиняет немало шуму, и так почти вся Европа в безпокойстве, а мы здесь в превеликом мире[719].
Думаю, у нас нет оснований полагать, что в письмах отцу молодой Строганов был неискренен. Это Ромму, который мог опасаться неодобрения старым графом своих методов «гражданского воспитания» его сына, приходилось проявлять осторожность. В письмах в Петербург Ромм по возможности обходил молчанием острые темы политики, но зато потом отводил душу в посланиях риомским друзьям. Павел же, кроме отца, не имел не только постоянных корреспондентов, но и по-настоящему близких людей (если не считать младшей сестры, еще совсем ребенка). Именно с отцом он откровенно делился мыслями, чувствами и наиболее яркими впечатлениями. В отличие от Ромма, у него не было оснований затушевывать в письмах к старому графу происходящее вокруг. Напротив, Павел старался максимально подробно рассказать об увиденном. Если бы нам пришлось знакомиться с революционной историей, читая только письма младшего Строганова, то мы достаточно легко смогли бы получить представление об основной канве событий, тогда так по отправлявшимся в Петербург посланиям Ромма сколько-нибудь ясной картины происшедшего составить просто невозможно.
Более того, не ограничиваясь собственными рассказами, Павел высылает отцу десятки революционных изданий. В пользу предположения, что такая инициатива принадлежала, скорее всего, именно ему, а не учителю, как полагал А. Галанте-Гарроне[720], говорит тот факт, что именно Павел сообщал в своих письмах отцу о подобных посылках[721], Ромм же – никогда. Да и большая часть сохранившегося в личном архиве Ромма перечня отправляемых в одной из таких посылок книг составлена рукой Попо[722]. Учитывая столь высокий уровень откровенности в переписке между отцом и сыном, едва ли есть основания полагать, что младший Строганов кривил душой, заявляя в посланиях родителю о своем предпочтении мирного развития событий революционным и военным потрясениям.
Подобное постоянство во мнениях свидетельствует, на мой взгляд, об уже сложившейся и достаточно устойчивой основе мировоззрения юноши. Ее, как мы увидим далее, не сможет поколебать никакое влияние революционной среды, которое, надо признать, существенно усилилось с начала 1790 г. Регулярно посещая заседания Национального собрания, Ромм и его воспитанник становятся своими среди завсегдатаев трибуны для зрителей в Манеже Фейянов, где располагалось Собрание. Эти люди настроены были в большинстве своем весьма радикально. Днями напролет они наблюдали за парламентскими прениями, всегда готовые возгласами одобрения поддержать ораторов «левой» и ошикать «правых». О царившей в их среде атмосфере экзальтации мы можем судить по следующей зарисовке, сделанной Павлом Строгановым и сохранившейся в бумагах Ромма:
11 февраля 1790 г. за полчаса или, по меньшей мере, за четверть часа до открытия заседания Национального собрания граждане, занимающие трибуну Фейянов, заметили четырех человек, одетых в неизвестную форму, которых депутат-кюре посадил в углу зала со стороны патриотов [слева. – А.Ч.]. Все спрашивали друг друга, что это за форма, и кто-то ответил, что это четыре офицера национальной гвардии Ренна. Его слова тут же заставили вспомнить о патриотизме бретонцев и о той пользе, которую они принесли революции. Трибуну охватило всеобщее ликование. Однако еще не было полной уверенности в том, что они из Бретани. Их спросили, и утвердительный ответ вызвал аплодисменты той части трибуны, которая могла их видеть. Граждане, занимавшие не столь удобные места, стали кричать, что тоже хотят их увидеть. Эти господа вышли на середину зала, и, когда вся трибуна смогла их рассмотреть, раздались всеобщие рукоплескания, перемежаемые криками: «Да здравствуют бретонцы! Да здравствует национальная гвардия Ренна!» После того как аплодисменты два или три раза переходили в овацию, один из завсегдатаев трибуны потребовал тишины и объяснил, сколь сильно трибуна желала бы принять в свое лоно этих храбрых патриотов. Он потребовал потесниться так, чтобы в середине первого ряда образовались четыре места, которые можно было бы предложить этим господам. Предложение оказалось принято с энтузиазмом и готовностью, тем более удивительной, что все и так уже сидели крайне тесно. Места были тут же освобождены и предложены этим господам, они согласились, и несколько человек составили депутацию для их сопровождения. Они уселись под овацию трибуны и крики: «Да здравствуют бретонцы! Да здравствует национальная гвардия Ренна!» Дабы сделать все наилучшим образом, рядом с ними поместили двух человек, постоянно посещающих заседания и способных ответить на любые вопросы о Собрании, какие только могут у них возникнуть. В конце заседания эти господа попросили тишины и через одного из посаженных рядом с ними людей поблагодарили граждан на трибуне за проявленное к ним внимание.
П. Очер, очевидец[723].
Продолжительное общение с революционными энтузиастами из числа постоянных посетителей Национального собрания привело Ромма к идее создания собственного политического клуба. 10 января 1790 г. он и еще несколько завсегдатаев трибуны Фейянов основали «Общество друзей закона». Помимо самого Ромма, его племянника Ж.-Б. Тайана и «гражданина Очера» в число членов клуба вошли видный журналист Бернар Маре, ученый-естествоиспытатель Луи-Огюстен-Гийом Боск и еще около двух десятков их единомышленников. Наиболее же колоритной фигурой среди них, несомненно, следует признать Теруань де Мерикур. Уроженка Люксембурга, красавица двадцати шести лет, она прославилась своим активным участием в событиях –6 октября 1789 г. В дальнейшем ее постоянно можно было встретить в кругу радикальных революционеров, в частности на трибуне Фейянов. Там-то она и познакомилась с Роммом и его учеником, предложив им создать политический клуб. Первые заседания «Друзей закона» проходили у нее дома. Ромм стал председателем Общества, Теруань де Мерикур – архивистом.
История этого клуба детально исследована А. Галанте-Гарроне, что избавляет нас от необходимости ее подробного изложения. Коснемся лишь деятельности в Обществе Павла Строганова. В опубликованных итальянским историком протоколах «Друзей закона», охватывающих период с 10 января по 16 апреля 1790 г., гражданин Очер ни разу не встречается среди участников дискуссий. Да и вообще его имя упоминается лишь четырежды: 3 февраля он единогласно избран библиотекарем клуба, 21 февраля его полномочия в этом качестве подтверждены; на том же заседании и потом еще 24 февраля ему вместе с тремя другими членами поручают достаточно формальное задание – собрать сведения о кандидатах на вступление в Общество[724]. Иначе говоря, деятельность Строганова в рядах «Друзей закона» отнюдь не отличалась активностью: в основном он играл на заседаниях молчаливую роль статиста. Зато Ромм, напротив, был подлинной душой и лидером Общества, одним из главных вдохновителей всех дискуссий.
Тем не менее участие Павла в политическом клубе должно было произвести на юношу большое впечатление. Всего годом ранее он по воле наставника жил фактически в изоляции от общества, ведя, в соответствии с требованиями Руссо, существование «простое и уединеннoe». Искусственно оттягивая адаптацию семнадцатилетнего юноши к взрослой жизни, учитель ему «дозволял лишь те удовольствия, которые тот имел в детстве». Даже посещение провинциального театра в Клермон-Ферране, как заметила наблюдательная Миет Тайан, оказалось для молодого Строганова в диковинку: уберегая его от влияния света, учитель ранее избегал подобных зрелищ[725]. Теперь же, среди «Друзей закона», Павел мог держать себя на равных с людьми, которые были его намного старше, чувствовать себя одним из них.
Возможно также, что именно в этот период ему довелось познать еще одну сторону взрослой жизни. Как сообщает М. де Виссак, Павел влюбился в Теруань де Мерикур и оказался связан с ней интимными отношениями: «Очер не смог устоять перед чарами этой распутной Юдифи, тем более опасной для русского юноши, что в любви она была холодна, в противоположность неистовству своих политических взглядов»[726]. Опираясь на богатый документальный материал, в дальнейшем частично утраченный, де Виссак, напомню, не делал подстрочных ссылок, из-за чего нам сегодня трудно судить, на чем основано его утверждение.
Занятый политикой и революционным воспитанием ученика, Ромм, похоже, на какое-то время упустил из виду, что их новые занятия могут вызвать неодобрение не только старого графа, но и властей России, подданным которой был Павел Строганов. Во всяком случае, небольшое происшествие 18 февраля, напомнившее Ромму об этом, явилось для него неприятной неожиданностью. В его записной книжке оно изложено следующим образом:
У нас появился какой-то человек, искавший барона Строганова. Сам он представился инспектором полиции <…> Он мне сказал, что 15 дней тому назад у г-на Монморена, министра иностранных дел, видел некого господина, вернувшегося из России. Он расспрашивал о нашем пребывании во Франции, желая знать его сроки, и спросил, не встречались ли мы с г-ном Бобринским, некоторое время назад уехавшим из Парижа. И, наконец, он сказал, что узнал о нашем месте жительства от г-на Машкова. Он не спрашивал графа Строганова, а спросил г-на Ромма. Этот человек показался мне шпионом, и я заношу сюда для памяти подробности, подтверждающие такое подозрение[727].
Встревоженный Ромм сообщил о случившемся А.С. Строганову и, возможно, попросил объяснить, что сие могло бы означать. Об этом мы можем судить по ответу старого графа, так как само письмо гувернера мне найти не удалось (переписка Ж. Ромма и А.С. Строганова за 1790 г. в известных исследователям архивных фондах представлена крайне скудно). Для старшего Строганова происшествие также оказалось сюрпризом:
Визит полицейского агента мне так же не понравился, как и Вам; не знаю, чему его и приписать. Впрочем, мой дорогой Ромм, я уверен, что Вы слишком осторожны, чтобы не предпринять после этого мер. Скоро наступит теплое время, и я полагаю, что вы воспользуетесь им, дабы сделать несколько путешествий. Жду от Вас соответствующих известий. В Вашей стране умы слишком возбуждены; вся Европа внимательно наблюдает за происходящим, и, уверяю Вас, ничего хорошего от этого не ждут[728].
Что же, в самом деле, могло означать сие странное событие? Судя по записанному Роммом разговору с полицейским, тот постарался максимально сбить собеседника с толку и выудить у него необходимые сведения, не показывая, чем именно интересуется. Во всяком случае, только так можно объяснить странное заявление, что агент узнал о месте жительства Ромма и Попо «от г-на Машкова». Как мы видели, французская полиция еще в январе 1789 г. была и сама прекрасно осведомлена о том, что они живут на улице Малых Августинцев. Также для отвода глаз, думаю, были заданы вопросы о графе Бобринском, поскольку этот побочный сын Екатерины II и графа Григория Орлова, известный своим беспутным поведением, к тому времени уже давно находился за пределами Франции, и о бароне Строганове, почти год как покинувшем Париж. Едва ли полиции требовалось наводить у Ромма справки об их месте пребывания, поскольку она в тот момент и сама еще вполне эффективно осуществляла контроль за иностранцами, находившимися в столице Франции. Тем более что работы у нее тогда в результате революционных потрясений существенно убавилось. Так, в итоговой сводке наблюдения от 4 сентября 1789 г. отмечалось: «Никогда в Париже не было так мало иностранцев; известно, что здесь сейчас живут лишь те, чье пребывание тут длится уже несколько месяцев»[729]. Та же мысль повторяется и в сводке от 12 марта 1790 г.: «Иностранцы все еще очень редки…»[730]
В то же время у самой французской полиции претензий ни к Павлу Строганову, ни к Ромму не было, о чем мы можем судить по справке, составленной 19 февраля 1790 г., то есть на следующий день после вышеупомянутой беседы Ромма с агентом:
Молодой граф Строганов, русский, сын графа Александра Строганова, камергера российской Императрицы, члена Коллегии иностранных дела, кавалера польского ордена Белого Орла и российского ордена Св. Александра Невского, приехал сюда некоторое время назад со своим гувернером, соблюдая инкогнито и под чужим именем. Он живет в особняке Люксембург на улице Малых Августинцев.
Этот молодой вельможа, семнадцати лет от роду, путешествует уже три года, находясь под попечительством мудрого и просвещенного гувернера. Ceй юный ученик выказывает самые благие намерения относительно собственного образования, деля свое время между учебными занятиями и физическими упражнениями. Он часто присутствует на заседаниях Национального собрания, приходит к его дверям спозаранку, чтобы занять хорошее место, смешивается со зрителями и очаровывает своих собеседников справедливостью и точностью суждений.
Его отец, один из наиболее богатых аристократов России, долгое время обитал во Франции. Его ум и личные достоинства обеспечили ему любовь [окружающих] и хорошие знакомства. За время своего пребывания в Париже он потратил значительные суммы, в основном на игру. Граф Строганов был сначала женат на единственной дочери канцлера графа Воронцова, но выходки (dbordements) супруги заставили его развестись. В 1772 г. он женился на княжне Трубецкой, от каковой имеет сына, о котором здесь идет речь и которому он хочет дать самое совершенное образование, дабы тот однжды стал самым образованным и благовоспитанным из русских аристократов. Этот отец с нескрываемым удовольствием видит, что сын оправдывает его надежды[731].
Одни комплименты и ни слова о том, почему же столь благонравный юноша вдруг вызвал интерес полиции. Скорее всего, инициатива проверки исходила от посольства России. Если уж известия о регулярных посещениях юным графом Строгановым Национального собрания дошли до его швейцарских знакомых[732], то уж тем более подобные его действия едва ли могли пройти мимо внимания русских дипломатов в Париже. На мысль о том, что посещение особняка Люксембург агентом полиции могло состояться по просьбе российского посольства, наводит и прозвучавшее из уст этого человека имя «г-на Машкова». Алексей Машков, племянник бывшего российского посла в Париже князя Барятинского[733], занимал должность секретаря посольства и порою выполнял различного рода деликатные поручения секретного характера, в том числе связанные с разведкой[734]. Более того, как мы увидим ниже, несколько месяцев спустя он будет иметь прямое отношение к переменам в дальнейшей судьбе Павла Строганова.
Полтора месяца спустя после этого странного происшествия у Ромма и юного Строганова состоялась или, скажем осторожнее, могла состояться историческая встреча, оставившая больше откликов в историографии, нежели следов в источниках. Собственно, единственным основанием полагать, что она могла произойти, служит следующее письмо Ромму от его швейцарского знакомого Кунклера:
Женева, 10 марта [1790 г.]
Сударь,
Пользуюсь отъездом господина Карамзина, московита, чтобы отправить Вам только что вышедший исторический очерк о жизни и сочинениях господина профессора Верне. Ваши отношения с ним и тот интерес, который Вы проявляете ко всему, что его касается, дают мне основание полагать, что такое чтение доставит Вам удовольствие. Автор – господин Саладен, муж его внучки. С огромным удовольствием пользуюсь этим случаем, чтобы напомнить Вам о себе. Вот уже год, как у меня нет от Вас вестей. Однако некоторое время назад я узнал от госпожи Разумовской, что Вы еще в Париже. Надеюсь, что это письмо Вас там еще застанет. Русский, который его передаст, – это литератор, коего рекомендовал моему отцу г-н Лафатер. Полагаю, он проведет некоторое время в Париже. Мои родители берут на себя смелость Вам его рекомендовать. Они хотят, чтобы разлука так же не изгладила у Вас память о них, как она не изгладила у них память о Вас. Моя мама, в частности, поручила мне, сударь, сообщить Вам, какое удовольствие доставили бы ей вести от Вас. Она просит Вас обязать графа Строганова нам их сообщить. Я просил его об этом в письме, которое недавно ему написал и которое, надеюсь, он получил. Она очень хотела бы знать, что Вы думаете о делах Национального собрания и об успехе революции. Она знает, что Вы ходите туда слушать [выступления] и что Вы первым пожертвовали ему драгоценности, когда об этом зашла речь. Это заставляет нас думать, что Вы надеетесь на победу нового порядка.
Примите, Сударь, заверение в моем уважении и признательности, каковые я сохраню навсегда за проявленную ко мне доброту[735].
Что мы можем узнать из этого текста? Во-первых, то, что, приехав в Париж, Ромм перестал поддерживать свои прежние швейцарские связи и в течение года, то есть с весны 1789 г., его бывшие друзья (письмо выдержано в неофициальном тоне дружеской переписки) получали о нем лишь обрывки сведений через третьи руки. До того такие связи, очевидно, поддерживались, поскольку Кунклер, судя по двум сохранившимся его письмам юному Строганову от 23 февраля и 10 марта 1790 г., знал о принятии тем имени «Очер», произошедшем осенью 1788 г. Во-вторых, то, что эти забытые Роммом друзья воспользовались подходящим предлогом – выходом очерка о Верне, дабы напомнить о себе, переслав данное сочинение с первой подвернувшейся оказией и не питая слишком больших надежд на успех («Надеюсь, что это письмо Вас там еще застанет»). В-третьих, то, что этой удачной оказией стал отъезд из Женевы в Париж Николая Михайловича Карамзина, в будущем замечательного российского писателя и историка, а тогда еще молодого и мало кому известного литератора. Мало известного не только коллегам по «республике изящной словесности», но, по-видимому, и самим Кунклерам, поскольку, рекомендуя его, автор письма ссылался на родителей, а потом за них же – на рекомендацию Лафатера. Очевидно, их личное знакомство с «московитом» было все же не настолько близким, чтобы они сочли возможным рекомендовать его только на основании собственного опыта общения, почему и потребовалась ссылка на знаменитого физиогномиста. И, наконец, с высокой долей вероятности можно предположить, что в Париже Н.М. Карамзин встретился с Ж. Роммом, поскольку письмо в конце концов достигло адресата и ныне находится среди бумаг Ромма. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и возможность того, что по какой-либо причине (не застал дома, например) Карамзин передал письмо Ромму не лично, а через слуг.
Вот, наверное, и всё или почти всё, что можно «вытянуть» из данного источника. Да, собственно, никто долгое время и не пытался из него ничего другого «вытягивать», хотя известно об этом документе было достаточно давно. Еще в 1940 г. о его существовании сообщила К.И. Раткевич: «Имеются в этих собраниях также письма к Ромму от ряда других лиц – <…> от Кунклера, женевского ученого (в одном из них Кунклер сообщает адресату, что послал ему новую книгу о Верне через “русского литератора” Карамзина)»[736]. В 1959 г. А. Галанте-Гарроне поместил в своей монографии о Ромме тот фрагмент письма Кунклера (итальянский ученый работал с микрофильмами не слишком высокого качества, а потому ошибочно транскрибировал его фамилию как «Коннелер»), где шла речь о Карамзине[737]. В 1971 г. он сделал то же самое во французском издании книги[738].
Наконец, в 1982 г. об этом же документе говорилось в статье И.С. Шарковой. Ленинградская исследовательница подробно изложила его содержание, а также содержание двух вышеупомянутых писем Кунклера П. Строганову (в них о Карамзине не упоминалось), оказавшихся в Архиве ЛОИИ (ныне СПб ИИ). Ни на какой приоритет в «открытии» данного источника автор статьи не претендовала. Как раз наоборот: отметив неправильную транскрипцию имени Кунклера в книге А. Галанте-Гарроне, она прямо указала на итальянского историка как своего предшественника[739].
Вывод И.С. Шарковой из проведенного ею анализа данного источника выглядит вполне скромным и логичным: «Надо думать, что письма Кунклера были вручены, поскольку они сохранились в архиве Ромма, а это дает возможность предполагать, что Карамзин встречался в Париже с якобинцами Роммом и Строгановым, хотя в “Записках русского путешественника” об этих встречах ничего не говорится»[740]. Спорить не с чем. Кроме, пожалуй, того, что ни Ромм, ни Строганов не были в тот момент якобинцами: Попо вступит в Якобинский клуб лишь полтора месяца спустя после отъезда русского путешественника из Парижа, а Ромм – спустя три года.
Однако в 1987 г. тот же самый источник был положен в основу версии о тесных взаимоотношениях Ромма и будущего русского историка, которую выдвинул известный отечественный специалист по истории XVIII в. Ю.М. Лотман в книге «Сотворение Карамзина». Приведу основные этапы развития этой версии автором и возьму на себя смелость их прокомментировать:
В «Письмах [русского путешественника]» возникает образ путешественника, равнодушно взирающего на политические споры французов, – как скучающий зритель, он смотрит из партера на пьесу из совершенно чужой жизни. Большинство исследователей полагает, что это и есть истинное отношение Карамзина к парижским событиям в 1789–1790 годах.
В 1982 году сотрудница Ленинградского отделения Института истории АН СССР И.С. Шаркова обнаружила в фонде Жильбера Ромма рекомендательное письмо от женевца Кунклера Жильберу Ромму. <…> Поскольку письмо находится в архиве Жильбера Ромма, то, как справедливо полагает И.С. Шаркова, оно было вручено адресату. Следовательно, свидание Карамзина и Ромма в Париже состоялось. О значении этой встречи речь пойдет ниже. <…> Пока отметим лишь желание Карамзина получить «пропуска» в революционный лагерь. Отметим попутно, что к Канту, Виланду или Гёте он отправлялся безо всяких рекомендаций, хотя, конечно, мог их легко получить в Москве, например, от того же Ленца[741].
Предполагая, что Карамзин не собирался быть в Париже равнодушным наблюдателем и еще в Женеве задумал по приезде во Францию сразу же окунуться в гущу политической жизни, Ю.М. Лотман, таким образом, трактует письмо Кунклера как «пропуск» в революционный лагерь, предусмотрительно запрошенный русским путешественником. Между тем из письма никоим образом не следует, что инициатива по его получению исходила от «московита». Скорее наоборот: это Кунклер жаждет напомнить о себе Ромму и спешит, пока риомец не покинул Париж, переправить туда книгу, способную его заинтересовать. Потому-то женевец и торопится использовать первую подвернувшуюся оказию – отъезд в Париж человека, лично Кунклеру не очень известного, поскольку он даже не берется сам рекомендовать его Ромму, а ссылается на рекомендации родителей и Лафатера. И если Карамзин, уезжая из России, не имел точно таких же писем к Канту, Виланду или Гёте, то, очевидно, лишь потому, что ни Ленц, ни кто-либо другой из их знакомых ничего в тот момент не собирался им посылать и не воспользовался удачной оказией так, как это сделал Кунклер. Заинтересованность же самого Карамзина в рекомендации к Ромму представляется маловероятной. Если уж русский путешественник к знаменитым немецким мыслителям ходил знакомиться без подобных писем, то зачем ему надо было бы обставлять такими формальностями визит к безвестному гувернеру?
Да и что именно Карамзин мог ожидать от такого визита? «Пропуск» в революционный лагерь? Это мы сегодня знаем, что Ромм был видным деятелем Французской революции. Но таковым он стал только два года спустя. А в тот момент его принадлежность к революционному лагерю была далеко не очевидна даже для его женевских знакомых. Да, до Кунклеров доходили слухи о том, что Ромм в компании своего ученика дни напролет просиживает на трибуне Национального собрания и даже сделал какие-то патриотические пожертвования, но подобные факты скорее характеризовали его как сочувствующего революции, нежели как ее активного участника. А чтобы самому посмотреть на работу Собрания с трибуны для зрителей, куда ходили все желающие, Карамзину едва ли нужен был провожатый.
В тексте «Писем» приложено много усилий для того, чтобы представить пребывание в Париже увеселительной прогулкой беспечного вояжёра. Попытаемся, насколько это возможно, и ни на минуту не теряя из виду гипотетического характера наших реконструкций, все же восстановить биографическую реальность пребывания Карамзина в Париже.
Мы уже знаем, что в Женеве Карамзин запасся рекомендательным письмом к Жильберу Ромму. Свидание Карамзина с Роммом и, бесспорно, с Павлом Строгановым, состоялось[742].
Утверждая, что свидание Карамзина с Павлом Строгановым, «бесспорно, состоялось», автор все же на мгновение теряет из виду гипотетический характер своей реконструкции. Если вероятность встречи русского путешественника с Роммом действительно высока (хотя, как я уже отмечал, не абсолютна), то отсюда еще отнюдь не следует, что она столь же высока в отношении его встречи с Попо, ведь рекомендательное письмо Карамзин имел не к нему, а к Ромму. Рассматривать же факт встречи некоего лица с одним человеком как бесспорное доказательство его же встречи с другим человеком, наверное, можно, только если эти двое являются сиамскими близнецами.
Легко можно представить себе, что Карамзин мог услышать от Ромма, Павла Строганова, Воронихина и других членов кружка «Друзей закона» (на заседаниях кружка Карамзин должен был видеть знаменитую «деву Революции» Теруань де Мерикур, которая была «архивариусом» общества и в которую был влюблен Строганов)[743].
К счастью, то, о чем говорили в «Обществе друзей закона», можно не только легко представить, но и легко узнать: его протоколы, как уже отмечалось, были в 1971 г. опубликованы в книге А. Галанте-Гарроне. Содержание выступлений Ромма, происходивших довольно часто, отражено там весьма подробно. П. Строганов в основном молчал. Воронихин же в клубе вообще не состоял. Правда, и присутствие на каком-либо из заседаний иностранного наблюдателя протоколами не зафиксировано. Едва ли он остался бы незамеченным в Обществе, число членов которого не превышало двух десятков.
Но Карамзин мог слушать Робеспьера не только в Национальном собрании. Теперь, когда мы знаем, что в Париже он встречался с Роммом и Строгановым – оба были активными членами Якобинского клуба, не будет слишком рискованным предположить, что Карамзин посетил и этот клуб. Ведь, конечно, не для однократной беседы запасался он рекомендательным письмом к Ромму – он, уже, видимо, бывавший в Париже или, хотя бы со слов своих датских друзей, осведомленный о положении в столице революции. Ему хотелось проникнуть с помощью Ромма в те круги, в которые для него других путей не было. В центре этих кругов, бесспорно, находился Клуб якобинцев[744].
Гипотетически Карамзин вполне мог посетить Якобинский клуб в качестве зрителя и для этого отнюдь не нуждался в сопровождающих. Именно так, в качестве зрителей, его посещали тогда Ромм и П. Строганов. Членами же Клуба, пусть даже не очень активными, ни тот, ни другой, как уже сказано, в тот период не состояли.
Находка рекомендательного письма к Ж. Ромму позволяет ввести в круг парижских земляков и собеседников Карамзина П.А. Строганова и А.Н. Воронихина. Воспитатель Строганова Ромм не только записал своего ученика в Клуб якобинцев, но и водил его и Воронихина на собрания «бешеных». Как часто встречались они в Париже с Карамзиным и какой характер имели их встречи, мы не знаем. Если между ними и не возникло близости, то нет оснований подозревать антагонизм между экстравагантным графом-якобинцем и русским путешественником[745].
К сожалению, историк не пояснил, что он имел в виду, говоря о «собраниях “бешеных”». Возможно, в его текст понятие «бешеных» попало из донесения российского посланника И.М. Симолина о поведении в Париже младшего Строганова (об этой коллизии речь пойдет ниже), где дипломат употребил его с экспрессивно-негативной окраской в качестве обобщающей характеристики левых депутатов Собрания. В качестве же термина, обозначающего определенное политическое течение, оно тогда не использовалось и получило распространение гораздо позже, в эпоху Конвента.
В целом, говоря о произведенной Ю.М. Лотманом реконструкции, нельзя не восхититься тем изяществом, с которым известный историк и литературовед выстроил на основании одного-единственного источника – письма Кунклера Ромму – гипотезу о возможной деятельности Карамзина в революционном Париже. В то же время мы могли убедиться, что на каждой стадии построения своей гипотезы автор хоть чуть-чуть, но «пережимал», втискивая факты в каркас схемы. Однако без этих предосторожностей громоздкое сооружение, имеющее лишь одну-единственную точку опоры, – своего рода перевернутая пирамида – постоянно рискует опрокинуться.
Расширить же за счет иных источников основание гипотезы о сколько-нибудь активном общении в революционном Париже Карамзина с Роммом и Строгановым пока не представляется возможным. Ни в одном из известных на сегодняшний день источников по истории «необычного союза», кроме собственно послания Кунклера, имя Карамзина даже не упоминается: ни в переписке Ромма с его риомскими друзьями, ни в корреспонденции Павла отцу. И это при том, что на страницах писем того и другого встречается множество имен других лиц, с которыми Ромм и юный Строганов как-либо соприкасались.
А потому единственное заключение, которое без натяжки можно сделать из факта существования указанного письма Кунклера, – это с высокой долей вероятности предположить, что в Париже Н.М. Карамзин мог встретиться с Ж. Роммом. Разумеется, если застал его дома…
Высказанную в процитированном выше письме А.С. Строганова от 12 марта 1790 г. более чем прозрачную рекомендацию покинуть Париж Ромм и не подумал принять к действию. С конца мая он был занят организацией крупной политической акции – празднования первой годовщины клятвы в Зале для игры в мяч[746]. Разумеется, ни о каком отъезде для него не могло идти и речи. Вместе с тем были предприняты некоторые шаги, чтобы успокоить старого графа. В корреспонденции ему ни Ромм, ни даже Павел больше ни словом не касались политики, зато оба вновь вспомнили о научных сюжетах, уже давно исчезнувших из их писем. Совместное послание учителя и ученика А.С. Строганову от 21 мая / 1 июня посвящено встрече с де Мейсом[747], обладателем обширной коллекции изображений минералов, а также произведенной накануне в Париже неудачной попытке запуска воздушного шара. А в последних строках Ромм даже мельком упомянул о якобы предстоящей поездке в провинцию: «Срок действия Вашего кредитного письма истек 13 апреля, то есть уже больше месяца тому назад. Я с нетерпением жду, когда Вы пришлете новое. Если Вы имели любезность сделать это сразу же, как только я Вас о том попросил, то я должен вскоре его получить, еще до того, как мы уедем в провинцию»[748].
По-видимому, несколько более определенно он высказывался на эту тему ранее, в письме, до нас не дошедшем. О том, что такое сообщение имело место, можно судить по полученному 9–10 июня ответу А.С. Строганова, о коем в свою очередь нам известно из письма Павла от 13 июня: «Милостивой государь и почтенной отец мой, мы получили около трех или четырех дней тому назад от вас письмо, в котором вы нам изъясняете удовольствие что мы хочем маленькое путешествие предпринять; мы в самом деле думаем в июле месяце иттить в Руан»[749].
Похоже, Павел искренне верил в то, что они с наставником вскоре покинут Париж, как того требовал его отец. Однако во второй части этого послания, написанной Роммом, нет не только подобной уверенности, но и вообще какой-либо определенности на сей счет. Напротив, выдвигается предлог, позволяющий отсрочить расставание со столицей на неопределенно долгое время:
Уже прошло примерно два с половиной месяца, как я попросил Вас обновить кредитное письмо. Срок действия последнего истек 13 апреля ст. ст. Я ничего не могу предпринять, пока не получу от Вас ответа на данный вопрос. В Париже у меня еще были бы некоторые ресурсы, где-либо в другом месте – нет[750].
В действительности Ромм просто был не заинтересован в отъезде. Подготовка к празднованию годовщины клятвы в Зале для игры в мяч, занимавшая все его время, вступила в заключительную стадию. 19 июня Ромм во главе депутации из 20 членов «Общества клятвы в Зале для игры в мяч», созданного в ходе подготовки к празднику, представил в Национальное собрание мемориальную доску, которая должна была увековечить память о происшедшем год назад историческом событии. На другой день в Версале состоялось публичное открытие этой мемориальной доски, сопровождавшееся торжественными речами и массовым шествием по городу. Вечером под председательством Ромма состоялся банкет на 250 персон, включая таких видных деятелей революции, как А. Барнав, братья Шарль и Александр Ламет, А. Дюпор, М. Робеспьер, Ж. Дантон и другие. Очевидно, в праздничных мероприятиях участвовал и П. Строганов, поскольку его подпись в числе других стояла под принятым по итогам торжеств и представленным 3 июля в Национальное собрание обращением «Общества клятвы в Зале для игры в мяч»[751].
Праздник 20 июня имел общенациональный резонанс и принес Ромму как главному организатору определенную известность. Тот ликовал, но уже 16 июля ему пришлось пережить жестокое огорчение. В этот день (о чем есть соответствующая пометка в записной книжке Ромма[752]) пришло письмо А.С. Строганова от 20 июня теперь уже не с советом, а с категоричным требованием покинуть Париж:
Никогда, мой дорогой Ромм, мое доверие к Вам не уменьшалось и не уменьшится; у меня есть слишком много оснований для него, и самая горячая признательность запечатлена в моем сердце. То, что я Вам писал относительно Вашего отъезда из Парижа, обусловлено обстоятельствами, коим я должен подчиниться; те же самые обстоятельства вынуждают меня вновь обратиться к Вам с этой просьбой самым настоятельным образом. Почему бы Вам не отправиться в путешествие, и не пожить в Вене? <…> Ради Бога, мой дорогой друг, взвесьте хорошенько все, что я Вам говорю. Повторяю, у меня есть самые серьезные основания умолять Вас покинуть страну, в которой Вы находитесь. Прощайте, мой добрый друг[753].
На какие обстоятельства намекал старый граф? Входя в ближнее окружение Екатерины II, он, несомненно, видел, как обеспокоена императрица возможностью пагубного влияния революции на умы находившихся во Франции русских подданных. Об этой опасности ее предупреждал российский посланник в Париже граф И.М. Симолин в депеше от 3/14 мая 1790 г.: «Я могу с уверенностью сказать, что пребывание во Франции становится опасным для молодых людей других наций: умы их возбуждаются и проникаются принципами, которые могут причинить им вред при возвращении в отечество»[754].
Предостережение было услышано, и в депеше от 4 июня вице-канцлер И.А. Остерман известил Симолина о повелении государыни всем русским подданным «не медля покинуть эту страну»[755]. Очевидно, таким поворотом событий и объясняется настойчивость, с которой А.С. Строганов рекомендовал Ромму и Попо уехать в Австрию.
Любопытно, что письмо старшего Строганова, хотя и было отправлено чуть позже, нежели упомянутое распоряжение императрицы, попало к адресату значительно раньше. Лишь 16/27 июля Симолин сообщит Остерману: «Я получил письмо, которое ваше сиятельство оказало честь мне написать 4-го прошедшего месяца, чтобы довести до моего сведения высокие намерения ее императорского величества по отношению к ее подданным, живущим во Франции с начала волнений, которые потрясают это королевство»[756].
И все же отец Павла опоздал со своим предупреждением: его сын уже попал под подозрение. В той же депеше Симолин докладывал в Петербург:
Меня уверяли, что в Париже был, а может быть, находится и теперь молодой граф Строганов, которого я никогда не видел и который не познакомился ни с одним из соотечественников. Говорят, что он переменил имя, и наш священник, которого я просил во что бы то ни стало разыскать его, не смог этого сделать. Его воспитатель, должно быть, свел его с самыми крайними бешеными из Национального собрания и Якобинского клуба, которому он, кажется, подарил библиотеку. Г-н Машков сможет дать вашему сиятельству некоторые сведения по этому поводу. Даже если бы мне удалось с ним познакомиться, я поколебался бы делать ему какие-либо внушения о выезде из этой страны, потому что его руководитель, гувернер или друг предал бы это гласности, чего я хочу избежать. Было бы удобнее, если бы его отец прислал ему самое строгое приказание выехать из Франции без малейшей задержки. Есть основания опасаться, что этот молодой человек почерпнул здесь принципы, не совместимые с теми, которых он должен придерживаться во всех других государствах и в своем отечестве и которые, следовательно, могут его сделать только несчастным[757].
Из текста донесения Симолина можно понять, что к тому моменту русское посольство в Париже уже какое-то время пыталось вести наблюдение за молодым Строгановым. Об этом свидетельствуют и полученные из неназванного источника сведения о связях юного графа с революционерами и о соответствующем влиянии на него наставника, и задание священнику установить его местонахождение, и ссылка на А. Машкова, который, как мы уже знаем, имел какое-то отношение к визиту полицейского агента в дом Ромма и Строганова. Причем Машков мог лично поделиться имеющимися у него сведениями с петербургским начальством Симолина, поскольку находился тогда в России.
Машков покинул Париж в конце мая 1790 г., что получило отражение в документах французской службы контроля за иностранцами. Информация о его предстоящем отъезде впервые прошла в сводке за 22 мая: «Господин Машков, секретарь дипломатического представительства России, получил отпуск благодаря своему дяде, князю Барятинскому. Соответственно он планирует отправиться в Петербург на следующей неделе. Он рассчитывает вернуться в начале зимы. Г-н Симолин и г-н барон Гримм подготовили для него много депеш»[758].
Сам же отъезд был зафиксирован в недельной сводке за 29 мая:
Г-н Машков, секретарь дипломатического представительства России, уехал в среду [26 мая]. Он направляется прямо в Петербург и передаст Ее Императорскому Величеству депеши, которыми его снабдили г-н Симолин и г-н барон Гримм. Оттуда он поедет в Москву повидать своего дядю, князя Барятинского, ранее пребывавшего во Франции в качестве полномочного министра. Г-н Машков вернется в Париж к концу осени[759].
Возможно, именно приезд в Петербург Машкова с далеко не самыми благоприятными вестями о поведении Павла Строганова во Франции и привел к возникновению тех самых «неблагоприятных обстоятельств», на которые намекал старый граф, требуя у Ромма скорейшего отъезда из Парижа.
Однако своим письмом А.С. Строганов лишь ненадолго предвосхитил то, чего вскоре официально потребуют российские власти. Хотя он и выразил свою волю в форме просьбы, однако сделал это столь определенно, что лишил Ромма всякой возможности и далее откладывать отъезд под благовидными предлогами. Учитель Павла был в ярости: во-первых, ему предстояло покинуть столицу как раз в тот момент, когда его революционная карьера обрела весьма многообещающие перспективы, во-вторых, безвозвратно рушился план революционного воспитания ученика. Письма Ромма тех дней выдают сильнейшее раздражение. 17 июля он жалуется графине д’Арвиль: «Хотят, чтобы я на нивах рабства заканчивал воспитание юноши, коему я хотел уготовить судьбу свободного человека. Неужели ради того, чтобы вырастить раба, куртизана, льстеца, я пожертвовал двенадцатью самыми лучшими годами своей жизни, общением с друзьями, пристрастиями и даже обязанностями, каковые мне было бы так сладко исполнять, живя рядом с матерью, столь мною любимой и обладающей такими правами на мою заботу, которой я ее лишил, отправившись за границу»[760].
Столь же откровенное недовольство сквозит и в его письме А.С. Строганову от 22 июля. Правда, на сей раз Ромм предпочел умолчать о планах «воспитания свободного человека» и лишь выразил обиду на якобы выраженное ему недоверие:
Впервые за то время, что я имею честь состоять при Вашем сыне, Вы мне дали почувствовать огромную разницу между отцом и воспитателем. Своим письмом от 10 июня ст. ст. Вы сообщили мне свое решение, настолько противоречащее плану, которому я следовал до сих пор и который Вы сами одобрили, что оно не может не повлечь за собой крушения всех надежд. Умения, каковые Ваш сын развивал с некоторым успехом, останутся абсолютно неполными, бесполезными, а то и опасными, не будучи доведены до необходимой зрелости, достичь которой позволят лишь время, наши путешествия по разным странам Европы, внимательное отношение и поддержка. Ваше доверие питало мою уверенность и служило мне утешением. Теперь же Вы меня его лишаете по соображениям, которые называете весомыми, но которые мне не сообщаете[761].
Если отвлечься от велеречивых жалоб на допущенную по отношению к нему несправедливость, то окажется, что в своем весьма пространном послании Ромм так и не назвал никаких реальных причин, побуждавших его настаивать на дальнейшем пребывании во Франции, тем более что на словах он вроде бы и не отрицал необходимость посещения других стран для продолжения учебы воспитанника. По всей видимости, Ромм не хотел покидать Париж лишь потому, что намеревался и далее участвовать в революции. Ни о каких учебных занятиях с Попо давно уже не было и речи. Признаться во всем этом старшему Строганову он, разумеется, не мог, а потому вынужден был отделываться туманными намеками и недомолвками:
Если бы Вы мне сообщили имя человека, побудившего Вас к столь неожиданному решению, я бы ему охотно разъяснил, как это делал Вам и как всегда был готов делать, мотивы нашего пребывания во Франции, мои взгляды, надежды и опасения относительно исполняемых мною функций. Результатом разумной дискуссии могли бы стать меры, более устраивающие всех, а для нас с Вашим сыном – и бльшая определенность. Но предоставленный сам себе, я считал своей обязанностью использовать при осуществлении моего плана сначала те ресурсы, что нам предоставляет Франция, и лишь затем отправиться в Германию, Голландию и Англию за другими знаниями, которые можно успешно усвоить, лишь приблизившись к их источнику; надлежащие условия и время должны были обеспечить изучение ряда запланированных мною предметов, но Ваше письмо заставило меня впервые проникнуться недоверием к себе самому[762].
Вынужденный подчиниться воле старшего Строганова и покинуть Париж, Ромм, однако, не едет с учеником в Вену, а сообщает, что будет в Жимо «дожидаться окончательного решения» старого графа[763].
И вот когда стало ясно, что их скорый отъезд из столицы неминуем, произошло событие, которое многие историки считают кульминацией пребывания Павла Строганова в революционной Франции, а именно вступление «гражданина Очера» в Якобинский клуб. Согласно сохранившемуся в бумагах Ромма сертификату Общества, это произошло 7 августа[764]. А уже 10 августа департамент полиции Парижского муниципалитета выписал путешественникам паспорт для следования в Риом[765]. Спустя еще три дня они отправились в путь[766]. Таким образом, Павел Строганов реально состоял членом Якобинского клуба менее недели и в этом качестве мог посетить от силы лишь одно-два заседания. Какой же тогда был смысл ему вообще записываться в якобинцы? При полном отсутствии какой-либо практической значимости данного шага Ромм, очевидно, придавал ему прежде всего символическое значение. С одной стороны, этот акт становился логическим завершением курса «политического воспитания» юноши, осуществлявшегося наставником в течение предыдущего года, своего рода инициацией, посвящением в «свободные люди». С другой стороны, Ромм тем самым как бы мстил А.С. Строганову за свои рухнувшие планы, демонстративно пренебрегая его просьбой держаться с Павлом подальше от политики.
В пользу такого предположения говорит тот факт, что запись юного Строганова в Якобинский клуб произошла именно после того, как было получено письмо его отца с требованием покинуть Францию. Ранее Ромм с воспитанником не раз посещали заседания якобинцев в качестве зрителей[767], но лишь теперь, накануне отъезда, было принято решение о вступлении Очера в клуб. По мнению А. Галанте-Гароне, сделать это ранее не позволял юный возраст Павла, однако 18 лет тому исполнилось еще в июне, и тем не менее до начала августа вопрос о вступлении в клуб перед ним не стоял. Более того, сам гувернер не стал записываться в якобинцы одновременно с учеником. Сохранившийся в архиве Ромма его собственный диплом клуба датирован… 3 мая 1793 г.[768]
В завершение своего пребывания в столице Ромм и его ученик 9 августа совершили паломничество в Эрменонвиль, где поклонились могиле Руссо, а четыре дня спустя отправились в Овернь. Судя по их письму от 19/30 августа 1790 г., отправленному уже из Жимо, они покидали столицу с разным настроением. Тон Павла спокоен и даже жизнерадостен: «Вышедши из Парижа августа второго дня [по старому стилю. – А.Ч.], мы довольно счастливо сделали наш путь пешком, и прибыли сюда 16го дня <…>. Пришли сюда все здоровы и мало уставшие. Мы намерены здесь остановиться, потому что будет спокойнее, нежели в Риоме, которой только за полторы lieu от сюда»[769].
Напротив, Ромм почти не скрывает раздражения и пишет едва ли не вызывающе, подчеркнуто демонстрируя, что никоим образом не разделяет негативного отношения старого графа к происходящему во Франции: «Верные своему намерению, о котором мы известили Вас в своем последнем письме, мы покинули Париж. Мы прервали все полезные отношения, которые связывали бы нас в столь сложной ситуации с теми событиями, что стали для истории величайшим чудом, а для правителей – величайшим уроком»[770].
Возможно, отказавшись от поездки в Вену и избрав местом своего временного пребывания Жимо, Ромм еще надеялся, что отец его воспитанника переменит решение и позволит им остаться во Франции. Так, 5/16 сентября он пишет старшему Строганову: «Я узнал, что князь Голицын с сыновьями заняли оставленную нами квартиру. Мне сказали, что он собирается незамедлительно ехать в Россию, оставив, однако, сыновей в Париже. Подобное решение со стороны русского делает еще более загадочным то, которое Вы приняли в отношении своего сына»[771].
Впрочем, от старого графа уже мало что зависело. Упоминавшаяся выше депеша Симолина от 16/27 июля с известием о «неподобающем» поведении Павла Строганова достигла Петербурга 24 августа (н. ст.) и вызвала высочайший гнев. Екатерина II приложила к ней следующую резолюцию:
Читая вчерашние реляции Симолина из Парижа, полученные через Вену, о российских подданных за нужное нахожу сказать, чтоб оные непременно читаны были в Совете сего дня и чтоб графу Брюсу поручено было сказать графу Строганову, что учитель его сына Ром сего человека младого, ему порученного, вводит в клуб Жакобенов и Пропаганда [sic], учрежденный для взбунтования везде народов противу власти и властей, и чтоб он, Строганов, сына своего из таковых зловредных рук высвободил, ибо он, граф Брюс, того Рома в Петербург не впустит. Приложите сей лист к реляции Симолина, дабы ведали в Совете мое мнение[772].
О том, что случившемуся с младшим Строгановым императрица придавала весьма серьезное значение, свидетельствует и запись от 26 августа в дневнике ее кабинет-секретаря А.В. Храповицкого: «Повеление к Симолину, чтоб в Париже всем русским объявили приказание о скорейшем возвращении в отечество. Там сын гр. Ал[ександра] Сер[геевича] Строганова с учителем своим вошли в члены клуба Жакобинов de Propaganda Libertate»[773].
Из Франции же и далее продолжали поступать компрометирующие Павла Строганова сообщения. 11 сентября пришла депеша Симолина от 14/25 августа, где посланник, отвечая на запрос из Петербурга о возможном участии русских в манифестации «представителей народов мира» (в действительности это были просто ряженые) перед Национальным собранием, докладывал:
…Я склонен думать, что все русские, живущие в Париже, воздержались от участия в такой сумасбродной затее. Единственно, на кого может пасть подозрение, это на молодого графа Строганова, которым руководит гувернер с чрезвычайно экзальтированной головой. Меня уверяли, что оба они приняты в члены Якобинцкого клуба и проводят там все вечера. Ментор молодого человека, по имени Ромм, заставил его переменить свое имя, и вместо Строганова он называется теперь г. Очер; покинув дом в Сен-Жерменском предместье, в котором они жили, они запретили говорить, куда они переехали, и сообщать имя, которое себе присвоил этот молодой человек. Я усилил свои розыски и узнал через священника нашей посольской церкви, что они отправились две недели тому назад пешком, в матросском платье, в Риом, в Оверни, где они рассчитывают остаться надолго и куда им недавно были отвезены их вещи[774].
Участь Павла Строганова была решена. 21 сентября его отец написал Ромму:
Любезный Ромм, я давно противился той грозе, которая на днях разразилась. Сколько раз, опасаясь ее, я просил Вас уехать из Парижа и еще недавно совсем выехать из пределов Франции. Право, я не мог яснее выразиться. Вас не довольно знают, милый Ромм, и не отдают полной справедливости чистоте Ваших намерений. Признано крайне опасным оставлять за границей и, главное, в стране, обуреваемой безначалием, молодого человека, в сердце которого могут укорениться принципы, несовместимые с уважением к властям его родины. Полагают, что и Вы, по увлечению, не станете его оберегать от этих начал. Говорят, что вы оба состоите членами Якобинского клуба, именуемого клубом Пропаганды или Бешеных. Распространенным слухам и общему негодованию я противопоставлял мое доверие к Вашей честности. Но, как я уже выше говорил, буря, наконец, разыгралась, и я обязан отозвать своего сына, лишив его почтенного наставника в то самое время, когда сын мой больше всего нуждается в его советах. С этой целью я посылаю моего племянника Новосильцова[775].
Николай Николаевич Новосильцов или, как чаще его называют в историографии, Новосильцев был незаконнорожденным сыном сестры графа А.С. Строганова и вырос в его доме. В свои 29 лет он успел и послужить, и повоевать. Находясь с 1783 г. на военной службе, он в 1786 г. был прикомандирован к Коллегии иностранных дел. В 1788–1790 гг. Новосильцев принял участие в войне против Швеции и отличился в сражении под Бьёрке-Зундом. Это был уже взрослый, многое повидавший человек, которому можно было доверить деликатное поручение вернуть из революционной Франции на родину «заблудшего» отпрыска рода Строгановых. То, что за Павлом отправили его двоюродного брата, придавало этой миссии вид частного, семейного дела. Вместе с тем она, очевидно, имела и официальную подоплеку. Помимо того что сам Новосильцев являлся сотрудником Коллегии иностранных дел, до Парижа он, похоже, добирался вместе с уже не раз упоминавшимся А. Машковым. Во всяком случае, согласно данным французской полиции, в столицу Франции оба прибыли одновременно[776]. А учитывая то, что имя Машкова ранее постоянно всплывало, как только речь заходила о сборе сведений относительно «экстравагантного» поведения юного Строганова, думается, этот одновременный приезд был далеко не случайным. Дело, вызвавшее к себе столь живой интерес самой императрицы, просто по определению не могло быть частным.
Пока Ромм не узнал (это произойдет лишь два месяца спустя) о принятом в России решении, он все еще питал надежду переубедить старого графа и остаться с воспитанником во Франции. 4 ноября Ромм писал А.С. Строганову:
Ваше молчание тем более огорчительно для меня, господин Граф, что своим предыдущим письмом Вы повергли нас в полнейшую неопределенность относительно наших дальнейших действий. Я ответил Вам 10 августа, объяснив мотивы, по коим я не принял или, по меньшей мере, принял не целиком то сопряженное с большими неудобствами предложение, которое Вы нам сделали и с которым я лично не мог согласиться, не встревожив моих родных, моих друзей и не повредив образованию и будущему вашего сына[777].
И на сей раз, объясняя свое нежелание покинуть Францию заботой о дальнейшем образовании Попо, Ромм был не вполне искренен. Точнее было бы вести речь о «политическом образовании». Оно активно продолжалось и в Жимо. Учебные же предметы, как и в Париже, оказались практически полностью заброшены. Ценным источником сведений о жизни Ромма и его воспитанника в Оверни осенью 1790 г. для нас вновь служат письма Миет Тайан. Сообщив в конце августа кузине о прибытии в Жимо дяди Жильбера, который «поддерживает народное дело», Миет продолжала:
Г-н Граф разделяет взгляды своего гувернера. Юность любит перемены. Я, как и эти господа, с головой ушла в революцию. Мы читаем вместе все газеты и говорим только о государственных делах. Бабушка [мать Ромма] смеется над нами. Она ничего не понимает в политике и высмеивает все, что мы говорим. Санкюлотская мода дает ей широкий простор для критики. Я согласна с тем, что эта мода не слишком впечатляюща. Она придает простецкий вид всем, и особенно г-ну Ромму. Его невозможно узнать после того, как он отказался от пудры и облачился в куртку и брюки. В этом костюме он весьма напоминает сапожника с угла улицы. Однако его принципы облагораживают его больше, чем хорошая одежда. Тот, кто любит роскошь, любит и привилегии, а привилегии составляют несчастье народов. Равенство – естественное право. В основе общественного устройства лежат различия между людьми, которые не должны существовать. Законы не могут быть более благосклонны к одним за счет других. Мы все – братья и должны жить одной семьей. Дворяне, считающие себя иными существами, нежели крестьяне, никогда не примут подобную систему. У них в голове слишком много предрассудков, чтобы услышать голос разума. Они негодуют на философов, просветивших народ. Сеньоры, столь досаждавшие до революции г-ну Ромму своими знаками внимания, теперь даже не пришли к нему с визитом[778].
Естественно предположить, что эти же принципы Ромм прививал и своему воспитаннику.
Впрочем, наставник Павла не ограничивался беседами на политические темы в семейном кругу, а вел также активную революционную пропаганду среди местных крестьян. В АВПРИ хранятся два доноса на Ромма, поданные русскому посланнику в Париже правым депутатом Национального собрания Гильерми и переправленные Симолиным в Россию вместе с депешами от 24 сентября / 5 октября и 18/29 октября 1790 г. Ссылаясь на своего родственника, земляка Ромма, Гильерми рассказывает о том, что наставник юного Строганова устраивает для жителей Жимо «архипатриотические проповеди», публично порицает священника, возносившего молитвы за короля, убеждает слушателей, что вся власть «принадлежит Национальному собранию, и только оно заслуживает их почтения и признательности»[779]. По словам Гильерми, Ромм учит крестьян: «Все, что им говорилось о религии, является сплошным вздором, что их держали в сетях фанатизма и деспотизма, что они обязаны платить налоги, установленные Национальным собранием»[780]. Свою главную задачу автор доносов видел в том, чтобы предостеречь русское правительство об опасных последствиях того воспитания, которое молодой Строганов получал от своего наставника: «Этот г-н Ром связан с современными философами, мало религиозными и весьма революционными, он воспринял их систему с жаром, приближающимся к безумию; он вдалбливает ее в разум и сердце своего ученика и хочет убедить его в том, что наивысшую славу тот обретет, произведя революцию в России. Это действительно может сделать его знаменитым, но такую систему его родные, возможно, не разделяют, а ее применение на практике, вероятно, никому не придется по душе»[781].
Насколько информация Гильерми была точна? На мой взгляд, в том, что касается общественной деятельности Ромма, ей вполне можно доверять: она подтверждается данными такого надежного источника, как письма М. Тайан. Сложнее обстоит дело со сведениями о содержании политического воспитания Павла его наставником. Вряд ли родственник Гильерми лично присутствовал на их беседах о перспективах установления в России «свободы» по французскому образцу. Однако в тесном провинциальном мирке до него вполне могли доходить отголоски подобных разговоров, тем более если те велись в присутствии третьих лиц. А такие разговоры, похоже, действительно имели место. Об этом косвенно свидетельствует письмо М. Тайан Ромму после отъезда Павла в Россию. Стараясь смягчить учителю горечь разлуки с учеником, Миет рисует перспективу, которая, как ей, очевидно, представлялось из бесед с дядей, была бы для того наиболее утешительна:
Я убеждена, что он [Попо] никогда бы вас не покинул, если бы не приказ императрицы, коему он подчинился, ропща на варваров, вырвавших его из ваших объятий. Этой тирании граф отомстит. Он распространит среди порабощенного народа тот свет, который познал в вашей школе, он принесет с собою в эти дикие края семя той свободы, что должна обойти весь мир. Ожидая, пока ваши мудрые советы принесут свои плоды [курсив мой. – А.Ч.], Попо придется много пострадать, ведь он возвращается к себе в страну с идеями, которые сделают его врагом правящих там тиранов[782].
В какой степени были оправданны подобные надежды? Выше я уже не раз приводил свидетельства того, что Павел Строганов с симпатией относился к идеям Французской революции. Но означает ли сие, что Ромм сумел превратить своего ученика в «деятельного» революционера, в «первого русского якобинца» не по форме, а по убеждению?[783] Для такого вывода у нас оснований нет. И последние месяцы пребывания юного графа во Франции лишний раз подтверждают это. Если Ромм в Оверни с головой погружен в политику в качестве революционного агитатора, а с ноября и как член муниципалитета Жимо, то его подопечный и здесь, как ранее в Париже, лишь наблюдает за революцией, пусть даже с несомненной симпатией к ее принципам, но совершенно пассивно, не проявляя ни малейшего стремления принять в ней сколько-нибудь деятельное участие. Более того, загруженность Ромма общественными делами позволяет Попо больше времени уделять своей личной жизни. Письмо М. Тайан конца сентября 1790 г. показывает, сколь разные интересы определяли поведение учителя и ученика:
Ты знаешь, моя дорогая подруга, заговорили о том, чтобы избрать г-на Ромма депутатом. Такой выбор сделал бы честь патриотам. Народ получил бы в его лице ревностного защитника. В ожидании того момента, когда его голос зазвучит с трибуны, он пользуется им для просвещения сограждан. Каждое воскресенье он собирает вокруг себя множество крестьян, которым читает газеты и объясняет новые законы. Я присутствовала на нескольких таких встречах и была удивлена тишиной, в коей они проходят, и вниманием, с которым его слушают. Священники и дворяне высмеивают эти собрания. Они приписывают г-ну Ромму такие амбиции, каковых у него в действительности нет. Они не верят, что он творит добро ради самого добра.
Г-н Граф, пока его гувернер разглагольствует перед обитателями Жимо, пользуется моментом, чтобы развлекаться с юными селянками. Маблот мне говорила, что он обнимает и целует ее всякий раз, как они остаются наедине. Он не осмеливается на подобную вольность со мной, но смотрит на меня такими глазами, что мне становится страшно. Он очень изменился со времени предыдущего приезда. Теперь это уже не ребенок, с которым можно играть, не опасаясь последствий[784].
Корреспонденция М. Тайан позволяет также по-иному, нежели это было сделано в ряде исторических работ, осветить историю с похоронами швейцарца Клемана, служившего у Строганова. Вот, например, как интерпретировал этот эпизод великий князь Николай Михайлович:
Преданный слуга молодого графа, Клеман, серьезно заболел и умер. Верного спутника многих лет не стало. Ромм не допустил к ложу умирающего священника, и Клеман скончался без утешения религии. Даже похороны были гражданские. Слугу похоронили в саду Роммовского домика <…> Весть об этих похоронах проникла в Париж, а оттуда дошла и до России. Конечно, это овернское «событие» вызвало в Петербурге больше удивления, чем негодования. Подпись русского графа, вместе с его псевдонимом, была обнаружена, а доверие графа А.С. Строганова к гувернеру его сына окончательно поколеблено[785].
М. де Виссак также придал гражданским похоронам Клемана характер антирелигиозной демонстрации[786]. В действительности же, как можно понять из писем М. Тайан, дело обстояло гораздо проще. Уроженец Женевы, Клеман принадлежал к протестантскому вероисповеданию, из-за чего местный кюре и не разрешил похоронить его на католическом кладбище. Ну а поскольку протестантских кладбищ в окрестностях не было, Ромм и Строганов приняли решение устроить погребение в саду, напротив дома матери Ромма[787]. До сих пор в муниципалитете Жимо хранится книга записей за 1790–1791 гг., где зафиксировано официальное разрешение властей на захоронение покойного подобным образом. Акт скреплен подписями мэра, муниципальных должностных лиц, местных нотаблей, а также Ж. Ромма, «Поля Очера», А. Воронихина, Дюбрёля, Ж.-Б. Тайана, всего 20 человек[788]. Тем самым организаторы похорон постарались придать церемонии максимально легальный характер, дабы, насколько это возможно, компенсировать вынужденное отступление от ее традиционного порядка. Иначе говоря, о какой-либо антирелигиозной демонстрации не было и речи. Однако необычный характер похорон все же не мог не привлечь внимание и удостоился заметки в Chronique de Paris: «Г-н Ромм, живущий ныне в Риоме, потерял слугу-протестанта, к коему был весьма привязан. Он поместил его тело в полном облачении на парадном ложе; все двери дома были открыты; в полном же облачении он похоронил его в своем саду, поместив ему под голову Аугсбургскую библию, а в руки вложив Декларацию прав»[789].
Существовала, впрочем, и такая область политики, к которой юный Строганов неизменно сохранял самый живой интерес. Его письма к отцу показывают, что и в Оверни, как прежде в Париже, он жадно ловил вести о международных делах России, и прежде всего о ее войнах с Турцией и Швецией. Так, 5/16 сентября Павел писал: «Я узнал с превеликою радостию, что Россия помирилась с Швециею, и весьма желаю, чтоб она также помирилась с турками»[790]. А вот строки из его послания от 4 ноября:
Я читал здесь в ведомостях, что было в Петербурге великое празднество на случай мира, заключенного со Швециею, и всегда с удовольствием слушаю, что радуются для одно [sic] примирения. Я ето больше люблю, нежели радования, которых иногда делают для одной победы, в которой по большой части побеждающий теряет столько же, сколько и побежденный. Я слышал также, что помирились с турками, что весьма желательно[791].
В начале ноября, после трех месяцев отсутствия вестей из России относительно будущей судьбы юного Строганова, до Риома дошли первые отголоски реакции русских властей на действия Ромма и его ученика. Эти тревожные новости поступили из Страсбурга от Демишеля, который поселился там в 1789 г. после возвращения из Петербурга. 27 октября он сообщил Ромму, что встретил знакомого гувернера, получившего накануне из России письмо от друга, где говорилось следующее:
Один француз, имя которого я забыл и который путешествовал с молодым графом Строгановым, был здесь всеми уважаем, но теперь его весьма порицают за поступок, предпринять каковой он заставил своего ученика, а именно подписать вместе с другими русскими обращение к Национальному собранию, дабы получить место на трибунах в день праздника национальной федерации. Говорят даже, что, если слухи подтвердятся, молодой граф не сможет вернуться в Россию: сей шаг вызвал крайнее недовольство Двора[792].
Сообщение Демишеля о возможности запрета молодому Строганову въезда в Россию побудило того ответить пространным письмом, выдающим крайнее смятение чувств юноши. Указанный документ был полностью опубликован великим князем Николаем Михайловичем[793], что избавляет меня от необходимости вновь приводить его здесь целиком. Отмечу лишь, что послание обильно насыщено риторикой, характерной для революционной эпохи, в чем, несомненно, сказалось влияние той среды, в которой юноша вращался на протяжении предыдущих полутора лет. Тут и гневные тирады против «деспотизма», и прославление «народа, поднявшего знамя свободы». Более или менее конкретный характер носит лишь тот фрагмент письма, где Павел подводит итог своей деятельности в период революции:
Вы сообщаете в своем письме, что меня обвиняют в подписании вместе с несколькими другими русскими обращения к Национальному собранию с запросом о получении места на трибунах во время праздника Федерации 14 июля, и добавляете, что, ежели сие подтвердится, мне запретят вернуться в Россию. Ничего подобного не было: я узнал об этом обращении только тогда, когда его зачитали у решетки Национального собрания. [Зачеркнуто: Правда, у меня была мысль посетить этот комитет иностранцев, но она не получила никакого продолжения.] Если хотят использовать подобный предлог, не имея другого, то недостатка в таковых нет: я – член Якобинского клуба; я дважды участвовал в депутациях у решетки Национального собрания, а именно с [нрзб.][794], которые дали клятву [нрзб.]; почти каждый день я присутствовал на заседаниях Национального собрания, вел там записи, и в остальном мое поведение во время революции достаточно ясно свидетельствует о моем образе мысли. Итак, если кто-то непременно хочет меня обвинить, для этого нет недостатка в фактах. Но я не боюсь ничего, так как мои намерения чисты. Я никоим образом не являюсь мятежником, но люблю справедливость и принимаю ее сторону везде, где только нахожу[795].
Несмотря на крайне нервный, напряженный тон этой своего рода исповеди Попо, поступки, в которых он признается, были на самом деле совершенно безобидны в политическом плане. Депутации «Общества клятвы в Зале для игры в мяч», в которых он, очевидно, принимал участие, не преследовали какой-либо конкретной политической цели, а носили преимущественно мемориальный характер. Членом Якобинского клуба он, как мы знаем, был чисто номинальным и всего в течение нескольких дней. Присутствие же на трибунах Национального собрания при всем желании едва ли возможно отнести к политической деятельности. По сути, «исповедь» Павла Строганова полностью подтверждает то представление о нем как о сочувствующем революции наблюдателе, которое возникает в результате изучения других источников, относящихся к этому периоду его жизни. Для характеристики собственного политического кредо молодого Строганова ключевой, по моему мнению, является следующая фраза, венчающая приведенный выше фрагмент послания Демишелю: «В письме, которое я с частной оказией отправил отцу и где соответственно мог ему открыться, я сообщил, как я восхищаюсь Революцией, но в то же время дал ему знать, что полагаю подобную революцию непригодной для России»[796].
Впрочем, пугающие прогнозы не сбылись: никто не собирался отлучать Павла Строганова от России, напротив, ему предписывалось вернуться на родину. 12 ноября в Страсбург прибыл Новосильцев, о чем Демишель двумя днями позже известил Ромма, как и о предрешенном отъезде Попо в Россию[797]. Получив эту весть, Ромм и его ученик направились в Париж навстречу Новосильцеву. Расставание стало нелегким испытанием и для учителя, и для ученика. Хотя их отношения складывались порой весьма непросто, все же за те почти двенадцать лет, что воспитатель и его подопечный провели бок о бок, они крепко привязались друг к другу. Однако Павел не мог допустить и мысли о том, чтобы, оставшись, нарушить свой сыновний и гражданский долг. В начале декабря, уже на пути в Россию, он написал отцу из Страсбурга: «Я получил ваше письмо, и не без печали в нем читал, что мне надобно разстаться с господином Ромом после двенадцатигодового сожития, но сие повеление сколь ни тягостно для меня, вы не должны сумневаться о моем повиновении и будте уверены, что все пожертвую, когда надобно будет исполнить ваши повеления»[798].
И Ромм, надо отдать ему должное, поддерживал воспитанника в этой решимости. В первых числах декабря Новосильцев и младший Строганов покинули Париж. Пока путешественники добирались до границы, Павел и оставшийся в Париже Ромм еще продолжали обмениваться письмами[799]. Однако их дороги уже разошлись навсегда…
- Отколе Телемак к нам юный вновь явился
- Прекрасен столько же и взором и душей?
- Я зрю уже, что ток слез радостных пролился,
- Из нежных отческих Улиссовых очей!
- Се юный Строганов, полсвета обозревший,
- В дом ныне отческий к восторгу всех пришел;
- Граф юный, трудности путей своих презревший,
- Родителя в дому во здравии обрел.
- А что же Мантор с ним уж более не зрится?
- Как Фенелонова Минерва он исчез,
- Так баснь сия во яве совершится
- И Телемаковых достоин будет слез[800].
Эпилог
Как сложились судьбы наших героев после расставания? И каким образом повлияли на их дальнейший жизненный путь проведенные вместе годы?
В отношении Жильбера Ромма ответить на эти вопросы не составляет большого труда: его последующая недолгая жизнь перед нами как на ладони. Последние ее четыре с половиной года – а именно столько ему еще было отмерено – он как заметный публичный деятель провел на виду. Его слова и дела на завершающем отрезке биографии получили подробное освещение в многочисленных трудах историков, и прежде всего в монографии А. Галанте-Гарроне. Опираясь на собранные ими сведения, можно констатировать, что до конца своих дней Ромм следовал именно той стезей, которую избрал в 1789 г.
Это была стезя революционера, разрушавшего Старый порядок, – тот самый Старый порядок, при котором все начинания Ромма окончились крахом. Мы видели: за пять лет, проведенные в осаде «республики наук», он ни на йоту не приблизился к тому, чтобы стать ее «гражданином» и получить заветное звание ученого, сулящее престиж и достаток. Правда, добивался он его не научными изысканиями, а при помощи протекции сильных мира сего (как выяснилось, недостаточно сильных), но ведь, в конце концов, существовал тогда и такой путь проникновения в «республику наук»; не Ромм его придумал, и не все, кто в нее попадал, были Лапласами. Тем не менее на этом пути Ромм не преуспел. Как не преуспел он и на педагогическом поприще. Вступая на него, он лелеял честолюбивую мечту «сделать человека» из своего ученика, а точнее, превратить его в подобие книжного Эмиля, порожденного фантазией Руссо, но вместо этого несчастному гувернеру пришлось на протяжении нескольких лет вести изматывающую борьбу со своим воспитанником, упорно не желавшим становиться воплощением идеала. Возможно, Ромм мог бы снискать себе известность публикацией путевых заметок, как это сделал когда-то Ж. Шапп д’Отрош, ведь маршруты путешествий риомца были гораздо сложнее и разнообразнее, чем у пресловутого аббата. Но для успеха здесь требовалось легкое перо, которым Ромм с его странной ненавистью к изящной словесности никоим образом не обладал. Он был вынужден прервать находившуюся на взлете свою масонскую карьеру, а миссия тайного агента – одна из наиболее неясных страниц его биографии – похоже, не получила продолжения. Иначе говоря, ни по одному из опробованных им направлений деятельности приемлемых перспектив не просматривалось.
Все изменила революция. Она разрушила прежнюю систему ценностей, в рамках которой Ромм неизменно оказывался в неудачниках. В системе революционных координат те таланты, что ранее позволяли их обладателям продвигаться в традиционных сферах общественной жизни – государственном управлении, коммерции, науке, искусстве, – утратили былое значение, а наивысшим достоянием стали воля к борьбе, непримиримость к врагам революции, готовность зайти как можно дальше в разрушении старого уклада жизни и в стремлении к умозрительному идеалу. Ко всему этому Ромм был готов. Он с юных лет воспитывался в янсенистском духе, которому были присущи ярко выраженное дуалистическое восприятие мира как арены борьбы добра и зла, моральный ригоризм и враждебность к инакомыслию. Неудивительно, что он органично воспринял дихотомическое мировидение революционного сознания, делившего нацию, да и все человечество, на два противоположных полюса: лагерь революции («свободы», «народа») и лагерь контрреволюции («деспотизма», «аристократии»). Хотя во взрослые годы у Ромма сформировалось сначала достаточно скептическое, а во время революции и воинствующе негативное отношение к католической религии, он до конца своих дней сохранял впитанный едва ли не с молоком матери моральный ригоризм янсенистского закала. Его не страшила борьба, и он не испытывал жалости к тому обществу, которое предстояло разрушить, ведь там его уделом была лишь череда рухнувших надежд. К участию в революции Жильбер Ромм был подготовлен всей своей предыдущей жизнью. Книгу о нем А. Галанте-Гарроне открыл словами Лазара Карно: «Революционерами не рождаются, революционерами становятся»[801]. С этим трудно не согласиться, хотелось бы лишь добавить: «становятся до революции».
Расставание с учеником, с которым они вместе провели около двенадцати лет и к которому учитель, несмотря на все сложности в их взаимоотношениях, был по-своему привязан, глубоко опечалило Ромма, однако он недолго предавался унынию и, по определению Миет Тайан, «душой и телом отдался общественному делу»[802]. Еще до того как навсегда расстаться со своим подопечным, 14 ноября 1790 г., Ромм был избран в муниципалитет коммуны Жимо. Отъезд же Попо избавил его от заботы о воспитаннике и полностью развязал руки для занятия политикой. Бывший гувернер принимал энергичное участие в работе местной администрации, занимался благотворительностью, на протяжении многих месяцев вел революционную пропаганду среди крестьян. Из политически сознательных селян он сформировал «Братское общество» Жимо, от имени которого выступал на страницах газеты Feuille Villageoise с пропагандой революционных идей[803]. Его активность не осталась незамеченной, и в сентябре 1791 г. земляки избрали его депутатом Законодательного собрания.
В Собрании Ромм примкнул к левому крылу и, судя по письмам на родину, охотно поддерживал действия, направленные на расшатывание существующего строя. Правда, не будучи уверен в своих ораторских способностях, сам он избегал без крайней необходимости выступать на общих заседаниях. Один из таких исключительных случаев имел место 19 мая 1792 г., когда Ромм поднялся на парламентскую трибуну, чтобы заявить решительный протест против ареста мировым судьей трех левых депутатов. Главным же центром приложения его усилий был парламентский Комитет общественного образования, где Ромм оказался наиболее активным помощником Кондорсе в разработке плана национального образования. Немало времени он – по-прежнему как зритель – проводил и в Якобинском клубе.
Избранный в сентябре 1792 г. в Конвент, Ромм занял место среди деятелей Горы (группировки «левых» депутатов, сидевших на верхних скамьях зала), то есть стал монтаньяром. Первое время, правда, он не конфликтовал и с противостоявшей Горе группировкой жирондистов, тщетно пытаясь примирить их с монтаньярами. Однако после процесса над королем, где Ромм решительно высказался за казнь, он занял враждебную позицию по отношению к жирондистам.
В Комитете общественного образования Ромм продолжал работать над планом Кондорсе (сам Кондорсе ушел в конституционный комитет) и в декабре 1792 г. выступил в Конвенте с большим докладом о принципах будущей системы национального образования. Впрочем, еще до того как разработка этой новой системы была завершена, он активно способствовал разрушению старой и выступил инициатором закрытия целого ряда учебных заведений, объявленных им «рассадниками аристократизма».
В апреле 1793 г. Ромм входил в Комиссию шести, занимавшуюся подготовкой Декларации прав для новой Конституции, и сделал на эту тему большой доклад, который, однако, был весьма критично принят основной массой депутатов. Расстроенный неудачей, Ромм вышел из Комиссии.
В мае 1793 г. его вместе с рядом других депутатов отправили в миссию к армии Шербургского побережья. Накануне отъезда, 3 мая, Ромм официально оформил свое членство в Якобинском клубе, 6-го получил паспорт для поездки, а 9-го отбыл в Нормандию. Месяц прошел в работе по организации обороны северного побережья и формированию революционных обществ в местных коммунах.
В начале июня до Нормандии докатилась весть о восстаниях в Париже 31 мая и 2 июня, в результате которых Конвент под давлением вооруженной толпы пошел на изгнание депутатов-жирондистов. В департаменте Кальвадос, как и в ряде других мест, поднялось движение протеста против нарушения парижанами неприкосновенности национального представительства. В Канне формировались отряды добровольцев для похода на столицу. 9 июня повстанцы захватили находившихся в миссии членов Конвента Ромма и Приёра (из Кот-д’Ор), объявив их заложниками безопасности арестованных в Париже депутатов. Из Канна, куда их переправили под стражей, Ромм и Приёр обратились к Конвенту с просьбой… узаконить свой статус заложников и заявили, что восставшие руководствуются патриотическими мотивами. Тем самым оба пытались предотвратить репрессии и против арестованных в Париже депутатов, и против нормандских республиканцев, поднявших оружие в их защиту. Когда в Конвенте получили это письмо, было высказано предположение, что Ромм написал его под принуждением. И тогда Ж. Кутон произнес легендарную фразу, охотно повторявшуюся потом всеми биографами риомца. Повторим ее и мы: «Ромм останется свободным даже под жерлами всех орудий Европы». Впрочем, никто в Ромма не целился, оба заложника содержались в хороших условиях и, после того как восстание было подавлено центральными властями, 29 июля невредимыми вышли на свободу.
Вернувшись в Конвент, Ромм возобновил работу в Комитете общественного образования. Он развил и дополнил план Кондорсе по созданию системы национального образования, однако когда Ромм представил свой проект Конвенту, большинство депутатов его предложения отвергло, сочтя их недостаточно демократичными.
Более плодотворными оказались усилия по разработке нового, революционного календаря, в которой Ромму принадлежала ведущая роль. 5 октября 1793 г. этот календарь был узаконен Конвентом. Правда, ложкой дегтя для Ромма стало то, что ему не удалось добиться утверждения своего варианта наименования отдельных дней: проявившийся в этих наименованиях ярко выраженный морализаторский настрой риомца не встретил понимания у коллег. Обсуждение приобрело довольно курьезный характер. Вот как описывает данный эпизод А. Галанте-Гарроне:
Ромм настаивал тоном моралиста, как всегда, несколько нудным и педантичным: «Нужно, чтобы каждый день напоминал гражданам о революции, сделавшей их свободными, и чтобы их гражданские чувства оживали при виде этого красноречивого перечня [дней календаря]». Конвент, по-видимому, уставший от дискуссии, свернул ее, согласившись с принципом моральных наименований. Но когда Ромм тут же стал зачитывать предлагаемый вариант, начав: «Первый день – день супругов», – Альбит прервал его под хохот и аплодисменты всего Собрания: «Так ведь каждый день – это день супругов». Этой реплики оказалось достаточно, чтобы похоронить проект моральных наименований[804].
Ромма подняли на смех, и только что принятый декрет был отменен. А через 15 дней Конвент проголосовал за предложенные П.Ф.Н. Фабром д’Эглантином наименования, связанные с природными явлениями и сельскохозяйственными работами.
Следующим важным этапом революционной деятельности Ромма стала его миссия на юго-запад Франции, куда он отправился 23 февраля 1794 г., или, по изобретенному им же календарю, 5 вантоза II года Республики. В течение шести месяцев, проведенных в Дордони и прилегающих к ней департаментах, Ромм занимался организацией производства на военных мануфактурах, в чем ему, очевидно, помог опыт посещений аналогичных предприятий России и Франции в его бытность гувернером.
Политическое содержание миссии Ромма составляли массовые «чистки» революционных обществ, откуда по его требованию решительно изгонялись, невзирая на личные достоинства, люди, ранее принадлежавшие к дворянству или духовенству. Повсюду, где появлялся этот представитель Конвента, он вел активную антирелигиозную пропаганду, провоцируя на местах все новые всплески движения дехристианизации, уже давно сошедшего на нет в центре страны.
В своей глухой провинции Ромм не был затронут сотрясавшими Париж политическими кризисами, которые привели поочередно к гибели эбертистов, дантонистов и робеспьеристов. Когда 4 вандемьера III года (25 сентября 1794 г.) он вернулся в Париж, то обнаружил себя уже в другой стране. За два месяца, прошедшие после свержения Робеспьера, процесс «выхода из Террора»[805] все быстрее набирал ход, и Ромму предстояло теперь найти свое место в новой ситуации. Его отношение лично к Робеспьеру еще до Термидора трудно назвать симпатией, скорее это была даже антипатия. Однако Ромм разделял принципы созданного Робеспьером революционного правления, а потому, вернувшись из миссии, занял место в поредевших рядах сторонников этого уходящего в прошлое режима, демонтаж которого день ото дня шел все активнее. Ромм не только вошел в группу последних монтаньяров, называвшуюся «Вершиной», но и стал одним из лидеров этой некогда доминировавшей в Конвенте «партии», которая теперь отступала с боями, сдавая одну позицию за другой. В этих «арьергардных боях» Ромму отныне принадлежала одна из ведущих ролей.
Именно тогда он прервал, наконец, свое многолетнее молчание в Якобинском клубе и в последние недели его существования перешел из категории вечных зрителей в категорию ораторов. Но дни Клуба были уже сочтены, хотя Ромм своим выступлением в Конвенте 25 вандемьера (16 октября 1794 г.) и попытался предотвратить его закрытие.
Столь же безнадежной была фактически взятая на себя Роммом миссия защитника Ж.Б. Каррье, бывшего «проконсула» в Нанте, организатора массовых убийств в период Террора. Выступив 21 брюмера (11 ноября) с докладом по итогам работы депутатской комиссии, занимавшейся расследованием деятельности Каррье, Ромм попытался найти для обвиняемого смягчающие обстоятельства и в чем-то даже оправдать его[806]. Спасти Каррье от трибунала и гильотины Ромму все же не удалось, но его позиция вызвала непонимание даже у риомских друзей и привела к разрыву отношений с графиней д’Арвиль, которая ранее вполне разделяла приверженность своего друга к идеалам Революции и Республики[807].
18 вантоза III года Республики (8 марта 1795 г.) Ромм совершил еще один странный поступок, вызвавший недоумение у его близких, – он женился. Удивлял не столько сам факт вступления в брак сорокапятилетнего холостяка, сколько то, как он это сделал. Ромм обратился к своей секции (первичной ячейке самоуправления в революционном Париже) с просьбой рекомендовать ему какую-либо вдову солдата, павшего за родину. Секция указала на двадцатипятилетнюю Мари-Мадлен Шолен, чей муж погиб при подавлении вандейского восстания, и Ромм вступил с ней в брак. Матери он объяснил: «Мой выбор определили не богатство, высокое происхождение или любовь»[808]. Похоже, последний мотив казался ему столь же предосудительным, как и два первых.
Ромм обещал представить родне молодую жену после завершения работы Конвента, но до того времени дожить ему было не суждено. 1 прериаля III года Республики (20 мая 1795 г.) в Париже вспыхнуло восстание жителей беднейших кварталов. Вооруженная толпа вторглась в Конвент, требуя хлеба и введения в действие Конституции 1793 года. Попавшему под горячую руку повстанцев депутату Феро отрезали голову и, водрузив на пику, поднесли ее председателю Собрания. На несколько часов работа национального представительства была парализована. К вечеру, когда уставшим депутатам, находившимся внутри Конвента, стало казаться, что восстание окончательно победило, последние монтаньяры – члены Вершины – начали один за другим подниматься на трибуну с требованием принять декреты, по сути означавшие возврат к революционному правлению. Первым на трибуну взошел Ромм, чтобы призвать к освобождению из тюрем всех деятелей Террора, арестованных после свержения Робеспьера. Он предложил также объявить непрерывными заседания секций (дабы иметь возможность в случае необходимости вновь мобилизовать массы) и принять чрезвычайные меры по снабжению города продовольствием[809]. Под давлением толпы депутаты приняли внесенные им декреты, так же как и все то, что предлагалось другими членами Вершины. Но когда к ночи войска и национальная гвардия очистили зал от повстанцев, депутатское большинство отменило навязанные ему декреты и постановило арестовать их инициаторов. Те были взяты под стражу и отправлены в крепость Торо (Бретань).
20 прериаля арестованных вернули в Париж, и четыре дня спустя они предстали перед судом. 29 прериаля (17 июня 1795 г.) бывшие депутаты Ж. Ромм, Э.Д. Дюкенуа, И.М. Гужон, П.А. Субрани, Ж.М. Дюруа и П. Бурботт были приговорены к смерти за «подстрекательство». Узнав о приговоре, все шестеро «мучеников прериаля», как назовут их позднее, попытались покончить с собой при помощи двух заранее припрятанных ножей. Поочередно каждый наносил себе удар клинком, вынутым из тела уже павшего товарища. Ромм, Дюкенуа и Гужон умерли на месте, а еще дышавших Субрани, Дюруа и Бурботта все же казнили на гильотине.
Эта трагическая смерть, вызывавшая в памяти образы легендарных античных героев, подняла «мучеников прериаля» в глазах современников и потомков до уровня крупнейших фигур революционной эпохи. Если в период господства Горы ни один из шести не принадлежал к ее лидерам, а был, можно сказать, рядовым солдатом революции, скромно и старательно выполнявшим порученное ему дело, то в тот момент, когда от осыпавшейся Горы оставалась одна лишь Вершина, их гибель означала конец некогда всемогущей «партии» и завершение целой главы революционной истории.
Отблеск этой трагической кончины ретроспективно пал на всю предшествующую жизнь «последних монтаньяров». Каждый ее эпизод отныне казался исполнен скрытого смысла, так или иначе связанного с ярким финалом. А поскольку жизнь Ромма была как никакая другая богата событиями, в которых можно было искать этот скрытый смысл, именно его фигура из всех «мучеников прериаля» на протяжении последующих двух столетий привлекала к себе наибольшее внимание. В свете последующей героической гибели каждому этапу его земного пути придавалось и придается особое значение: и любви к наукам, и воспитанию им наследника богатейшего аристократического рода, и экзотической поездке в далекую, загадочную Россию. Авторы, пишущие о Ромме, до сих пор, за редким исключением, исходят из имплицитного убеждения, что человек, сумевший столь ярко окончить свою жизнь, должен был и прожить ее не менее ярко, а потому «по умолчанию» предполагают у него наличие неких скрытых талантов и пока еще не оцененных достижений в тех сферах деятельности, к которым он прилагал свои усилия: математике, педагогике, естественных науках.
Однако, восстанавливая по документам ход его жизни, трудно избавиться от мысли, что все же наиболее ярким эпизодом его биографии была именно героическая смерть. Более того, она стала логичным финалом его революционной карьеры. Ромм бросился в революцию очертя голову и пожертвовал ради нее тем благосостоянием, которое обеспечивало ему место гувернера. Однако революция дала ему нечто гораздо более важное, чем достаток. В борьбе, в разрушении старого общества он нашел свое истинное призвание, обнаружив, что именно к этому виду деятельности лучше всего подготовлен всей своей предшествующей жизнью. Это был реванш за несбывшиеся надежды и неудачи прошлых лет. В революционной стихии Ромм чувствовал себя как рыба в воде и, похоже, был по-настоящему счастлив в эти последние шесть лет своего земного пути. Но период разрушения рано или поздно должен был закончиться, наступала пора собирать камни. После Термидора революция вступила в созидательную стадию[810]. Мог ли Ромм обрести себя в новой ситуации? Гадать – дело неблагодарное, но если вспомнить все его не слишком удачные попытки еще до революции преуспеть в разных сферах деятельности, а затем уже во время революции внести какой-либо позитивный вклад в ее законодательство, то на подобный вопрос трудно ответить положительно.
Время разрушения подошло к концу, с ним истекло и время Ромма.
А как годы «необычного союза» повлияли на Павла Строганова?
Ответить на этот вопрос в отношении ученика значительно сложнее, нежели в отношении учителя. Ромм к моменту вступления в должность гувернера был уже взрослым, сложившимся человеком, а потому опыт последующих лет мог его, безусловно, обогатить, но едва ли в корне изменить. Павел же собственно и сформировался как личность именно в те двенадцать лет, что провел со своим наставником. А потому вопрос о влиянии «в целом», без конкретизации, едва ли вообще имеет смысл: по большому счету, вся последующая жизнь Павла Александровича так или иначе проходила под знаком полученного им в детстве воспитания. Поэтому точнее было бы сузить вопрос и ограничиться рассмотрением влияния опыта «необычного союза» на Павла Строганова как политического деятеля, благо, что в этом качестве он сыграл далеко не последнюю роль в российской истории.
Но и при такой, более узкой, постановке вопроса говорить об ученике труднее, чем об учителе. Политическая деятельность Ромма как депутата Законодательного собрания и Конвента носила преимущественно публичный характер. Чтобы добиться принятия решений, которые казались ему оптимальными, он должен был убедить коллег в правильности своего видения ситуации и соответственно ознакомить со своими взглядами. Ну а поскольку такие выступления имели место на открытых заседаниях, протоколировались и публиковались, сегодня мы обладаем достаточно обширным материалом для того, чтобы судить о политических воззрениях Ромма периода революции.
Политическая жизнь России, напротив, публичного характера не носила, решения принимались при закрытых дверях, а сопровождавшие этот процесс дебаты, ежели таковые вообще имели место, не всегда находили отражение в письменных источниках. Пиком же политической карьеры Павла Строганова и вовсе было участие в Негласном комитете, неофициальном совещательном органе при императоре, где Александр I под покровом тайны обсуждал будущие реформы со своими «молодыми друзьями». Деятельность Негласного комитета была настолько закрытой, что специалисты по русской истории не пришли к единому мнению даже о том, когда он закончил свое существование – в 1803 или 1805 г.[811]
Не можем мы, как сделали ранее в отношении Ромма, и опереться на работы предшественников, ибо до сих пор практически единственным специальным исследованием биографии Павла Строганова остается уже не раз упоминавшаяся книга великого князя Николая Михайловича. Она же, как мы могли убедиться, представляет ценность прежде всего благодаря опубликованным в приложении документам, тогда как сведения, изложенные самим ее автором, нуждаются в постоянной перепроверке.
Тем не менее ситуация не безнадежна. Хотя Строганову и не приходилось публично добиваться принятия тех или иных государственных решений, у него, однако же, тоже имелась своя аудитория, обращаясь к которой он стремился направить политическое развитие России по наиболее оптимальному, на его взгляд, пути. Эту «аудиторию» составлял один-единственный человек – наследник престола, а затем император Александр Павлович. Подружившись с ним еще в середине 1790-х гг., Строганов до самого восхождения Александра на трон и даже некоторое время спустя старался привить ему свои политические воззрения, которые соответственно излагал в предназначенных для него записках и мемуарах. О политических взглядах Строганова того периода мы можем также узнать из его автобиографии «История моей жизни», недавно изданной петербургским историком М.М. Сафоновым. Это сочинение об истоках реформ начала царствования Александра I Строганов стал писать в 1803 г., с тем чтобы оно было опубликовано уже после смерти всех участников событий, но так и не завершил.
Опираясь на указанные тексты, мы и попробуем разобраться в том, как на политические взгляды Павла Строганова повлиял опыт «необычного союза».
По возвращении из Парижа Строганов поселился в своем родовом имении под Москвой. Если власти за ним и приглядывали (что предположить, в общем-то, логично, принимая во внимание ту репутацию, которую создали ему его французские приключения), то контроль этот был настолько относителен, что не препятствовал даже переписке Павла с французами. Однако с Роммом бывший ученик связей не поддерживал. Именно на это попенял ему Ж. Демишель в письме от 17 марта 1792 г.: «Разве поставили бы Вам в вину, если бы Вы осмелились сообщить человеку, который принес ради Вас величайшие жертвы и чьи принципы, чье бескорыстие Вам хорошо известны, что Вы ему признательны, по-прежнему его любите и никогда не забудете»[812].
Но молодой граф, очевидно, не внял его просьбам. Во всяком случае, в личных архивах ни Ромма, ни Строганова нет никаких следов их дальнейших контактов. Что было тому причиной? Опасался ли Павел навлечь на себя, а может, и на отца, высочайшее неодобрение? Или, вырвавшись из среды экзальтированных приверженцев революции, он со временем избавился от чрезмерного энтузиазма, обусловленного их влиянием, и по-новому взглянул на пережитое во Франции и, в частности, на свои непростые отношения с наставником? Возможно и то, и другое.
Зато в самой Франции легенда о «графе-якобинце» продолжала жить. Менее чем через год после того, как Ромм покончил с собой в числе других «мучеников прериаля», по Парижу поползли слухи, что он все же остался жив и скрывается в России у бывшего ученика[813]. Желая проверить достоверность этих слухов, графиня д’Арвиль обратилась к Павлу с письмом: «Успокойте мать вашего несчастного друга, сообщив ей, что он жив, если сие, конечно, действительно так»[814]. Но слухи так и остались слухами. Жизнь Строганова не была потревожена появлением его учителя. Юный граф вел в своих владениях тихую размеренную жизнь. Вскоре он женился на княжне Софье Владимировне Голицыной. В 1795 г. у них родился сын Александр[815].
В автобиографии П.А. Строганова нет точного указания на то, когда он впервые встретился с великим князем Александром Павловичем. М.М. Сафонов датирует это событие началом 1795 г.[816] В тот момент будущий император, которому шел всего лишь восемнадцатый год, переживал нелегкий период. В декабре 1794 г. его учителю, швейцарцу Ф.С. Лагарпу, было предписано покинуть Россию (что тот и сделает в мае 1795 г.). За проведенные вместе 11 лет Лагарп оказал большое влияние на мировоззрение юноши, воспитав его в духе уважения к республиканским ценностям и к идеалам Французской революции[817]. Лишившись старшего друга и наставника, Александр настойчиво искал единомышленников, с которыми он мог бы столь же откровенно делиться своими тайными мыслями и политическими симпатиями. Одним из тех, кому Александр счел возможным довериться, был молодой Строганов. Восемь лет спустя Павел Александрович так описал их первый разговор:
Эта репутация [ «якобинца»] шла впереди меня, из-за чего после возвращения [из Франции] на меня смотрели почти как на диковинного зверя. Идеи ли, вызревавшие в голове у великого князя, или тот интерес, который вызывает к себе все необычное, своего рода тяга к новизне, или некое душевное влечение, а может, понемногу и все это вместе взятое привлекло ко мне внимание великого князя, и тут же на проходившем у него балу он мне открылся. Он был совсем юным и лишь недавно вступил в брак с нынешней императрицей. Его взгляды были довольно незрелыми и отличались тем несовершенством, каким обладают политические убеждения молодого восемнадцатилетнего человека, который их еще совсем не переварил. Он мне чистосердечно признался, что является восторженным поклонником Французской революции и тех усилий, которые предпринимает народ для завоевания свободы, что он якобинец и в этом не одинок, а имеет друзей, разделяющих его взгляды. Это были люди низкого положения: один из них, о ком он мне сообщил, оказался его английским камердинером, молодым человеком, с кем они вместе росли. Он [великий князь] мне сказал, что надо придумать, как отличать своих, и носить для этого особый тайный знак. Мы говорили обо всякой ерунде, да в подобном случае ни о чем другом говорить и невозможно. Но, вернувшись домой, я нашел Новосильцева и все ему рассказал. Мы не могли не задуматься о будущем, о пользе, которую отсюда можно извлечь, и в то же время об опасностях, каковые неизбежно последуют, если оставить всё без сдерживающего и направляющего влияния. Так мы договорились не выпускать всего этого из виду и постараться извлечь пользу[818].
Как видим, двадцатидвухлетний Строганов, сам человек еще очень молодой, оказался весьма далек от революционного энтузиазма юного Александра и воспринял его откровения крайне настороженно. А ведь прошло лишь немногим более четырех лет с тех пор, как Павел покинул революционную Францию и расстался с Роммом. Размышляя об истоках столь опасного, на его взгляд, увлечения великого князя, Строганов проводит аналогию со своей ситуацией и в обоих случаях подчеркивает влияние на незрелых юношей их революционно настроенных наставников:
Французская революция и те первые идеи свободы, что начали тогда распространяться по Европе, вскружили, как известно, голову не одному человеку, оказавшемуся из-за этого во власти всевозможных заблуждений. Среди них был и Лагарп, наставник великого князя Александра, ныне императора. Мой также был из их числа. Известно, к какому печальному концу привела его эта экзальтация – концу, которого никто из поверхностно знавших его людей не мог предполагать из-за той солидности суждений, каковую он часто выказывал. Лагарп своими уроками без всякого злого умысла посеял семена, которые под более или менее прямым воздействием различных факторов привели в дальнейшем к событиям, свидетелями коих мы являемся[819].
Справедливости ради заметим, что Строганов преувеличил революционизирующее влияние Лагарпа на своего ученика. Если тот и привил Александру интерес к Французской революции, то в отношении российской политики всегда призывал его к осторожности. Разумеется, Строганов не мог знать о таких нюансах их взаимоотношений и просто спроецировал события своей жизни на ситуацию великого князя. Развивая эту аналогию, Строганов рассказывает о собственном опыте революционного воспитания:
Во время пребывания во Франции я был свидетелем первых шагов революции. Юноша легко может поддаться экзальтации, особенно если является воспитанником восторженного человека. Таков был и мой случай. Мы не оставались бесстрастными зрителями того, что ежедневно происходило перед нашими глазами на трибунах Национального собрания. Когда я находился в Риоме, в Оверни, секретарство в патриотическом обществе, просвещение народа по воскресеньям в деревне поблизости от этого города, необычные похороны моего лакея, скончавшегося после праздника в ознаменование клятвы в Зале для игры в мяч, и т. д., и т. п. не остались незамеченными нашим посланником, которого я не видел. Он отправил об этом донесение двору. Оно дошло, и всё, как обычно, преувеличили. Меня сочли самым отъявленным якобинцем, какой только может быть, и обязали отца отправить за мною посыльного. Эту обязанность возложили на Новосильцева. Меня считали настолько охваченным заразой, что открыто заключали пари на то, что я не вернусь и его миссия окажется напрасной. Однако я вернулся, как правильно предполагалось, и с того времени мы с Новосильцевым тесно связаны[820].
Хотя приведенный фрагмент никаких новых для нас фактов и не содержит, он интересен самим тоном повествования. Павел рассказывает о своем опыте соприкосновения с революцией как о некой детской болезни, которой он когда-то переболел и от которой давно излечился. Причем такой взгляд был присущ ему не только в 1803 г., когда писались эти строки, но и в 1795 г., когда он познакомился с Александром Павловичем. Уже в момент своей первой встречи с будущим императором молодой Строганов воспринял его как человека, находящегося во власти той же «болезни», которая когда-то задела и его самого. Однако теперь сам Павел смотрел на подобное увлечение революционными идеями уже со стороны, критическим взглядом «врача», почему и решил на «консилиуме» с Новосильцевым обсудить способы «ухода» за «больным», позволяющие избежать осложнений.
Далее в автобиографии П.А. Строганова идет речь о возникновении кружка «молодых друзей» будущего наследника, куда кроме самого Павла и Новосильцева вошли также польский князь А. Чарторыйский и В.П. Кочубей, племянник графа А.А. Безбородко. Это сообщество единомышленников имело общую цель – «привести народ деспотического государства, в коем мы живем, к такому, где он наслаждался бы свободным строем»[821].
Любопытно, что из всех членов кружка наиболее радикальные взгляды имел не бывший «якобинец Очер», а великий князь Александр. О воззрениях будущего императора Строганов с откровенным неодобрением писал: «Идеи великого князя всегда тяготели к самым что ни на есть крайностям демократии, он желал сразу установить республику без какого бы то ни было потомственного дворянства. Необходимо было подвергнуть все это критике, показать ему, какие стадии надо пройти и какого образа действий придерживаться»[822].
Когда Александр Павлович после смерти Екатерины II обрел статус официального наследника престола, «молодые друзья» предприняли попытку «исцелить» его от революционных иллюзий, для чего Новосильцев во время коронационных торжеств в Москве представил Александру мемуар с изложением общих взглядов членов их кружка на будущее России. Сам документ не сохранился, но его целью, по словам Строганова, было «дать почувствовать [будущему] императору необходимость двигаться медленно, двигаться постепенно и не допускать потрясений»[823].
Поскольку этот шаг желаемого эффекта не принес, «консилиум» «молодых друзей» – а в описании Строганова они действительно напоминают врачей, дежурящих у постели больного, – придумал новое, «еще более эффективное» средство «повлиять на его [Александра] рассудок, дабы, так сказать, вложить ему в голову правильные идеи и обратить к пользе его благие намерения»[824]. Решено было обратиться за помощью к Лагарпу, чтобы тот своим авторитетом повлиял на бывшего ученика и внушил ему благоразумную умеренность. Письмо Лагарпу в ноябре 1797 г. повез Н.Н. Новосильцев.
Однако в 1798 г. Павел I подверг гонениям оппозиционно настроенных представителей придворных и армейских кругов. Под подозрением оказались и «молодые друзья» наследника, из-за чего Новосильцев предпочел задержаться в Англии. Весной же 1799 г. их кружок и вовсе прекратил свое существование, поскольку Чарторыйский и Кочубей тоже уехали за границу. Рядом с великим князем остался только Павел Строганов.
Именно он и сообщил Новосильцеву о том, что 12 марта 1801 г. Александр I взошел на престол. Один за другим «молодые друзья» потянулись в Россию. 18 апреля в Петербург прибыл Кочубей. 22-го они со Строгановым обсудили план дальнейших действий. Разделяя идею о необходимости проведения реформ сильным самодержцем, они сошлись во мнении, что главной задачей на текущий момент является укрепление власти императора[825].






