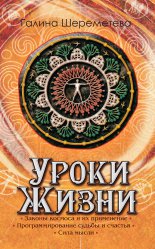Пангея Голованивская Мария

«Вжик! Вжик!» – они то и дело сновали около его головы, иногда проходя насквозь.
Прогуливаясь взглядом по своей гигантской бумажной библиотеке – Кир по старой привычке не очень-то доверял электрическим словам и считал дело сделанным, только когда его мысли обретали бумажную плоть, – он не раз слышал их визгливое пение, поначалу успешно убеждая себя в том, что это вьются над ним не бесы, а вечно охочее до крови, вечно голодное комарье.
Он складно жил с женой, на которой спешно женился по совету Вассы, вернувшись из Афганистана.
– Тебе нужен дистресс, женись вот на Кире, может, с глазами и выскочишь, – как-то однажды рассеянно сказала она после очередного анализа его энцефалограммы. – Давай, дружок, ударься немного током!
Кир отметил середину жизни яркой влюбленностью в одну необычную женщину, с которой познакомился в компании физиков – школьных друзей. Физиков также почитала и Васса, держа их в чем-то за равных себе. Она лечила многих опальных ученых, неизменно восхищавшихся ее красотой и мужским умом. Женщину эту звали Асах, она была кабардинкой и ходила за известным академиком, демонстрируя беспримерное самоотречение и почти что животную преданность ему.
Академик ушел счастливым, и Кир, сам того не замечая, завидовал ему, полагая, что тот или иной конец жизни дается или в награду, или в наказание. Асах, конечно, была наградой. И он, Кир, такой награды тоже жаждал – параллельной жизни с такой вот сказочной, мягкой, вечно молчащей женщиной.
Он обезумел от нее. Он словно подхватил чуму, бредил, снимал дачи, квартиры, отели, он просил ее читать ему, петь ему, растирать ему спину, он чувствовал себя рядом с ней титаном, героем войн, а не подпевалой, который достоин не более чем своей собственной жены.
Когда Кир охладел к Асах, случилось это вдруг, без всякой причины, надоела она ему, разонравилась, стала казаться дурой, да еще и высокопарной дурой, хотя он и понимал, что был неправ, что это гримасы возвращающегося к нему душевного здоровья – он помог ей уехать в Германию, в монастырь – так спокойнее и ему, и ей. Не разболтает лишнего, будет сыта и сможет красиво стареть.
Он как смог заморочил ей голову. Наплел историю о важных делах, закончив которые, они смогут на старости, держась за руки, смотреть на закат в Лозанне или Цюрихе. Он иногда просил ее о мелочах и, конечно, приучил писать короткие письма о своей теперешней жизни и о пациентах, достойных их общего внимания.
Узнав про Асах, теперь уже зовущуюся совсем другим именем и изменившую веру, Васса сказала Киру:
– Больше я не стану помогать тебе выживать. Ты не просто дурак, ты – вредный дурак. Сдохни хоть как человек.
Их поединок набирал силу. И состязались они во всем.
Васса была бессребреница. Кир тоже. Он, как и она, любил не деньги, а власть. Васса в качестве благодарности ценила только преданность, такую же звериную, как и страх. Ничто не могло заставить ее простить Кира за его проступок с Асах, никакое рассуждение не могло убедить ее в возможности оставить его в списке тех, кого она признавала. В списке достойных. По просьбе академика, чей авторитет был и в ее глазах безупречным, она когда-то помогла этой несчастной выносить прижитое ею внебрачное дитя, и тот факт, что Кир встал поперек ее доброго дела, был, помимо всего, откровенным вызовом ей.
Васса отвернулась от него публично. Она не говорила с ним, не соблюдала на людях приличий, резко обрубив все вопросы почти что медицинской констатацией: «Кто? Кир? Он для меня умер».
– Этим двоим тесен мир, – говорили о них общие знакомые.
Если бы Клара была жива, то поехать к столь тяжело заболевшему Киру попросила бы она. Она позвонила бы. Несмотря на то, что жили они с мужем далеко отсюда, в другой стране. Ей бы Васса не отказала. Но поскольку Клары среди людей уже не было, звонить пришлось Кире Константиновне. А что делать? Не до церемоний.
– Васса, послушай меня.
Кира была из тех женщин, в которых не было загадки, столь необходимой для интереса к ним мужчин. Единственное, чем она научилась с возрастом их приманивать, и был сам возраст. Вплоть до своего пятидесятилетия она провела рядом с Киром долгие годы, полные одиночества, давая ему единственное, на что была способна, – служение. И только вызрев до финальной точки, она почувствовала, что может привораживать мужчин, мужчин совсем молоденьких, как этот журналистик, именно этой своей обретенной загадкой – спелостью.
Кем овладевали они, страстно сходясь с ней? Матерью? Старшей сестрой? Запретом? Она загадывала загадки, они их разгадывали.
– Васса, у него инсульт.
Васса, конечно, презирала ее абсолютно, хотя и держалась рядом в силу логики времени, поместившей их на общих параллелях, называемых средой и эпохой.
– Это тебе за Асах, – сказала Васса вслед уносимому на носилках Киру, – страдай и думай об этом.
– Я дал ей судьбу, – ответил ей Кир, уже осознав, что слов его никто не понимает. – Я не боюсь смерти, Васса, я издохну, но не буду потакать тебе, гордячке, не буду пресмыкаться, чтобы ты спасала меня.
– Ну-ну, – хмыкнула Васса, привычно разобрав его речь. – Герой…
– Ты захочешь смерти, – поймала его не сказанную мысль, – но не получишь ее. Наберись терпения, Кир…
Васса опомнилась: словесно и мысленно казнить больного противоречило ее принципам.
Кир не хотел, чтобы его несли.
Но его несли.
Он не хотел ехать, но куда-то ехал.
Он не хотел лежать в этой комнате, именуемой палатой, но его уложили.
Он чувствовал обиду, агрессию, бессилие много дней, пока не осознал, что никто больше, кроме Вассы, не слышит его, и теперь он не только бессилен, но и полностью, абсолютно одинок.
«Что же происходит в моей голове? – спрашивал себя Кир в редкие минуты, когда был в состоянии спрашивать себя. – Что я делал со своим мозгом все эти годы, что он так одномоментно и подло подвел меня? Неужели способ ухода – это расплата?»
Кир распадался. Как распадался и мир в его голове. Краски, образы, слова, лица – все это временами превращалось в злобно и уродливо накрошенный кем-то винегрет. Он чувствовал отчаянье, страх, приступы нестерпимой тоски. Временами он плакал. Нечуткая чужая воля угнетала его. Он просил, чтобы к нему пришел такой-то, а приходил совсем другой, чашка чая казалась ему чашей с кровью, он отталкивал ее, но ему ее насильно пихали в рот, иногда он часами лежал в собственном кале или моче, морщась от мерзости подгузника, но никому и в голову не приходило помыть его и переменить пеленку – вместо этого ему принимались читать вслух или включали писклявого Моцарта. Он начал бояться Вассы, дававшей ему безупречное лечение, но не сочувствие.
Через месяц он смог встать. Еще через месяц он окончательно смирился, что не будет услышан. Еще через месяц он отгородился от всего мира своей на него обидой до небес. Он изображал еще большую немощь, чем была у него, еще большее слабоумие, чем то, что породило в нем излияние крови. Он мычал, громко пукал, рыгал не прикрываясь, общался с миром только через кривые галочки, которые он якобы с усилием ставил напротив интересующих его телевизионных программ.
За что ему?
Он вдруг стал видеть некоторые части своего тела, действующие по собственной воле. Вот рука хватает и хватает пирожное, а он злится на эту алчную руку, куда ему, и так заплыл жиром!
За что ему?
Вот он жрет и жрет, обляпываясь едой, и гадит одновременно, и никому нет до этого дела.
За что ему?
Сиделка ненавидит его, но якобы заботливо укрывает ноги пледом: его жизнь – ее деньги.
Столь верно служившая ему все эти годы Кира, служившая подругой, советчицей, редактором, секретарем, курьером – закрывает глаза на то, как унижают его, некогда такого нужного, но теперь бесполезно замолчавшего оракула.
Оракул молчит. Он сломался. Ему больше ничего не положено.
Эх.
Прямо перед тем как шагнуть вон из окна подмосковной дачи, с первого этажа ее – Кир просто перепутал оконный проем с дверным, – он вспомнил, как говорил речь на митинге, сплошь состоящую из глумления и вранья. Он вспомнил, как полюбил Асах, здорово забывшись, и потом очнулся, и как маялся потом, утешаясь лишь осознанием своей силы и хваленого чувства равновесия. Он вспомнил также молоденьких птенцов, вившихся вокруг Киры, которые были по факту безопасны для него, а поэтому привечаемы. И даже этот, как его, биограф, журналист, ведь это же его спина мелькает иногда в коридоре, ведь это же он разбирает теперь в кабинете его архив?
Он вспомнил даже молодые глаза Вассы – не такие, как теперь, а веселые, без морщин и набрякших век, он вспомнил звук ее молодого смеха, кручение дыма ее сигареты, по которому они, еще пацаны, пытались угадывать будущее: даст, не даст. Не серьезно, конечно. Да и что такого люди нашли в этом «даст»?
Он мысленно пробежался по небылицам, сплетенным им за всю его, как ему теперь померещилось, бесконечно долгую жизнь, он ощутил пронзительную тоску от того, что за все это время так ни разу и не обрюхатил Киру, вечно теша и ее небылицами, но только другого разлива.
Он что, врал?
Он врал, а слова не врали?
Кто из них врал и кто отвечает за это?
Нет, не перед Вассой!
Кир твердо знал, что неподсуден. Он знал, что не существует на свете никого, кто мог бы упрекнуть его в бесконечной лжи. И никакая Васса ему не судья, никакой человек.
Кир разбил себе лицо и сломал палец.
И когда Васса, не глядя на него, заклеивала раны пластырем, он сосредоточился до предела и послал ей мысленную мольбу:
– Помоги.
– Не было приказа, – рассеянно произнесла вслух Васса, обращаясь то ли к нему, то ли к кому-то еще, кто мог бы передать ей эти слова.
Но передать никто не мог, не было никого на свете, кроме него, распластанного на кровати, Киры, щебечущей с молодым человеком за чаем о клубничном варенье, сиделки, готовящейся после перевязки кормить его кашей.
– Каши пока не надо, – сухо сказал Васса, – я сделаю ему укол, пусть поспит.
Кир пролежал так еще десять лет.
Васса следующей зимой поскользнулась на ступеньках своего дома и отравилась таблетками, узнав, какой характер носит ее травма, оставив записку с коротким «Подите вон!», адресованную неизвестно кому.
Васса вышла из семьи польских деловых людей, поднявшихся с самого низа. Прапрадед ее был каменщиком и уже в зрелом возрасте, проявив усердие, выучился калькуляции. Ее бабушка помогала своему отцу во время Первой мировой войны содержать небольшой магазин, в котором даже в самые тяжелые времена можно было отыскать что-нибудь съестное.
Сразу после войны дед Вассы, слывший хорошим семьянином, влюбился в женщину с дурной репутацией, русскую, влюбился, совсем потеряв голову. Она поразила его тем, что, будучи искушенной в делах любви, разыгрывала невинность, каждый раз сбивая его с толку. Она то отдавалась ему со всей развратной страстью, то капризничала как девушка, которой это не то, а то не сяк. Несчастный никак не мог выбрать между женой и любовницей, метался от одной к другой, выбирая то долг, то страсть. Нервы его от этого совсем расшатались, и однажды он в припадке ярости накинулся на свою жену, бабушку Вассы, и по неосторожности задушил. Отец Вассы и ее тетушка – их дети – по странному стечению обстоятельств оказались в детской колонии в России: их, несмотря на иные обстоятельства, как сирот Первой мировой войны, оформили по договоренности родственников на вывоз в страну, где все было иначе. Их детский дом находился в Балашихе, куда впоследствии помещались многие дети репрессированных и расстрелянных белогвардейцев. Эти дети были обучены хорошим манерам и имели зачатки неплохого образования.
Оба они, и Вассин отец, и ее тетушка, поступили в московские медицинские институты, где усердно учились, вышли потом в хорошие доктора и обрели себе пары из потомственных врачебных семей.
Вассу привозили в Балашиху на лето, где ее отец обзавелся скромным брошенным домишком, оформленным с помощью высокого покровительства родителей жены. Васса дружила с белогвардейскими сиротами и позднее имела уважение лишь к выкованным бедой характерам и к исключительно одинокому образу жизни.
Отец Кира был из буржуазных немцев.
В молодости он сделал блестящую карьеру, занял пост руководителя крупного завода. Его родной брат основал в Кёльне радикальную религиозную секту, за что перед самой войной сел в тюрьму. Отец Кира открестился от брата и после окончания университета написал серию блестящих статей по экономике, благодаря чему был замечен и приглашен на работу в президиум профильного Научно-исследовательского института. В 1939 году нацисты уволили его, отправили на фронт, считая экономику лженаукой. Отец Кира Аксель фон Гиббелин попал в русский плен, да так и остался жить в СССР, сойдясь уже к концу сороковых с прекрасной девушкой Тамарой, от души пожалевшей его.
Род Тамары происходил из сельца Красное, что находится в десятке километров от Суханова. Сельцо это расположено на речке Мокрая Тобола, которая вместе с Сухой Тоболой впадает в Дон, чуть пониже деревни Куликовка, что находится на северном краю Куликова поля.
Многие из рода Тамары умерли от удара, предварительно онемев.
Участь эта постигла Ивана Михайловича Калмыкова, пораженного ударом в 1770 году, сыновей его Игната в 1834 году и Давида в 1841-м, их дочерей Дарью в 1861-м и Марину в 1872-м, а также из родни Федота Васильева в 1763-м, Лариона, умершего в 1790-м, Ивана Ермолова, Василия и Симеона, ушедших в рекруты в 1756 и в 1758 годах.
Конон
– Невероятно! После трех операций и трех химий…
Он потрогал себя под одеялом, повернул голову, потянулся к чьей-то спине – узкой, плоской от лунного света, потрогал за плечо, позвал шепотом:
– Саломея!
Очнулся: как она может быть рядом с ним, если сам он лежит укутанный, почти спеленатый, в реанимационной кровати-люльке, баюкающей его не хуже покойной бабушки Греты, к которой он, маленький, вечно просился на руки? Он был за многое признателен этой люльке, но вдвоем в ней никак не поместиться. Он опрокинул стакан с водой, включил свет, стал звать на помощь.
Никого.
Врач констатировал его смерть три четверти часа назад. Боковые поручни кровати опустили, лицо прикрыли простыней, форточку распахнули и оставили одного в кромешной тьме дожидаться еще неспешного в эту пору утра. Дверь снаружи приперли стулом: входить не нужно, назначения исполнять незачем, очередь за санитарами.
Конона привезли в старинный госпиталь при Меттенском аббатстве восемнадцатого апреля. Ясным прохладным днем, каких по весне в этом нижнебаварском царстве вечно цветущего хмеля предостаточно. Где-то уже мерещилась капустница, но пейзаж еще был робок, зеленился без похабного размаха, щебетал вполголоса. Ну да, те же запахи, то же колыхание, только летом челюсти у муравьев покрепче и кусаются они не в пример больнее, да и летние комары совершеннейшие звери. Выбираясь с осторожностью из машины, он вспомнил тонюсенькие свои детские искусанные ножки и бабушку Грету с йодным тампоном в руке, настрого запрещавшую ему расчесывать рубцы и ругавшую за каждый отгрызенный заусенец.
Прибытие его выглядело торжественно, как и подобает больному его ранга и положения: кашалоты черных чемоданов тихо дышали – такой тонкой и настоящей была их кожа, лакированные коробки, перевязанные шелковыми лентами, сверкали прямыми спинами, отдельный кофр с книгами изо всех сил пах стариной, замки блестели, заклепки серебрились, змейки-молнии извивались, словно и не догадываясь, что для радости повода нет и впереди похороны, которые тоже, впрочем, будут царством красного дерева и самых различных кож. Вокруг чемоданов суетилась прислуга: молодой секретарь с внимательным, подозрительно гладким лицом, горничная-гречанка в зеленом цветастом сарафане (сколько раз, черт побери, он велел ей одеваться в однотонное), телохранители с мясистыми складчатыми затылками, в натянутых как на барабаны черных костюмах. Он чувствовал смертельную усталость. Его – маленького, крошечного на фоне этих чемоданов – вкатили в холл, он сидел, вцепившись в поручни, в темных очках, мертвенно-бледный, и молчал, желая только одного: расстрелять из автомата все, включая эти чемоданы, неподъемные даже для его мысли, а потом тихонечко лечь и заскулить без свидетелей.
Новость о его приближающемся конце мгновенно разнеслась по свету, обрастая зловещими подробностями. Проговорилась пустобрехая сестра его жены, которую он недолюбливал за мелкие, как речной жемчуг, зубы, всегда выскакивавшие наружу при улыбке. Дурное ее дыхание, перемешанное со словами, заполнило собой всю столицу, и с газетных листьев поползли во все стороны мерзкие черви, жрать и подтачивать то, что в тучные годы называлось его Золотой Империей.
«Оказывается, Конон смертен! – восклицали газетчики. – Вот это новость! Вот это заголовок!»
Восемнадцатое число было его врагом. Ровно шестьдесят лет назад отец повез маленького Конона в деревню смотреть, как рубят головы петухам. Шестьдесят лет назад? Он запомнил это навсегда, эту зверскую казнь: кончились запасы корма, и решено было порезать всех на заливное, на жаркое, на закрутку – перед летом будет в самый раз, а через месяц – взять новых цыпляток, и к осени на свежей, полной соков траве и подешевевшем перед новым урожаем пшене они превратятся в настоящих здоровяков, один только бульонный навар будет в два пальца толщиной.
Много позже, тоже восемнадцатого числа, когда щеки Конона подернулись первым пушком, он тискал пышнотелую одноклассницу в чьей-то захламленной, приспособленной под молодой блуд квартире, строил из себя мастака, небрежничал, хотя до этого еще ни одна барышня не расставляла перед ним колен. Тут же крутился его дружок, напросился-таки с ним, хотел пощелкать, запечатлеть для вечности, и запечатлел: когда Конон уже залез к ней в трусы и другой рукой стал расстегивать ширинку, вдруг страшная икота обрушилась на него, грубая, неостановимая, с присвистом – так это и осталось на снимках: растерянность, замешательство и хохот. Над ним, конечно. Он хранил эти снимки: ее раззявленный рот, его растерянные глаза; потом он расквасил рожу этому фотографу.
Иного восемнадцатого погиб его друг, вскрыв себе вены на станции метро. Он здесь же повздорил с девушкой, натурщицей, худощавой безымянкой, и резко дернул лезвие, пряча черную кровь в рукаве дорогого пальто. Восемнадцатое – это кровь, окончательно заключил тогда Конон. Та самая, за которой уже нет слов. Последняя кровь.
Став могущественным, Конон начал отменять восемнадцатые числа.
Те, кто хотели быть сильнее его, ему их назначали. Но он уклонялся, как от летящей стрелы, уходил в сторону, чтобы дать несчастью пронестись мимо. Набирался сил, чтобы отменить их совсем.
На этот раз у него не вышло.
Из некогда могущественного – деньгами, характером, умением внушать любовь и подобострастие самой своей манерой мять в руках, как теплый пластилин, время, обстоятельства, помехи, волю других людей, статного, с черной, маслянистой шевелюрой и такими же черными маслянистыми глазами, крупным мясистым носом и подбородком, на котором быстрее обычного росла щетина, он превратился в подобие сухого мятого листка, доступного даже для слабого ветерка. «Кара», – думал Конон.
На своих дорогах, непременно ведущих в гору, Конон не раз встречал себе подобных, рвущихся наверх, но из всего этого множества Божьих эскизов и набросков сильных мира сего он был самым прорисованным, самым завершенным. Он давил всех.
Чем выше он восходил, тем совершеннее становилась армия его соперников, но он разрушал их изнутри, поселяясь в их слабостях, он действовал как болезнь, а не как сторонняя сила, кроша мощные позвоночники и возводя из пустых грудных клеток плацдарм для следующего подъема. Но теперь кто-то прошел в него. Кто-то пришел отомстить. Сожрать его самого с потрохами. Но как он прошел?
Были ли у него самого слабые места?
Вспыхивали ли в нем страстишки, дурел ли он от женского колдовства, толкающего к перемене участи?
Он не безумел.
Он никогда не ведал разрушительного действия страсти, никогда.
Он не искал ни славы, ни безмерного могущества, ни несметных богатств.
Бог дал ему первый золотой слиток. Полушутя по молодости он купил за гроши прииск в вечной мерзлоте, что-то подтолкнуло его тогда. Все потешались над ним – романтик, мечтатель! – а он протянул руку вдоль шевельнувшегося вдруг горизонта да и нащупал золотую гору под землей, а потом еще одну, и еще. Прикусил единственным точным движением клыка тех, кто пришел отнять у него его гору – и богачей, и бестолковых правителей. Он давил их ласкаючи, обводил вокруг пальца, захватывая со скоростью эпидемии новые золотоносные жилы и делая их решительно и всецело своими.
Его маленькая жена жила в страхе все эти годы. Считаные разы он замечал ее. Их жизнь, проведенная рядом, не имела почти никакой совместности. С этой некогда милой стриженой брюнеточкой, умевшей пристально и сосредоточенно слушать и смотреть, не поднимая глаз, он сходился лишь изредка, чтобы зачать сыновей.
Сейчас она сосредоточенно ступала черными туфельками по белому мрамору больничного пола. В холле пахло кофе, корицей и свежими булочками, от этого жизнерадостного аромата она ежилась, брюзжала: «Разложились с булками среди больных людей…» Мелодию утра она уловила точно: монастырский дух, царивший здесь, был густо перемешан со щебетанием сестер и шуточками санитаров, прием высокого пациента оказался не столь торжественным, как его прибытие.
«Вот оно, величие момента, – подумал Конон. – Фикция, как всякое величие».
Доктор взял Конона за руку.
– Я не боюсь, – улыбнулся Конон.
Доктор сказал несколько безупречных фраз, в которых, словно в водах великой Реки, плескалась и гримасничала тень великого асклепиада Гиппократа.
Конон никогда не искал опоры.
Это был урок первого восемнадцатого числа, когда петушиная кровь брызнула ему в лицо, и он в приступе рвоты попытался ухватиться за штанину отца.
Поддержки нет, тогда понял он, а ее иллюзия – ловушка, которую расставляет внутри тебя твой враг.
– Я не боюсь, – повторил он доктору.
– Это Саломея, – представил доктор женщину, вошедшую в комнату, забирая подписанную Кононом стопку бумаг, без которых скальпель не режет плоть. – Это ваша медсестра, она будет с вами почти всегда.
Саломея присела и кивнула.
– Монахиня, – продолжил доктор, – и наша лучшая сестра, она будет молиться за вас, а не только следить за телом.
– Но я не хочу монашку, – спокойно сказал Конон, – мне нужен понятный человек рядом.
– У вас есть общий язык, – спокойно сказал доктор. – Вы все поймете.
– Все?
У Саломеи были крутые бедра, округлый живот, не слишком выразительная грудь, тонкие губы, смуглая кожа, ореховые глаза. Она выглядела картинно. В ней были линии, стать, нижняя часть ее тела была тяжеловата, как и подобает женщинам ее породы, но от этого она казалась более устойчивой, соблазнительной, тугой. «Сколько ей, – подумал Конон, – сорок, шестьдесят? Не поймешь».
Как случилось, спрашивал себя Конон, что рядом со мной, истекающим жизнью, оказалась эта совершенно чужая мне женщина, пахнущая миндалем?
По искрящемуся хитросплетению обстоятельств Саломея спустилась в этот немецкий госпиталь с кабардинских гор. Она выросла в большой семье, где детей, включая девочек, учили языкам по книгам из огромной библиотеки отца, занимавшей почти полностью второй этаж просторного дома на Эльбрусе. Саломея, как и сестры, ходила за овцами, стригла и валяла шерсть, знала, каким корешком растения повернуть на юг, как и рецепт воскрешающей в Рамадан халвы, и, конечно же, множество красивых многословных молитв на арабском языке.
Огромная река протекала мимо огромных гор, укрытых от Всевидящего ока не только жестким, как корка, Кораном, но и огромным распростертым небом, редко где подходившим так близко к земле, как здесь.
Она выучилась числам и русскому письму, что дало ей особый путь, начавшийся крошечной тропинкой от их хутора к знаменитой обсерватории, где лучшие мужчины из городов вглядывались в звезды. От них пахло непонятными мирами, полными опасностей, и когда отец, вопреки мнению матери, отпустил Саломею на приработки в эту обсерваторию, мать долго и протяжно выла в своей спаленке среди пестрых ковров, воздевая руки к низкому небу.
Саломея стала работать среди других, приехавших из городов, женщин, они писали и считали цифры, говорили о пустяках, ели печенье и пили чай. Ее быстро полюбили и быстро возненавидели. Рыжеволосый нервный звездочет Михаил разглядел в ее ореховых глазах свет, затмивший для него небо.
Она маялась потом с девочкой, еле выносив ее в своем хрупком анемичном теле, проклятая домом и изгнанная злыми языками из комнаты с цифрами, коридоров, даже столовой, где тошнотворно, тем более для беременной, пахло хлоркой и непригодной едой. Она отдалась ему со всей ответственностью грехопадения, введя в ступор предварительной часовой молитвой и позой, с которой он не очень знал, что делать.
Его, рыжеволосого, возлюбленного Саломеей по науке самых потаенных книг из отцовской библиотеки, увезли избитым, со скрюченными за спиной руками в столицу на судилище. Он подписал пропитанный чужой желчью протест против Лота, сути которого она, конечно, понять не могла.
После его ареста Саломея не могла неделю есть. Небо раскололось над ее головой и никогда уже больше не прикрывало ее маленькую жизнь от грозно глядящего на нее ока.
Она, конечно, по многу раз выслушивала всех, кто хотел ей что-то сказать об этом. Она считала себя совсем уже падшей под этими набухшими, торчащими, как сосцы волчицы, звездами, почти что волочащимися по земле.
Кто только не вожделел к ней за долгие годы, что прошли между зачатием ее дочери до этого момента, когда восемнадцатого числа она увидела Конона! Какими разными были их души, тела, слова. Саломея пропустила через себя множество мужчин, пока главный ученый обсерватории, почтенный академик, совсем уже немощный старик, презрев по-змеиному шипящую жену, не увез ее с собой в столицу, чтобы, как он выразился, умирать рядом с ней.
Когда Саломея увидела Конона, она сразу поняла: он захочет ее обязательно, но она никогда не сможет не то чтобы пожалеть, но даже заметить его. Но почему? Она не знала.
– Ваша Саломея убивает Конона, – скажет короткое время спустя Софья Павловна, его жена.
– Intimnije uslugi, – переведет ей переводчик профессора, руководящего клиникой аббатства уже много лет, – ne vhodiat v assortiment nashej kliniki. Solomeja medicinskaya sestra iz ordena i prinuzdat ejo bolshoj greh.
– Но почему бы ей не дать последнее утешение моему мужу? – возмущалась Софья Павловна. – Она монахиня, в ней должно быть призвание такого рода!
– Здесь не бордель! – в сердцах воскликнул доктор, но переводчик смягчил его отповедь.
– Она уже не молода для этого, – перевел он.
Конон почувствовал в ней плотность и густоту недр. Муть, тоску, силу, горечь, неостывающий жар. Он захотел глотнуть и зажмуриться, опьянеть, расхрабриться и напугать смерть. Он боялся невыразимо. Городские женщины, сделанные из воздуха, никогда не могли заставить его забыть о смерти, перестать бояться ее. Но Саломея смогла. Он забывался, находясь рядом с ней, без остатка, и отчаянные мысли о том, небытие может быть даже страшнее ада, уходили от него если не насовсем, то надолго: целыми днями глядел он на нее и не мог отвести глаз. Он мечтал увезти ее, ступить на совсем другой путь, лишь бы она была рядом и лишь бы Господь отпустил ему еще совсем немного жизни.
Он почувствовал эту подлинность сначала через салфетку, которой она брала стакан с водой, чтобы подать ему.
– Зачем салфетка? – спросил он.
– Ваш стакан должен быть чистым, – ответила она.
– А как вы можете его испачкать?
– На руках человека всегда грязь, – улыбнулась она.
– Как ты стала монашкой?
Конон бесконечно разглядывал инородную крутизну бедер, сильный, просто скроенный торс, безупречную шею.
– Привел один человек, могущественный, вроде вас. Хотел помочь. Кир. Кир Гиббелин. Вы не знали его?
– Знал, – кивнул Конон. – У тебя красивая шея.
Спокойно, словно самой себе сдавая экзамен на повторение, она в сотый раз за свою жизнь повторила:
– Ухаживать за шеей меня научил отец. Он говорил: «Вся красота женщины в шее. Умей держать ее, нести ее, ухаживать за ней».
Она рассказала ему об отце, его науке женской красоты, которую он преподавал всем трем своим дочерям. «Вы должны почувствовать, как смотрит мужчина, и тогда вы все поймете».
Саломея развлекала его, молилась за него, безупречно исполняя свой долг сиделки и медсестры и зная, что не даст души.
Никого дурного он не напоминал ей, ничем не был неприятен. Но его облик проходил сквозь ее сердце, не оставляя там ни малейшего следа, как и его слова. Смогла бы она почувствовать иное, если бы знала, что однажды их дети встретятся, что она будет причастна к этому и эта встреча будет важной и для них обоих, и для страны, которую она считала своей родиной? Может быть. Но она не знала.
Он расспрашивал.
Она отвечала.
Он трогал ее, дотрагивался жаркой ладонью до ее руки, но ее рука от этих прикосновений делалась ледяной.
– Когда я впервые осталась ночевать у Михаила в их общежитии при обсерватории, наутро у обрыва застрелился мой жених. У того самого, где мы еще детьми объяснялись друг другу в любви. Его тело из ущелья доставали больше недели, и все это время мы не знали, почему он там оказался. Наши семьи были дружны несколько столетий. Мой отец проклял меня и впервые увидел мою дочь, когда ей было семь лет.
Его воображение рисовало экзотические сцены их близости. Целуется ли она? Умеет ли она это делать так, как городские женщины? Или, может быть, только кусает губы, как дикарка?
Конечно, Конон пробовал всякую плоть. Когда открывал очередные маленькие офисы при приисках во льдах или пустынях. Он и его подельники отмечали эти «новые точки» напитками, дурманом и местными красавицами. Но никогда ни одна из них не заставляла его грезить.
– Странное имя – Саломея, – все время повторял Конон вслух, – настоящее?
– Мое настоящее имя Асах, – терпеливо повторяла ему Саломея, – но что это меняет? Чтобы меня приняли в монастырь, мне нужно было назвать себя по-другому и выучить другие молитвы, но разве слова могут изменить суть?
Он лежал часами неподвижно, делаясь все более легким и прозрачным под белоснежной простыней, и размышлял о прошедших годах. Что это был за сон? Что за игра? Разве он никогда не слышал о слабости, которая является к сильным напоследок? Когда не можешь двинуть рукой, когда салфетка кажется тяжелее могильной плиты.
Он не мог больше минуты заставить себя думать о семье и преемниках. Он сложил буквы в подпись, спихнув империю, силу свою и мощь на сына, носившего его же имя, но не имевшего никакого вкуса к власти. Но что большее он мог придумать за одну минуту? Что вообще такое одна минута?
– Ты делаешь, мне кажется, ошибку, – сказала тихим голосом Софья Павловна, – отписывая все Конону-младшему. У него ведь от тебя только имя и кровь, но не характер. Он еще слаб и любит ласку, он болтлив, увлекается пухлыми книгами и невесть когда возмужает.
– Ничего, возмужает, – заверил его откуда-то раздавшийся внутренний голос, – напьется чужого яда – станет Калигулой, чем не наследник?
Он спешил думать о Саломее. Ему было некогда опускать лицо в газеты, разве что изредка – в зеркало, чтобы ответить на ставший отчего-то важным для него вопрос: «Я – чудовище? Я кажусь отвратительным? Теперь, когда губы мои обметаны, а кожа на лице сделалась как восковая»?
– Напрасно беспокоитесь – успокаивал Софью Павловну немецкий доктор. – Влюбленность лечит сильнее обладания. Саломея дает, а не отбирает силы. И утешение свое он получит.
А золото?
Невозможно было понять, кто задал Конону этот вопрос. Опять внутренний голос? Но почему тогда он такой тоненький, с присвистом?
Золото.
Прииски.
Иски.
Иногда – выстрелы.
Не сам, конечно, не сам.
Конон любил cияние золота, не такое яркое, как солнце. Конону нравилось, что он извлекает эту коварную материю из зеленых земляных недр на свет божий и кидает ее на биржах на весы добра и зла.
– Я приготовил тебе, Саломея, небольшой подарок в благодарность за твои сказки и легкую руку. Вот, возьми, – он протянул ей коробочку из вишневого дерева.
Там лежало кольцо. Тонкой работы, из разного золота, имитировавшего сияние драгоценных камней. Копия кольца Клеопатры, которое он купил по случаю в Африке у рыночного торговца. В молодости. Когда только начинал. Тогда оно принесло ему хорошую сделку – и он как талисман все эти годы таскал его с собой.
Саломея замерла.
– Я очень люблю золото, – тихо призналась она.
– Я очень рад, – сказал Конон, – это у нас общее. – Примерь! Увидишь, как разгорятся эти золотые рубины на твоих пальцах.
Саломея давно привыкла к влюбленности обреченных. Сестры в клиниках, да еще и близкие к Богу, знали многие душевные тайны своих, от этого вдвойне беззащитных, пациентов. Этого слова в отношении них они не употребляли, хотя оно и имело родной латинский корень. Они говорили «страдающие», чтобы всегда помнить о том, что страдание и страсти суть одно и то же, а значит, нужно этому страданию служить – и служить самоотреченно.
Меттенское аббатство, известное особенной, очищающей перед смертью силой, принимало на финальное успокоение не то чтобы обыкновенных страдальцев, а с историей, рекомендациями и крупными банковскими счетами. Сестры, что ходили здесь, не были бедными монашками, не нуждалась и Саломея, принявшая любовь многих, кто перед жестокой агонией потянулся к ней рукой. Вот ведь. А тут – никак. «Старость приходит?» – спрашивала себя Саломея.
Те, кого она любила глубокой любовью, беря в себя их дыхание, иногда выживали. Четыре месяца назад она, кажется, спасла собой итальянского юношу, неуклюже оступившегося на мосту в своем чудесном, переливающемся колокольным звоном городке. Она положила его руку себе между ног, прижав ледяные пальцы к пылающему влагалищу, и он выжил, выбив потом наколку с ее именем на своем левом плече.
– Я не могу принять ваш подарок, Конон, потому что тогда вы решите, что вместе с кольцом я готова принять и большее. А этого я сделать не смогу.
– Ты только думаешь, что не можешь, – спокойно ответил Конон. – Возьми кольцо, и оно поможет случиться всему остальному.
– Так бывает, – согласилась Саломея, – но я знаю, что сейчас этого не будет.
– Ваше сердце занято? – он почему-то опять сказал ей «вы».
Он почувствовал боль и желание причинить боль в ответ. Посмотрел на часы. 18:04. Кровь петуха.
– Тогда почему? – задал Конон один из своих самых нелюбимых вопросов.
– Вы просто не нравитесь мне, вот и все, – ответила она, покраснев.
– Ты… вы не можете говорить это серьезно, – он не справился со своим языком. Конон почти плакал, и поэтому его голос казался особенно плотным, низким, словно доносившимся из-под земли. – Я верну вам вашу веру, – прокричал он ей вслед, я сделаю так, что вы сможете открыто молиться, я знаю всех, от кого это зависит, вас возьмут в самый лучший, близкий к Аллаху монастырь!
– В исламе нет монастырей, – ответил Конону ее голос. Сама она спешно спускалась по лестнице вниз, убегала то ли от него, то ли от себя.
Конон слаб, а золото набирало силу. Оно вытекало из него, словно кровь, бурным потоком уносило его жизнь, ему казалось, что его рост отбирает его дни, и когда цена достигнет зенита, он умрет. Оно рвалось вверх, оттесняя своих многоликих братьев и сестер: черномазую нефть, голубоглазый газ, неблагородный металл – медь, сталь, олово, плюща жалкие остатки его, Кононовых, часов и минут. «Должен ли я проклясть его силу, – терзался Конон вопросами в бредовых снах, – его силу, способную вырвать мое сердце, но не способную распахнуть для меня сердце Саломеи»?
Саломея трижды была замужем до того, как попала к своим сестрам-монахиням и навсегда уже определила для себя, интуитивно, конечно, место и время действия.
Последний ее муж умер у нее на руках от разорвавшегося сердца прямо на ревущей столичной улице, и тогда она сказала себе то же самое, что Конону, в ответ на его надежду выжить через любовь. «Не судьба, – сказала себе Саломея. – К моей жизни не приживается любовь».
Но еще одну страсть она все-таки пережила.
Когда ехала в монастырь и по дороге остановилась, уже отрекшаяся, открестившаяся, на две ночи в Стамбуле. Тоже в апреле и тоже восемнадцатого числа.
Он снес ей голову, словно огромным раскаленным мечом, – город Стамбул.
Она пошла вниз по улице с сестрами между двух величественных храмов к Босфору, было уже очень тепло, и от ходьбы она вспотела, миновала киоск кока-колы, увенчанный мусульманским полумесяцем, сделала еще два шага к мечети и испытала оргазм. Остановилась у решетки храма, прижалась к ней ледяными тонкими губами, зашептав вперемешку все известные ей молитвы на разных языках. Она вдыхала запах жареной скумбрии, доносившийся с пролива, столь отвратительный для выросших в Европе женщин. «Я вижу тебя второй раз в жизни, – шептала Саломея, – первый раз не наяву, в мечте, и уже тогда Бог мой, Аллах мой, Царь мой небесный, сладкий мой Властелин, отец всех моих мыслей, Хозяин души моей и тела, уже тогда я почувствовала, как жаждут мои сосцы грубых твоих ласк, и как жаждет мое лоно вторжения твоего. Прости меня, Господин мой повелитель. Прости за слабое желание выжить, которое оказалось сильнее страсти открыто служить и поклоняться тебе. Но я искуплю, ты увидишь, я искуплю».