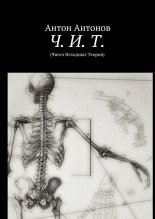И снег приносит чудеса Сорокин Андрей
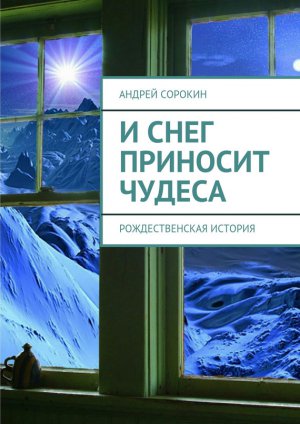
© Андрей Сорокин, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Глава 1.
Тайна двенадцатой квартиры
– Гатасфа, басандер, фадиццард… – в двенадцатой квартире кто-то бубнил странные слова. – Гормиц, яздегард, карундас…
Иван Силыч когда-то работал комендантом студенческого общежития. Слух у него был острый, не в пример его жене Ларисе Филипповне. А кроме этого, любое новшество в размеренной жизни первого подъезда вызывало у него настороженность. Тревогой веяло от всей этой абракадабры, которую Иван Силыч был вынужден слушать едва ли не каждый вечер в последнее время. Дом был старый, стены не так чтобы толстые.
Вечером, когда стихала шумная улица, являлась Ивану Силычу вся звуковая картина соседской жизни. Лариса Филипповна в это время уже похрапывала, возвышаясь над бывшим комендантом своим непревзойденным бюстом и им же подперев Ивана Силыча к стенке. Именно поэтому оказывался он еженощно прильнувшим левым ухом к стенке. Ухо на утро побаливало, но звуки ночи надолго отпечатывались в сознании Ивана Силыча, давая повод для самых разнообразных фантазий. Он слышал всё.
В седьмой квартире – под ним – жил одинокий художник Баловнёв. Самым громким звуком в его жилище был звон разбивающей бутылки. Баловнёв был тихий человек Тихо рисовал, бесшумно передвигался по квартире, пил тоже очень негромко. Но у него была своя личная примета – пустую бутылку ставить нельзя никуда, её следует разбить о борт корабля, быстренько, как только последняя капля спиртного окажется в стакане. Баловнёв верил, что его квартира – это и есть корабль, время от времени отправляющийся в плавание. И чтобы дорога была удачной, следует крепко выпить и бутылку грохнуть о корабль. Иван Силыч знал, что разбитая бутылка символизировала и начало работы над новой картиной. Подсчитать было легко – например, за лето Баловнёв написал семь картин. Много это или мало, Иван Силыч не знал. Но осознание того, что под ним живёт человек высокого искусства грело его старческую душу.
В шестнадцатой квартире каждую ночь двигали пианино и занимались любовью. Там жила оперная певица Серафима и её любовник. Серафима была женщиной культурной. Спала, как правило, долго. Примерно в двенадцать часов она начинала распеваться. Арию Царицы ночи из оперы Моцарта «Волшебная флейта» Иван Силыч знал наизусть. Иногда он сердито качал головой, когда певица Серафима фальшивила в том самом месте, где нужна была страсть и напор: Verstossen, verlassen und zertrmmert Alle Bande der Natur… Любовника Серафимы при всей своей внимательности Иван Силыч разглядеть никогда не мог. Тот каждый раз стремительно вбегал в подъезд и, словно на крыльях, взлетал на четвертый этаж. Поговаривали, что это был местный депутат Пронькин. Но удостовериться в этом не было никакой возможности. Он приезжал к Серафиме всегда затемно, а когда уезжал – никто не видел. О том, что мифический Пронькин в гостях у певицы, Иван Силыч догадывался по звукам. Сначала кто-то что-то играл на фортепиано. Потом раздавались несколько сладких почмокиваний. Затем странный звук – ну точно, отодвигающегося пианино, а потом такие милые звуки горячей любви, которые Иван Силыч хранил в самых потайных уголках души. Апогеем служили оргазмические крики Серафимы, которая своим резким контральто несомненно будила весь квартал. На пятнадцать минут все соседи открывали глаза, в испуге прятались под одеялами или начинали фантазировать – кто на что горазд. Потом в шестнадцатой квартире наступало спокойствие и весь многоквартирный дом окончательно засыпал крепким сном.
В квартире напротив Ивана Силыча жила солидная пара. Бухгалтер Шмакова и технолог Шмаков. Детей у них не было, зато была дача и семнадцать кошек. Да-да, почему вы так удивляетесь? Именно – семнадцать. У каждой из семнадцати была своя история. И чета Шмаковых с удовольствием рассказывала истории своих питомцев каждому желающему. Приятные люди, ничего не скажешь. Летом этих кошек никто не видел, они паслись на даче Шмаковых под Коломной. А вот, когда ударяли первые осенние холода, кошек в два приёма перевозили на городскую квартиру. Вот тут-то у всех соседей и начиналась жизнь по часам. По часам – потому что бухгалтер Шмакова была человеком точным. Каждые три часа она давала кошкам еду. За несколько лет жизни по режиму кошки избаловались и через каждые два часа пятьдесят минут начинали мяукать. Все вместе, хором, с коленцами и переливами – выпрашивая положенную им миску корма. Бухгалтер Шмакова никогда на сдавалась. Ровно десять минут кошачьего концерта, потом ровно десять минут на еду. После этого плошки и чашки убирались и ровно два пятьдесят из квартиры бухгалтера Шмаковой и технолога Шмакова не было слышно ни писка.
По соседству со Шмаковыми жила генеральская семья. Главой семьи был Роман Игнатьич Быков, генерал, танкист. Невысокого роста, с большой головой, кряжистый и спокойный, как танк. Он никогда не реагировал на шмаковских кошек, считая их вообще животным недоразумением и ошибкой природы. Все семнадцать могли сколько угодно истошно орать, у Романа Игнатьича никогда ни один мускул на лице не реагировал. «Меня, говорил он, даже пушка в 125 миллиметров на боевом танке Т-72 не проймёт, не то что писклявые шмаковские коты!». У Романа Игнатьевича были: жена-красавица, жена-хозяюшка, сын-оболтус, дочь-студентка (почти ровесница жены-красавицы и её давняя подружка), щегол Гриша и адьютант Белкин. Люди несведущие, конечно, поначалу удивлялись – как это так? Не может такого быть, чтобы у боевого генерал было две жены! Но адъютант Белкин мог любому объяснить, что именно у генерала Быкова все в порядке и с жёнами, и с ориентацией, и с политической подготовкой и вообще хозяйство крепкое. Генералов на свете – по пальцам пересчитать, поэтому и условия жизненные у них не такие, как, скажем, у технолога Шмакова. Технологов в стране – на каждом углу. А генералов скоро в Красную книгу заносить можно будет.
По ночам из генеральской квартиры Иван Силыч не слышал ничего. Семья как семья, бывают, конечно, разногласия. Тарелки бьются, кулаки по столу бухают, стучат подбитые генеральские каблуки, цокают шпильки генеральских жен и щегол Гриша заливается, когда в окно светит яркое солнце – но это уже под утро.
В тринадцатой квартире жил преподаватель из исторического университета Демьян Петрович. То ли профессор он был, то ли доцент, Иван Силыч подробностей не знал. Демьян Петрович увлекался средневековым Вьетнамом. Однажды Иван Силыч предпринял попытку с Демьяном Петровичем поговорить. У подъезда задержался, достал сигарету, решил угостить. Да и спросил, дескать, Демьян Петрович, над чем работаете в настоящее время? Профессор достал портсигар, сигаретку в него положил. И задумчиво так сказал: «Разбираю деяния поздних Ли». А что с ними не так? – удивился Иван Силыч. «Понимаете ли, Ли сделали немало хорошего. Перенесли столицу в Тханлонг, но потом проявили всю свою феодальную жестокость и агрессию». Каким образом? – спросил Иван Силыч, радуясь, что может поддержать разговор на такую экзотическую тему. «А таким! – начал заводиться Демьян Петрович. – Будто вы не знаете, что было потом! Воспользовавшись на юге ослаблением тямского государства Тямпа, в 1043—1044 годах вуа Дайвьета, между прочим, из династии Ли, нанёс поражение тямскому королю и захватил Виджайю, столицу Тямпы! Но! В 1068 году все же была попытка освободиться от ига Ли, и что?».
– Действительно! – возмутился Иван Силыч. – И что?
– А ничего! Дайвьетская армия под руководством Ли Тхыонг Кьета еще раз жестоко разграбила Виджайю и разбила армию Тямпы!
После этого Иван Силыч не нашелся, что сказать. Ни о Тямпе, ни о Дайвьете он слыхом ни слыхивал, и, чтобы больше не распалять профессора, сослался на боль в желудке и поспешил ретироваться. Диалог ученых мужей закончился не в его пользу. Подробностей жизни профессора он так и не выяснил, впрочем иногда наблюдал, как к нему в гости приходили вьетнамские студенты.
Любимицей Ивана Силыча была Маруся из пятой квартиры. Марусе было шесть лет, она жила с мамой Олей. Оля была напористой журналисткой, частенько пропадала н своих сногсшибательных репортажах, важных презентациях и загадочных «переговорах». Она сразу вычислила педагогическую составляющую Ивана Силыча и регулярно вручала ему Марусю «посидеть – присмотреть». И Лариса Филипповна и Иван Силыч принимали девочку как родную внучку. Нелепыми рисунками и стишками из детского сада Маруся быстро растопила стариковское сердце, усвоив, что за стишок про бабушку может получить конфетку, а за дурацкий портрет лысого дядьки в очках – целую бутылку газировки. Лысым дядькой в очках был, конечно, Иван Силыч. Рисовать его было легко. Очки и лысина любой детской каляки-маляки вызывали умиление и слезы радости бывшего коменданта студенческого общежития. Маруся почти никогда не плакала, разве что капризничала, когда строгая Оля отправляла ее спать пораньше. Но Иван Силыч слушая под дверью Марусины всхлипы не ругался, а, наоборот, записывал их в свои просчеты. Значит, не доработал, говорил он вполголоса и сам себе обещал назавтра доставить Марусе еще больше радости, конфетами, газировкой или катанием на лошади в парке, пока мама Оля будет делать важные репортажи о встречах Президента на высшем уровне.
Ночные бдения Ивана Силыча начались недавно. Когда-то давно он читал, что в старости часто наступает бессоница. Он даже начал выписывать толстый журнал, в котором на серой газетной бумаге счастливые пенсионеры делились своими рецептами победы над подагрой, язвой, бессоницей и простатитом. Но никакие рецепты не помогали. Так Иван Силыч начал подолгу гулять по двору, по подъезду, то рассматривая небо, в разводах ночного городского смога, то прислушиваясь к ночной жизни соседей. Здесь стонут, там храпят. Здесь скрипит паркетная доска, там кто-то хлопнул дверцей холодильника в поисках холодной ночной котлеты. И только в квартире номер двенадцать слышалось таинственное бормотание. Что бормочут – разобрать было почти невозможно.
«Пероц, гор, яздегард… – прислушивался Иван Силыч. – Басандер, каспар, мельхиор…».
Кто жил в двенадцатой квартире, бывший комендант не знал. Однажды пытался он это выяснить в домоуправлении, но вопрос от волнения сформулировал криво, путано. Директор домоуправления подозрительно приподняла очки на переносице, как будто пытаясь получше его разглядеть и в свою очередь спросила: «А вы почему интересуетесь, гражданин? Вы сами, в какой квартире живете?». «В одиннадцатой… – испугался Иван Силыч, сказал «большое спасибо» и быстро поспешил к выходу.
Конечно, вслед он услышал дежурное «ходят тут всякие, работать не дают». Вспомнил, что и сам когда-то таким же намеренно строгим голосом выпроваживал студентов-первокурсников из своего кабинета, понял, как был не прав, подумал, что к людям надо быть добрее, сел на скамейку в сквере и заплакал горькими слезами. Как ни крути, жизнь уже давно перевалила за вторую половину, и теперь уже одному Богу было известно, когда Иван Силыч отправится в лучший из миров. Такие философические размышления однако не привели его к разгадке тайны двенадцатой квартиры. Время приближалось к пяти вечера, а в это время по старой привычке Иван Силыч вместе с Ларисой Филипповной традиционно пил чай из красной в белый горох чашки, у которой на донышке красовалось клеймо иностранного завода «Вилерой и Бош», а на боку была едва заметная трещинка. На трещинку Иван Силыч внимания не обращал. Это была памятная отметка о девочке Марусе, которая ровно в 17 часов 30 минут ждала его в квартире номер пять для прогулки во дворе.
Глава 2.
Баловнёв
«Значит так и запишем, Баловнёв Аркадий… как?» – полицейский откровенно зевал.
«Что?» – спросил Аркадий.
«Как отчество у тебя?»
«Петрович, как у Гайдара»
«У кого?!» – на секунду шариковая ручка в руке румяного стража порядка застыла в воздухе.
«У Аркадия Петровича Гайдара, меня в честь него назвали. Вы «чук-и-гека» читали?» – робко спросил художник и вдруг хорошо поставленным голосом начал декламировать: «Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск…» Это моё любимое, я даже картину такую написал».
«А ты еще и артист!» – загоготал полицейский. – «Не читал я никакого Гайдара, я вообще, чтоб ты знал, книг не читаю. Только протоколы!».
«А зря», – потерянно сказал Аркадий.
«А вот про отпуск ты напомнил вовремя, – вдруг сказал розовощёкий полицейский. Я тоже в отпуске давно не был. А надо бы… Начальство не отпускает. Я сам-то из-под Рязани. Эх…! щас бы с мужиками на рыбалку!».
«У вас Ока там…» – Аркадий все же собирался поддержать разговор.
«У нас там дом, едрить! – сказал полицейский. – Нормальный такой домина. Прям на берегу. Летом выйдешь – благодать. Стакан на грудь первачка примешь, лежишь себе на боку и глядишь за Оку. Кра-со-та!».
«Я там пейзажи писал», – сказал Аркадий.
«Ты там пейзажи, а я здесь – протоколы! Разницу чуешь?»
«Чую…»
«Так, как же ты её порешил, скажи мне, Петрович?»
Аркадий Баловнёв, одинокий русский художник, опустился на ободранный стул в углу тесного полицейского кабинета и начал вспоминать. Дело было так. Пошли они с товарищем на пленэр. «Куда?» – переспросил полицейский из Рязани. «На пленэр» – повторил Аркадий. Захотелось двум друзьям-товарищам порисовать природу. У художников желания, как известно, просыпаются в самых неожиданных местах и в самое неурочное время. Такие уж они тонкие натуры и романтические существа. Желание у Аркадия и его товарища проснулось в центре Москвы, на площади Белорусского вокзала, где-то около восьми часов вечера в субботу. Но есть еще одна крепкая как кремень жизненная максима о том, что наши желания почти всегда не совпадают с возможностями. Где вы найдете природу в центре Москвы? И тут товарищ предложил порисовать зимний сад. Ну, правда, прекрасная затея? Москва сверкает огнями, машины в пробках гудят, холодная ночь опускается на столицу, а вам – тепло, светло и природа вокруг пышет зеленью и воздух влажен.
«У меня тут недалеко в бизнес-центре охранник-одноклассник работает, у них там отменный зимний сад, – сказал товарищ Аркадия. – На пару часов порисовать он пустит нас, никто и не заметит, все банкиры, капиталисты и прочие менеджеры уже ушли. И им хорошо, и нам!». Так и оказались художники в прекрасном зимнем саду.
– Товарищ полицейский, чего там только не было! Уверяю вас, джунгли робеют перед тем зимним садом. Зелень, фонтаны, рыбки золотые! Пальмы – одна, вторая. Третья! И этот… банан растет!
– Да, ладно, какой там банан? – усомнился полицейский из Рязани. – Да точно говорю! Бананы! Зеленые правда, и маленькие – уточнил Аркадий.
– Ты, Петрович, к делу переходи!
– Вот, и Лёха так сказал, – нахмурился Аркадий. – Я и перешёл. Выпили мы с ним по сто. Краска ярче пошла. У меня кисть прям летать по картине начала. Я рукой водить не успевал. Пальмы до этого только на картинке в книжке про Робинзона Крузо видел. У меня память хорошая, с детства помнил: «Каждый куст, каждое деревцо, каждый цветок были одеты в великолепный наряд. Кокосовые пальмы, апельсиновые и лимонные деревья росли здесь во множестве, но они были дикие, и лишь на некоторых были плоды».
– Чё-то заговариваешь ты меня, Аркадий Петрович, – усомнился розовощёкий полицейский.
– Я по делу только. Мы с Лёхой тоже про Крузо вспомнили. Стало нам жарко от такой волшебной работы. Мы еще выпили немного. Чувствую, нам в картинах моря не хватает. Леха кричит, мы – Робинзоны на острове! А я ему, что ж ты дурень орешь! Робинзонов много не бывает, он на то и Робинзон, что один. А уж если морем запахло, то прислушайся лучше – слышишь плеск волн?
– Да вроде есть немного… – насторожился полицейский.
– Вот-вот! А потом чувствую я, что ветер усиливаться стал. Ни фига, говорю, мы не на острове, Лёха. На корабле мы!
– А он говорит, и правда! Причем штормит нас потихоньку… Я ему сквозь ветер кричу, ничего себе потихоньку – так штормит, что палуба из-под ног уходит! А он кричит, держи руль крепче, я щас в трюм спущусь, надо воду откачать, слышишь вода в пробоину хлещет!
– Где? – испугался полицейский.
– В трюме, где же еще! Побежал Лёха в трюм. Меня одного бороться со стихией оставил. Я глазами ищу спасательный круг – нет ничего. Ну, что за корабль! Пока круг искал – понимаю, время упущено. Судно уже ходуном ходит, бросает меня из стороны в сторону. Ну, думаю, пора на крайние меры идти. Мачты рубить! Иначе хана кораблю. Хана! Пойдем мы к дну, вместе с золотом и попугаями.
– Погоди – какие еще попугаи? – не понял полицейский.
– Обыкновенными. Ара макао. Парочку наш капитан в Картахене не невольничьем рынке купил. Штука 10 песо. Один на камбузе жил, а другой в каюте капитана.
– Понятно, – понимающе кивнул рязанский полицейский. – А дальше?
– А дальше – больше! Лёха запропал куда-то. Ну, думаю, с пробоиной не справился. Пойти в трюм уже не могу, чувствую на гребне мы, сейчас перевернемся. И – вдруг!
– Что?
– Оглядываюсь и вижу спасение! О, святые угодники, падре Франческо-Саверио-Кастильони, пожарный щит! Хватаю топор и начинаю мачты рубить со всей мочи!
– Зачем?!
– Мачта на корабле во время шторма центр тяжести смещает. Опасное дело, особенно во время сильной качки. И что вы думаете? Мачту всего одну рубанул – сразу устойчивость повысилась. Сразу как-то на небе прояснилось, светлее стало, Лёха вернулся с бутылкой рома, в кабинете директора нашел У него там бар, а дверь открыта была. Мы за окончание плавания выпили и пошли домой.
– Так, Аркадий Петрович. Заставили вы меня поволноваться, – полицейский принял серьёзный вид и посмотрел в протокол. – Значит, здесь написано следующее. Гражданин Аркадий Баловнёв – так это пропускаем – нда.. гм… вот! – пальма, вид «Ройстоунея кубинская» привезена в дар от ректора Гаванского университета товарища Густаво Кобрейро Суареса в дар городу-побратиму Москве в знак дружбы и солидарности.
– Так, товарищ лейтенант, я ж не знал в тот момент, что это – пальма, да еще такая ценная. Ну, хотите я вам нарисую её в полный рост?
– В полный рост не получится. Семнадцать метров ствол, у тебя такого холста не будет. И вообще. Вот здесь распишитесь, товарищ художник.
– А теперь что?
– Теперь сушите сухари. Подписка о невыезде. Повестку ждите, – полицейский захлопнул тяжелую папку и широко зевнул.
Аркадий целую ночь глаз не мог сомкнуть. Всё думал, как странно сложилась его творческая биография. Фамилия сыграла с ним злую шутку. Баловнёв – ну, почему, не Айвазовский, не Маковский, не Крамской какой-нибудь. Еще дед говорил ему, что фамилия по жизни человека вести должна. Вот и ведёт – ничего никому не делает, а в приключения попадает. Да какие! Ладно бы, риск на миллион – а то одно баловство! Впрочем, деньги Аркадию никогда не были важны. Как настоящий художник относился он к ним легко, даже легкомысленно.
Самая дорогая его картина была про море. Большая, метра три на четыре. Её купил капитан Кукушкин. Кстати, вот тоже не повезло человеку. Быть бы ему орнитологом, известным всему миру. А он – капитан.
Кукушкину Баловнёва посоветовал один уважаемый галерист. Сказал ему, что если есть еще маринисты уровня Айвазовского, то Аркаша Баловнёв один из них. Капитан заказал «Море» за большие деньги. Сказал, мне, дескать, никакие корабли, лодки, закаты не нужны. И не вздумай чаек рисовать – чайка – птица дурная, никакой от нее пользы нет. Просто море сделай, брат Аркадий. Пусть шумит, плещет волной, пусть рыбой пахнет и солью. Аркадий так и сделал – в краску немного подмешал рыбьего жира. Его квартирка номер семь потом неприятно воняла две недели. Кошки от соседей Шмаковых приходили под дверью скулить. Но Аркадий не сопротивлялся. Искусство, оно людям на то и дано, чтобы радовать. А если человек от запаха рыбьего жира радуется, то кто его за это осудить может? Когда капитан баловнёвское море увидел, на колени стал и молиться начал. Вот, говорит, настоящая морская пучина, хочется в неё, Аркаша, окунуться и жить там. Это тебе не суша сухопарая! Капитан столько денег Аркадию заплатил, что Аркадий потом две недели по друзьям ходил и подарки дарил. Кому карандаш подарит, кому ластик, а кому пару тюбиков масла подкинет. Художники – народ простой, покажешь им тюбик, они и радуются, как дети. Аркадия тогда Айвазовским прозвали, правда, не надолго. Пару месяцев звали, а потом опять Баловнёвым оставили.
Аркадий был человек добрый. Если и случалось с ним какое-то баловство, то исключительно случайно. Соседи относились к художнику снисходительно. Правда, Иван Силыч из одиннадцатой квартиры всё норовил его поучить. Дескать, если случайности повторяются так часто, то это уже закономерность, а значит, пора тебе за ум браться, Аркадий. Но Иван Силыч ворчал тоже по-доброму. Аркадий и вспомнить не мог, кто на него по-настоящему злился. Если только Изольда Леонидовна из третьей квартиры, его соседка снизу.
Однажды у Аркадия трубу прорвало, он залил Изольдины новые обои. Она уже этого простить не могла. А он, чтобы загладить вину, написал для нее картину «Ландыши на подоконнике». Изольда Леонидовна, увидев подарок начала визжать, как пожарная сирена. Ландыши она ненавидела больше всего – была у нее какая-то история из бурной молодости, связанная с этими безобидными цветами. Аркадий, таким образом наступил на больную мозоль, и получился дважды виноват. Скандал едва уладили с помощью того же Ивана Силыча. Изольда успокоилась, но в спину Аркадию шипела неизменно. Он старался повода не давать, но разве за всем уследишь? Уронишь нечаянно сковородку на кухне – тут же стук по батарее. Весь стояк содрогается, это Изольда Леонидовна молотком стучит – недовольство выражает. Сделаешь музыку на транзисторе погромче – снова Изольда знаки подаёт. Любая оплошность стоила ему спокойствия. А тут еще эта пальма в зимнем саду на Белорусской. Аркадий с тревогой ждал, что о его неблаговидном проступке узнает соседка из третьей квартиры. Придется опять подключать Ивана Силыча – соседскую дипломатию.
Глава 3.
Сима
В первый раз Сима по-настоящему влюбилась, когда с театром попала на гастроли в Милан. Это была не первая её поездка за границу, но зато первая – в Италию. И сразу на подмостки театра Арчимбольди! О, Санта-Мария, какая это была поездка! Сима пела так, что итальянцы плакали навзрыд. Цветы в её номере не успевали менять. Она жила будто в центре огромной благоухающей клумбы. За одну неделю ей предложили восемь пылких итальянских сердец, три кабриолета и четыре виллы на берегу моря. Сима была почти на седьмом небе от счастья, и уже выбирала между Марио-мебельным королём и Бернардино-хозяином ресторанчика «Ля Брускетта» на Пьяцца Беккариа. Но тут появился он.
Что, скажите, делается на небесах, когда встречаются две половины одного горячего сердца! Какие химические реакции происходят в крови, когда искра воспламеняет взгляды двух незнакомых людей! Почему дыханию тесно в груди, когда горячая волна накрывает душу и мир застывает в ожидании голоса, взгляда, прикосновения! Сима сразу поняла, что это Он. Тот самый. Тот, которого ждала половину своей жизни. Тот, для кого, хранила настоящую любовь, пронося ее сквозь настойчивые предложения ухажеров, как бокал полный терпкого рубинового вина. Кьянти! Престо! – кричала она в ресторане за ужином, когда труппа отмечала успех «Иоланты». А было-то всего поцелуй в щёку, сдержанная улыбка и букет цветов. Но тонкий запах дорогого парфюма, манеры и обещание романтической встречи включили воображение Серафимы Московцевой на полную мощность.
– Какая же дура ты была, Симка! – скажет ей подруга Тоня много позже на московской кухне, запивая яичницу остатками итальянского вина, привезенного из той памятной поездки. – Сейчас бы Милан был у твоих ног! Была бы ты ему королева! Эх, Джулиан, проморгал ты своё счастье.
Роковым поклонником Серафимы был Джулиан Пизапиа, по должности мэр Милана и коммунист – по убеждениям.
– Ой, Тонька, не трави душу! И так выплакала всё на год вперёд!
– А чего плакать? Сама вляпалась, сама и виновата, – сурово сказала Тоня. Её опыт общения с мужчинами давно было пора занести в учебники. Три крепких брака, случившихся по большой любви и распавшихся исключительно из-за мужской несостоятельности, могли ответить на любые вопросы.
– Тонь, ну не могла я, не могла!
– А чего не могла-то? Это твое что ли дело-то было? Его проблемы, вот сам бы с ними и разбирался.
Роман был красивый. Сима и Джулиано гуляли по ночному Милану, пили прекрасное вино, смотрели на звёзды, смеялись и целовались! О, Мадонна, как целовался Джулиано, как любил он певицу Серафиму ласково и страстно! Сима и сейчас, вспоминая поцелуи итальянца, почувствовала, как пробегает дрожь по её пышному телу. И как это всё сложилось – вообще непонятно. Сима кроме оперных арий по-итальянски не знала ни слова. Вина в баре попросить, «Сюзанну» челентановскую поорать на дискотеках 80-х – это она, конечно, могла. Но как она общалась почти неделю с мужчиной, который по-русски вообще не разговаривал? Это была загадка. Язык любви каждый понимает по-своему и в своё время. А за день до отъезда, когда уже пришло время обещаний скорого свидания, непременной свадьбы и любви до гроба, директор театра собрал труппу на торжественный прием в мэрию Милана. Тут Серафима Московцева чуть в обморок не упала. До приезда в резиденцию синьора Пизапиа на углу Сартирана и Виджевано, она и знать не знала, что её скорый возлюбленный – мэр Милана! Города шоппинга и моды, города Ла Скала и Тайной Вечери, города панеттоне и Амброзианской библиотеки, наконец! О, Джулиано, amore mio, gatto mio, sole mio! Вольё те, ти амо! Пока шел официальный прием Серафима и виду не подала, что знает Джулиано лучше, чем арию Царицы ночи! Знает, что у него родинка под левой лопаткой, и царапина на коленке!
Но оказалось, что не знает Серафима ничего! Вежливый переводчик на фуршете рассказал, что Джулиано давно за шестьдесят, что он – отец семейства и вообще очень законопослушный гражданин левых коммунистических взглядов, борется за права сирых и обездоленных, а в молодости так вообще отказался от фамильного состояния и пошёл работать учителем в тюрьму для несовершеннолетних, за что, собственно, миланцы его и уважают. Лишнего евро не возьмет и последнюю рубашку бедному отдаст. Взять с него нечего!
Заманчивая биография кавалера ударила Серафиму в самолюбие крепче грома среди ясного неба. Как же так? А на вид-то мачо мачистый! Ну, лысоват чуть-чуть, ну так у нас многие мужики лысые ходят! Но! Вот так обмануть девушку?! Ни за что, ни про что?!
Рыдала Серафима до самого отлёта из обетованного города.
– А чего рыдать-то? Ты ж итальянского не знаешь! Может, он тебе и рассказал все про свою жизнь, пока тебя на набережной целовал, – резонно сказала подружка Тоня, когда Сима поведала ей о своих итальянских приключениях. Случилось разоблачение коварного любовника, как раз накануне отъезда, когда про Марио-мебельщика и Бернардино-повара думать было уже поздно. – И чего ты в отказ пошла, не понимаю, – продолжала Тонька. – Ну есть у него жена, ну и чё? Он же тебе дуре не жену предлагал, а любовь! Понимаешь – любовь! Что может быть лучше любви!
Сима не знала, что. Видимо, Тонька был права. Ей лучше знать. Любовь нельзя купить, но и отдавать её не нужно ни при каких обстоятельствах – это вспомнила Серафима, когда в сердце к ней постучался депутат Пронькин.
Сергей Пронькин был человеком ответственным и категоричным, он слово своё держал крепко. Об этом рассказывали предвыборные плакаты, в изобилии наклеенные на строительный забор недалеко от Симиного дома. Эту стройку затеял тот же Пронькин. Говорили, что хоть и был он местным олигархом, деньги свои заработал не в бандитские 90-е, а чуть позже. И не с помощью рэкета и пистолета «Старт», которым в те годы многие начинающие бизнесмены были вооружены, а с помощью ежедневного непосильного труда. Сначала круглосуточно сидел в ларьке и продавал «сникерсы» и жвачку, купленные по дешевке на оптовой базе, потом бизнес в гору пошел – Серега еще два ларька открыл. Потом выдался случай – у товарища папа был на заводе начальником цеха, договорились о простой схеме «здесь покупаем – там продаем», деньги пополам и всем хорошо. Что и говорить, все схемы зарабатывания денег в те лихие годы давно известны и осуждены. Сам Сергей Пронькин их и осудил на последнем совещании Союза промышленников и предпринимателей, посвященном очередной годовщине честного бизнеса в России. Теперь Сергей Александрович был человеком уважаемым, построил большую компанию, диверсифицировал всё на свете, умело лавирует между экономическими кризисами, обучает сотрудников и сам постоянно повышает квалификацию изо всех сил. Коктейль из общественной активности и нужных знакомств на закрытых пати дали прекрасный результат – Пронькин стал депутатом. Но жизненная энергия к политическим реалиям не прислушивается, Сергей Пронькин влюбился в актрису. Да не в простую – в оперную диву Серафиму Московцеву.
Сима на этот раз углубляться в подробности личной жизни ухажера не стала. Зачем? Один раз живём, нужно ли ворошить прошлое чужой жизни? Тем более, что Пронькин ухаживал тоже красиво – не хуже престарелого итальяшки. Дарил подарки, от которых закачаться можно. Что, собственно, Сима и делала регулярно в объятиях депутата. От таких качаний весь подъезд ходил ходуном, потому что в возрасте за тридцать в Серафиме вдруг проснулась такая страсть, что Пронькин поначалу даже испугался. Со временем привык, тем более, что свидания их хоть и были весма бурными, происходили крайне нерегулярно. Всё же депутатские обязанности приходилось исполнять, да и бизнес совсем забрасывать было нельзя.
– Пользуйся, дура, пока есть возможность, – поучала её подружка Тоня, запивая жареную картошку бокалом виски «Чивас Ригал 18». – Нормальный вискарь привёз, разговорчивый, денег много. Я б на твоем месте замуж за него сходила! А чего сидеть в девках-то? Сходила бы разок, там глядишь родила быстренько, поделила денежки и послала бы его ко всем бебеням! А?
– Ты, Тонь, уже нажралась. Вот, что я тебе скажу, – Серафима уже и сама была не рада, что пригласила подружку на посиделки.
– А чё такого? Ты хоть узнавала, у него есть кто-нибудь? Куда он там на свои заседания ездит? Может тоже, того? Жена и дети, типа.
– Не знаю. Замуж пока не предлагал.
– И не предложит, Сим. Щас мужик мелкий пошел, ты не смотри, что депутат. Я тебе, мать, вот что скажу, щас любой таджик может быть, круче депутата. А чё, не так что ли? У них мужики рукастые… ик.. поняла, что я сказала – ру-кас-ты-е! Всё могут! Опять же – не пьют! Не то, что наши нальют глаза и началась ураза!
– Тоня, давай спать! Сейчас ты всех соседей разбудишь. На меня и так все косятся, сама не знаю почему.
– А мы и соседей твоих прижмём! У нас друг – депутат! Ёны-матрёны! Он им воду горячую отключит на неделю – будут знать. Кто тут у тебя самый буйный? Этот, что ли, Силыч?
– Ну, нет с Иван-Силычем мы дружим. Он вредноватый, конечно, старик, но добрый. У меня как-то раз с антенной проблемы были – Иван Силыч что-то там спаял, скрутил – телек показывает лучше прежнего.
– Ну ты даешь! Ты своему Пронькину скажи, он тебе не то, что антенну. Он тебе завтра свой телеканал заведёт!
– Всё, Тоня, спать!
Было время, когда Сима слушала Тоньку во всём. Старшая подруга – авторитет, мамашка, между прочим, у неё от трёх браков два ребенка все же получились. Тонька была строгая тетка, работала в городской библиотеке. С Симой они вместе еще в школе учились, а теперь по жизни так и идут вместе. «Отчего же так складывается, – думала Серафима. – Вот ничего человек для счастья не делает, а оно на него валится – отбиваться не успевает. А тут, как дура, бьёшься – и ничего. Ну, Пронькин, ну депутат. Толку-то что? Где же оно мое простое, бабское счастье. Может, правда, попроще надо мужика искать. А с другой-то стороны, попроще – поймет он моё вечное сольфеджио?». Тут Сима вспомнила, что на прошлой неделе её внимания активно добивался тенор Полпудин из театра Станиславского. «Крупноват, конечно, но, может, это и к лучшему. Лариска из костюмерного цеха рассказывала, что он ей холодильник починил. Значит, мужик с руками. Не придется каждый раз к Иван-Силычу бегать. Говорят, надежды подает большие, с тенорами сейчас кризис какой-то. Нигде их найти не могут…».
Из транса воспоминаний о Полпудине Серафиму вывел крепкий храп Тоньки. Храпела он неритмично и даже через раз фальшивила на верхних нотах. «Надо будет с Тонькой посоветоваться», – подумала Серафима. Взгляд её упал на недопитую бутылку «Чиваса». Сделав большой глоток прямо из горла, Серафима откинула крышку фортепиано. В эту ночь у нее проснулось вдохновение. Она ударила по клавишам и запела любимую «Der Hlle Rache kocht in meinem Herzen».
Этажом ниже Иван Силыч в своей теплой постели под боком у Ларисы Филипповны нервно заворочался, приготовясь прослушать традиционный скрежет отодвигаемого инструмента и оргазмическое соло Серафимы. Но программа концерта в этот вечер была изменена.
Глава 4.
Секретики
– Вы пока здесь постойте, я сама схожу, без вас, – Маруся сказала это настолько серьёзно, что Иван Силыч, замер на месте. Она освободила свою ладошку из его руки и шагнула в стеклянную дверь с надписью «Аптека». – Ничего личного, – улыбнулась она, обернувшись. – Только аскорбинки.
Иван Силыч давно привык к том, что Маруся в свои шесть лет, рассудительна не на шутку. Она спокойно могла поддержать разговор и о сложностях отношений мужчин и женщин, и политических протестах на Болотной, и о последней модели айфона.
– Детство у меня есть, вы не думайте, – серьёзно говорила она, предвосхищая вопросы взрослых. – Мама уверена, что я необычный ребенок, даже книжку пишет о воспитании. Все у нее советов спрашивают, вот и приходится её имидж поддерживать. Больше некому.
«Когда же возникли все эти разговоры об имидже, подумал Иван Силыч. Что было бы, если бы задумался он об этом раньше? Изменилась ли жизнь, была бы другой его личная дорожка?»
– Вы не замерзли здесь? – вывела Маруся его из задумчивости, хлопнув дверью аптеки. – Вот, угощайтесь, витамин «Цэ», берите две, врачи прогнозируют эпидемию гриппа «аш три эн два». Его, конечно, умеют лечить, но мало ли что.
– А ты откуда знаешь? – спросил Иван Силыч, начиная опасаться за свой интеллект.
– А вот это секрет, – серьезно сказала Маруся.
– Ух, ты, какая секретная! – улыбнулся Иван Силыч.
– Представьте себе! У нас, у девочек, множество секретиков – так мама всегда говорит.
Иван Силыч представил, какие секретики есть у Марусиной мамы Оли. Что он вообще знал о соседке из пятой квартиры? Молодая, сколько ей, ну лет тридцать, забористая, сразу видно. Он однажды наблюдал, как она с алкоголиками из соседнего подъезда разговаривала. Сразу было видно, что имеет большой опыт словесных перепалок. Говорит громко, с вызовом, уверена в себе, несмотря ни на что. Если бы не давняя дружба с Марусей, едва ли он нашел бы с ней общий язык.
– А давайте секретами меняться! Я вам расскажу, а вы мне. Мы в саду так постоянно играем. Согласны? – спросила Маруся, закутываясь в полосатый шарф.
– У меня скоро родится братик!
Иван Силыч удивился. Он видел Марусину маму еще сегодня утром, никакой братик там явно не был виден. Хотя у женщин всякое может быть, сегодня не виден, а завтра уже в колыбели.
– Да вы не подумайте! Братик – не мамин, а папин! Он нам на прошлой неделе звонил, рассказывал. Не понимаю, почему ему с мамой не живется.
«Все понятно», – подумал Иван Силыч. Марусиного папу он видел немного, но успел познакомиться. Тот полгода работал в банке, полгода жил за границей. Говорят, что они с Олей разбежались, едва поженившись. Игорёк явно не выдержал напористой невесты, но после развода с Олей они общались, как лучшие друзья. Видно было, что никаких близких отношений друг от друга им было и не надо.
– Ну, дядь Вань, давайте мне ваш секретик, а?
Это была просьба, которая поставила Ивана Силыча в тупик. Он мог, конечно, отшутиться и сказать, что-нибудь ребяческое. Но секрет у него был и непростой. Иван Силыч носил его глубоко в душе. Копаться в прошлом он боялся, поэтому даже обдумать по-хорошему, что произошло в его бурной молодости он не мог. А надо было. Надо.
***
Иван Корольков стал чемпионом области по боксу, ещё когда учился в институте. После его хука с левой устоять не мог никто. Корольков всегда вел бои примерно одинаково, изматывал противника наскоками, дразнил атакующими выпадами. Потом проводил серию ударов правой и, когда противник уже привыкал к повторяющимся атакам, внезапно наносил боковой удар левой рукой. Казалось бы, все примерно знали тактику Королькова, но, выходя на ринг, его противники, словно теряли логику действий и отбивались от Ивана в совершенном боксёрском хаосе. Тренеры делали ставки уже не на победу Королькова, а на минуту, на которой он уложит противника в нокаут. У Ивана точно был дар, во время боя его руки жили отдельной жизнью. Корпус, ноги – всё подчинялось стройной схеме движения по рингу и только руки были отдельно. Нельзя сказать, чтобы он был атлетично сложен. Худой, сутуловатый, нескладный, но размеру его кулаков завидовали многие.
Во дворе его любили приглашать на уличные разборки. Когда приходилось отстаивать право дворовых пацанов на футбольное поле на школьном дворе, неизменно приглашали Королька. Дворовые драки – зрелищнее любого бокса. Нет тебе здесь ни ужимок, ни прыжков, бей, как рука возьмёт. Круши, в кого попадёшь. Самое главное здесь не промахнуться по чужому, а не попасть под кулак своего. Если в разгар драки попадешь под кулак Королька – сам виноват. Смотри, куда лезешь. Дворовые пацаны его, конечно, уважали. Когда он приходил на футбольное поле, делёжка «чья очередь» сразу заканчивалась. Поздороваться с Корольком за руку считали за честь.
Иван вообще-то никогда в драку специально не лез, и агрессивным человеком не был. Его и в бокс занесло каким-то боковым ветром. Он хотел быть лепидоптерологом. Бабочки были его страстью. Но в школе открыли боксерскую секцию и тренер, увидев потрясающие способности мальчика, настоял на своем. Осознание того, как хрупок мир и мимолетна красота на чешуйках бабочек, изматывающая мощь и взрывная неожиданная сила на ринге – стали двумя составляющими характера Ивана Силыча.
В институте на него, конечно, обращали внимание девчонки. Красотой, понятное дело, он не отличался. В нем была харизма. Та самая незаметная, неуловимая сила обаяния, которая срабатывала именно в тот момент, когда нужно было ему. Он мог быть совсем незаметным в дружеской компании, а мог быть центром внимания и весь вечер «блистать на арене». Любовь случилась с Танечкой. По глупости, конечно. Отмечали очередное окончание сессии в студенческой общаге. Народу было много, кто откуда, к концу вечеринки уже никто не соображал. Танечка была красоткой. Явно старалась быть в центре внимания мужчин, и Корольку улыбалась больше всего. Как он оказался в её комнате, как проснулся в её постели, кто она вообще такая – Иван потом вспоминал с трудом. Расстались, шутили, договорились созвониться, встретиться. Всем было сладко, чего уж тут скрывать.
Через неделю за Иваном пришли. Танечка забеременела и чтобы замести следы своего откровенного блядства, указала на Королькова. Легенда её была до предела проста. Напился, приставал, ударил, изнасиловал. Свидетелей студенческой попойки нашлось множество. Все признались, что пили и валяли дурака, что Корольков схватил в охапку Танечку и к концу вечеринки, вынес ее из шумного зала. О том, что Танечку рвало прямо на ее красное кружевное платье и Иван решил помочь ей хотя бы умыться, смолчали все. Отпираться было глупо.
Для боксёра Королька удар был нокаутирующим. Изнасилование, статья, тюрьма, навечно испорченная репутация и изломанная жизнь. Для подающего надежды лепидоптеролога Ивана Силыча хрупкая жизнь дала трещину, такую же как на красной в белый горох чашке, из которой он каждый день в пять часов вечера пил чай.
Дело Королькова старались огласке не предавать. Шутки ли, один из студентов, подающих большие надежды, чемпион области, его и профессора, и тренеры боготворили. Ректор лично назначил его в именные стипендиаты. Ивана Силыча так быстро скрутили, что он даже с виновницей истории повидаться не смог. Может и переговорил бы, нашел выход из положения, женился бы, наконец. Семейные узы уж не страшнее тюрьмы. Но такой выход ему никто не предлагал, родители Танечки окончательно заявили об изнасиловании и ни накакой компромисс не соглашались. По институту пошли слухи, что боксер оказался не промах, давно баловался молодыми девчонками. Кто-то утверждал, что в баре на окраине города в пьяной драке Корольков даже убил бармена и теперь следователи собирают улики и свидетельства, чтобы повесить на Королька еще и умышленное убийство, а за это ему грозит вообще до пятнадцати лет тюрьмы.
Иван Корольков за всю свою недолгую боксерскую карьеру в нокауте не был ни разу. Но тут его состояние напоминало последствия рокового удара. Звуки доносились до него, будто сквозь пелену, тягучие долгие, отдающиеся странным эхом. Цвета поблекли, мир стал серым и чужим. Любые слова тяготили его и вызывали страшные головные боли. Хотелось молчать и думать, но от мыслей становилось еще страшнее. Что? Как? Куда? Зачем? И, самое главное, что делать? Вопросы, которые ему раз за разом задавали на допросах у следователей, впечатывались в голову гвоздями. Удар за ударом, планомерно, ритмично. Не давая времени на обдумывание и принятие решений.
Пока шло следствие и Королек с трудом, превозмогая отвращение, постигал порядки следственного изолятора. Пришло новость, раздавившая его окончательно. Танечка, пока суть да дело, сделала аборт. Причем операция прошла, конечно, подпольно, в тайне от родителей. И, конечно, с осложнениями. С большой потерей крови Танечку пришлось срочно госпитализировать уже в официальную больницу. Пара дней в реанимации, героиню спасли. Но для Ивана Силыча это стало нокаутом, от которого он встать уже не мог. Мало того, неожиданно для себя почти стал отцом. А теперь еще и, так или иначе, Иван оказался причастен к убийству нерождённого младенца. Иван, который в ладонях, осторожно, чтобы не поранить, каждую бабочку был готов часами носить на руках. Который в полевых экспедициях лишний раз боялся наступить на цветок мать-и-мачехи, чтобы не нарушить хрупкое равновесие в природе. Иван, который и фамилией своей подчеркивал мимолетность всего сущего, не король ведь, а королёк. Так, взмах крыльев и легкий полет, а вовсе не доминирование и тяжесть.
Но судьба у Ивана Силыча на подарки была щедра. Танечка вышла из больницы и что-то щелкнуло в ее распутной голове, решила всю картину своего убогого мира изменить. Рассказала о новых подробностях того рокового вечера, когда чуть не стала мамашкой. А потом оживилась в его Вселенной новая орбита. То ли небесные силы оказались к Корольку благосклонны, то ли родители подключили всевозможные связи. Пока он в ожидании этапа уже сидел на узлах, выяснилось, что ребенок, который так неожиданно объявился в Танечкином чреве, вовсе не от Ивана туда прибыл. Аборт был произведен на поздних сроках, а если учесть, что Корольков с Таней только на вечеринке и познакомился, ну никак не мог он быть виновником происшедшего. Кто настоящий несостоявшийся отец, Таня не помнила, или просто не хотела говорить.
Учитывая беспокойство институтской общественности дело быстро замяли. Но клеймо на Иване Королькове осталось. В подробностях освобождения никто разбираться не стал. «Время такое, – подумали доброхоты. – Дали денег кому надо, отмазали парня. Чемпион – разве ж его не отмажут?» Но с тех пор на боксерском ринге Иван не показывался. Да и вообще постепенно ушел в тень. Кому будешь доказывать, что ты не верблюд? Судимость, изнасилование, аборт – было? Было! Что с того, что судимость сняли? Сейчас за деньги всё снимают. Несколько лет должно было пройти, чтобы жизнь Ивана наладилась, вошла в привычное русло, хоть и искривлённое слегка бурной жизненной рекой.
Это и был его секрет. Были и другие – жизнь секретов не жалела. Но разве расскажешь об этом шестилетней Марусе.
– Так что, секретик расскажете, дядя Ваня? – Маруся потянула за рукав. – Я же вам рассказала? Так нечестно.
– Расскажу, – сказал Иван Силыч, и приставил указательный палец к губам. – Только тс-с-с! Никому! Договорились?
– Честное слово! – прошептала Маруся.
– У нас в подъезде живут волшебники! – сказал Иван Силыч и очень серьёзно кивнул головой.
Глава 5.
Семнадцать котов
Первым с сольным номером выступал Октавиан Август. Начинал он выразительно, с утробным урчанием. Его важный бас предвосхищал хоровую партию и давал возможность соседям приготовиться к регулярной десятиминутной оратории. На часы можно было не смотреть. Все знали, что через десять минут в Москве будет три часа дня, в Париже час пополудни, в Нью-Йорке семь утра, а в Петропавловске-Камчатском – полночь. Кошки из десятой квартиры начинали свой обычный кошачий концерт.
Может показаться ужасным обстоятельством, что каждый час соседи вынуждены были слушать такие концерты. Но, во-первых, кошки из десятой квартиры были воспитанными существами и подавали голос только в промежутке между девятью утра и девятью вечера. Каждые три часа, перед приемом своей кошачьей пищи. Во-вторых, за много лет это стало настолько привычным обстоятельством, что соседи его попросту не замечали. Живут же люди рядом с аэропортами и железными дорогами, отключая свой внутренний слух именно на частоте взлетающих самолетов и грохочущих поездов. И к кошачьим руладам все постепенно привыкли. Тем более, что при правильном подходе им вполне можно было придать некоторую полезность. В девять утра соседи синхронно завтракали. Коты из десятой квартиры как бы напоминали, что для каши, кофе и бутерброда с маслом самое время. В двенадцать они сигнализировали о том, что солнце близко к точке зенита и даже если светило было скрыто за серыми тяжелыми тучами, всем было ясно, что в стране полдень. Что означает сигнал в пятнадцать часов, каждый решал за себя сам. Художник Баловнёв в это время замешивал краски для новой картины, Лариса Филипповна Королькова включала телевизор для просмотра дневного телевизионного сериала, Серафима Московцева примеряла новое платье, а профессор Демьян Петрович из тринадцатой квартиры переворачивал страницу в «Дивных повествованиях земли Линьнам». Кошачий зов в восемнадцать часов звал пенсионеров к вечерней прогулке с внуками перед ужином, а в девять вечера телезрители собирались для просмотра последних новостей в вечной программе российского телевидения «Время».
Хозяевами котов из десятой квартиры были благополучные супруги: бухгалтер Шмакова и технолог Шмаков. Нина Степановна Шмакова была женщиной видной, строгой и независимой. Свою независимость она начала отстаивать лет в семнадцать, когда никто и не собирался ограничивать её ни в чем. Но обладая уже тогда яркой комплекцией и зная всё о суровой правде жизни, Нина Степановна раз и навсегда решила, что никто и никогда не заставит плясать её под свою дудку. Среди всех своих подруг она вышла замуж последней, отвергнув не меньше десятка претендентов на руку и сердце. Одним из самых запомнившихся романов была история с милиционером Тяпочкиным. Высокий блондин, голубые глаза, узкий лоб и вечная улыбка до ушей – всё было прекрасно в милиционере. Но представить, что Нина Степановна до конца жизни будет носить фамилию Тяпочкина, она не могла. Приняв простую смену фамилии при замужестве за попытку домашнего насилия, с Тяпочкиным Нина Степановна рассталась без сожаления.
Была еще история с директором городского водоканала Поджигайло. Яков Францевич – одно это имя звучало, как ноктюрн. Сколько раз повторяла его Нина Степановна весенними ночами! Яков Францевич дарил такую сирень, которой завидовала вся бухгалтерия! Девочки из маркетинга искали лишний повод зайти в кабинет главбуха, чтобы посмотреть на цветы необычайной красоты. У Якова Францевича была одна слабость – он не любил кошек. «Как же так! – с сожалением вздыхала Нина Степановна. – Как можно не любить эти прекрасные создания, это высокое «мяу» и низкое «мур»! Решение было принято, как только дело дошло до предложения о замужестве. «Яков, если мы не сможем называть друг друга «котик» и «киска», наша семейная жизнь обречена!».
Кошки и коты были слабостью нрава и силой духа Нины Степановны. Как только на её жизненном пути возник технолог Гена Шмаков, вопрос о замужестве решился сам собой. Во-первых, Гена был председателем районного клуба фелинологов-любителей, а во-вторых, по счастливому стечению обстоятельства Гена тоже носил фамилию Шмаков. Это был знак судьбы, по крайней мере в вопросе смены фамилии можно было фактически остаться независимой. Однажды, поглаживая Гену Шмакова за ухом, Нина Степановна сказала «да» и долгая семейная жизнь бухгалтера Шмаковой и технолога Шмакова началась.
Октавиан Август был любимцем семьи и вожаком кошачьего семейства. Геннадий Петрович Шмаков вывез его из кошачьего приюта в Торре Арджентина, в Риме. Полный тёзка первого римского императора был котом вальяжным и добродушным, хорошо знал себе цену и понимал, что он хозяин положения. Летняя дача Шмаковых под Коломной меньше всего напоминала древнеримские развалины, но Октавиан Август и там смотрелся настоящим императором, возлежа у фонтана и лениво пережёвывая кусочки кошачьей еды со вкусом крольчатины под чесночным соусом. Зимой, когда кошачья колония перекочевывала в городскую квартиру, Октавиан Август первым осматривал гостей семьи, благосклонно разрешая переступить порог.
Строгая Нина Степановна только перед котами готова была жертвовать независимостью. Из строгой бухгалтерши за десять роковых минут, предшествующих кормлению котов, она превращалась в робкую итальянскую гаттару, с придыханием повторяя на все лады «кис-кис» и рассыпая по мискам вожделенную еду. Правда, эта метаморфоза прекращалась ровно через десять минут, в Нину Степановну вселялся дух контроля и учета, железной рукой она сгребала миски и почти на час доме устанавливались тишина и покой.
Тиберий, Гальба, Клавдий – эти коты были из одного помета, каждого из них Нина Степановна определяла по особым пятнам на правом боку. Самым сумасбродным котом, как и полагалось был Калигула. Два раза в год он исполнял песнь влюбленного фавна так грустно, что Нина Петровна готова была сама ему отдаться, лишь бы не слышать этого рыдающего гласа страждущего императора. Ни Аспазия, ни Археанасса, ни Гликерия не могли удовлетворить Калигулу. Это было под силу только бухгалтеру Шмаковой.
Рецепт этого странного действа она не рассказывала никому, даже технологу Шмакову. Три капли валерьянки пролить на голую коленку, затем немного лавандового масла растереть в ладонях, а затем Калигула сделает все сам. Важно только в такт распевать латинское:
Karissima, noli tardare
studeamus nos nunc amare
sine te non potero vivere
iam decet amorem perficere.
Нина Степановна заметила, что без декламации Калигула начинает раздражаться. Причем нужно правильно интонировать. Так, чтобы стишок начинался с придыхания, а вся сила страсти пришлась на «синэ тэ нон потеро вивере». Несколько брачных игр страстного кота сделали из строгой бухгалтерши актрису, способную растопить сердце взыскательной итальянской публики.
Однажды, вернувшись с девичника слегка подшофе, бухгалтер Шмакова с легкостью отдалась технологу Шмакову и, в горячке, перепутав обстоятельства происходящего, начала декламировать «Кариссима ноли тардарэ…». Последующие события заставили скромного технолога-фелинолога сильно подумать о смысле своего кошачьего хобби. В разгар любовной игры в дверь супружеской спальни начали ломиться с такой силой, что Геннадий Петрович решил, что за ним пришли люди из органов времён 30-годов. Понятно, что пыл и страсть пропали мгновенно. Оказалось, что в дверь бился лбом Калигула. Услышав заветную латынь он решил, что его время пришло, хотя и не почувствовал запаха терпкой смеси лаванды с валерианой. Как ни странно, но Калигулу успокоил рыжий кот Нерон, отвесив хороший шлепок по наглой кошачьей морде. И хотя коты быстро разобрались, кто кому по какой причине спать не дает, романтическая ночь была испорчена. Геннадий Петрович тайно возненавидел латынь и, ничего не сказав супруге, на следующий день попросил правление клуба фелинологов-любителей об отставке со своего ответственного поста.
Тем не менее кошачья колония супругов Шмаковых стала известна на весь мир. В газете «Нью-Йорк Таймс» вышла статья «В обычной московской квартире живут римские императоры и гетеры». Строгий Джил Абрамсон, впервые в истории издания отдал целую страницу под фотографии шмаковских питомцев. Октавиан Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Скрибониан, Нерон, Гальба, Отон, Вителий, Веспасиан, Юлий Сабин, Тит Флавий, Домициан, а с ними Аспазия, Археанасса, Гликерия и Кинтия.
Основательница римского кошкиного дома на пьяцца Арджентина сеньора Сильвия Вивиани с официальным визитом посетила квартиру номер десять. Эта гостья приехала шумно и с большой помпой. Лимузин, который остановился у подъезда был расписан в черно-белую полоску, а из громкоговорителя, специально по этому случаю установленному на крыше автомобиля, неслась песенка Тамары Миансаровой «Жил да был черный кот за углом…». Как раз в то время, когда сеньора со свитой из репортеров и переводчиков поднималась по лестнице, ей встретился Иван Силыч с мусорным ведром.
Староста подъезда живо поинтересовался, в какую квартиру идет такая шумная процессия, на что получил в ответ богатый на эмоции итальянский монолог, несколько вспышек фотокамер и очаровательную улыбку сеньоры Вивиани.
– Спасибо, и вам того же, – сказал Иван Силыч и пожалел в этот момент, что не может сказать это на языке Феллини и Мастрояни. Из итальянских реалий он знал несколько вещей. Пицца – это круглая ватрушка с остатками вчерашнего ужина, колбасой, сыром и помидорами. Кьянти – прекрасное вино, которое почему-то нельзя закусывать малосольными огурцами, хотя это и добавляет пикантности в любой компании. Паста – это обыкновенные макароны, которые при таком именовании приобретают необыкновенный вкус пшеничных полей Тосканы. Еще он знал, что в итальянской Сицилии полным-полно мафиози, что Сильвио Берлусконе – друг нашего президента и любитель молодых девушек, что Венеция вот-вот уйдет под воду и поэтому нужно в ближайшие десять лет обязательно побывать на мрачном венецианском карнавале и, конечно, Ивану Силычу иногда являлась во сне главная красотка всех времен и народов Софи Лорен.
Долго размышлять ему не пришлось. В десятой квартире раздалась мощная партия котов-императоров. Это означало, что в Риме часы пробили час пополудни, а в Петропавловске-Камчатском – полночь.
Глава 6.
Сокровищница Нгуенов
– А я бы на вашем месте поздоровался! – сердито бросил Иван Силыч двум молодым парням, рассматривающим список жильцов на двери подъезда.
– Син тяо! Син тяо!
– Всё понятно. Син тяо, ёлки зелёные. Носит вас здесь! В тринадцатую, братцы, в тринадцатую! Четвертый этаж.
Для верности Иван Силыч показал четыре пальца и слегка подтолкнул вьетнамцев в спину. Парочка студентов скрылись в темноте подъезда.
– Дьеа чии лаа зи? – услышал он за спиной. Еще два улыбающихся вьетнамца светились, как масленичные блины. Но до Масленицы было еще едва ли не полгода.
– Это те же или другие? – удивился Иван Силыч. – Моя твоя не понимай, но точно знаю, что вам в тринадцатую! Четвертый этаж! Велком, май фрэндз! Четвертый э-таж! – снова четыре пальца. И снова вьетнамцы растворились в темноте.
– Тяо куи ом! – в эту же секунду за его спиной раздался радостный тонкий голос невесомого создания в нелепой шапке и длинном шарфе. Иван Силыч обернулся и зарычал: Три-над-ца-та-я! Чет-вер-тый этаж!
Создание пропищало: «Кам он» – и скрылось в темноте.
Иван Силыч с утра был не в духе. День пасмурный, небо серое. Захотелось выпить чего-то горячительного. Пару стаканов. Никогда раньше Иван Силыч себе такого не позволял. А тут словно планка упала с барьера, который давно нужно было взять. Два стакана коньяку – это много или мало? Как в студенческие годы. Без всяких церемоний и политесов, типа «хороший коньяк» или «за что пьем». Просто так, для того, чтобы согреть душу поздней осенью. И все равно – промозгло и сыро, а тут еще эти представители маленького, но гордого народа. Что-то зачастили они в последнее время к нашему профессору, как бы не было беды! А вдруг международный шпионаж?! А вдруг – подготовка диверсии против страны? Надо с ним серьезно поговорить, вечно он темнит. Пора уже вывести вьетнамского профессора на чистую воду. Иван Силыч был настроен решительно.
В маленькой квартирке на четвертом этаже свет не зажигали. При свете четырех керосиновых ламп за длинным столом несколько людей читали книгу, водили пальцем по строчкам и по очереди вслух повторяли слова заклинания «ма-ма-мы-ла-ра-му-ра-ма-су-ха…». Книгу передавали друг другу по кругу. Демьян Петрович сидел во главе стола, иногда довольно кивал головой, повторяя «тот-тот», а иногда с сомнением произносил «там-там».
На словах «у-му-ры-шу-ра» раздался грохот, дверь широко распахнулась и в квартиру ввалился Иван Силыч, из-за его спины показались два казака в папахах и с красными повязками на рукавах. Студенты вскочили, Демьян Петрович встал и включил верхний свет.
Иван Силыч, казалось, испугался сам себя: «Извините, Демьян Петрович, тут это, того самое, проверка документов. Нет ли, типа, незаконных жильцов, ну и всё такое». Казаки за его спиной приняли воинственный вид: «Документы, будьте добры!». Почти по Гоголю, повисла туманная пауза. Вьетнамцы испуганно переглядывались и потихоньку, по-птичьи, защебатали.
– Какие к черту документы! – вдруг пошел в атаку Демьян Петрович. – Вам паспорт дипломатический показать? Или удостоверение полковника контрразведки? Или диплом доктора наук? Ра хой дои! Кон чо би хэ! – последние слова он рявкнул так, что Иван Силыч мгновенно протрезвел. Совсем было непонятно, о чем это, но ясно было, что это какое-то страшное вьетнамское ругательство.
Казаки с красными патрульными повязками подались назад, испугавшись такого профессорского напора и приготовясь к отступлению, стали разводить руками:
– Да ладно, чё, мы ничё! Нам сигнал дан, мы на сигнал пришли. Всего хорошего, извиняемся!
Казаки исчезли так же неожиданно, как и появились. Незадачливый Иван Силыч оказался лицом к лицу с профессором.
– Иван Силыч, ну вы-то куда! – укоризненно сказал профессор. – Не будьте Швондером хоть вы, не тридцать седьмой на дворе. Зайдите в квартиру, вот тапочки. Садитесь, будем знакомиться с моими учениками.
Через полчаса в голове Ивана Силыча окончательно прояснилось. Пока студенты с соблюдением всех их шаманских обрядов заваривали чай гостю, Демьян Петрович быстренько посвятил его в перипетии вьетнамской истории, которая началась во время страстной любви Великого Дракона Лак Лонг Куана и Бессмертной Феи Ау Ко.
– Никто не знает, почему любовь Феи и Дракона расстроилась… – нараспев рассказывал Демьян Петрович.
– Да ладно, с кем не бывает, – с ходу комментировал Иван Силыч. – Любовь-морковь, тары-бары, туда-сюда, дело молодое…
– … но только разошлись они в разные стороны. Пятьдесят сыновей пошли с матерью в горы, а пятьдесят пошли с отцом к воде. От этих ста сыновей и пошли сто племён древних вьетов, – закончил свою мысль профессор.
– Ничего себе! – присвистнул Иван Силыч. – Сто сыновей что ли у них было! Ого! А, да! Он же дракон! Силён!
Ивана Силыча удивляло всё, он уже с любопытством смотрел на вьетнамцев и пытался разглядеть в каждом из них наследственные черты дракона и феи. Слезы потекли по небритым щекам старика, когда профессор перешел к рассказу о том, как китайцы несколько раз захватывали племена вьетов, а те изо всех сил боролись за независимость. Настоящая радость охватила его, когда Демьян Петрович радостно сообщил, что правитель Ле Дай Хань в самом конце десятого века все же разбил оккупантов и на вьетнамской земле началась эпоха ранних Ле.