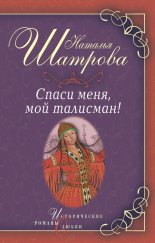На площади и за рекой Аксенов Василий

Всю ночь ждали, и во всем нашем ветхом деревянном доме в центре Казани, в бывшем особняке инженера-промышленника Жеребцова, во всех десяти комнатах-квартирах постоянные жильцы и эвакуированные сидели на венских стульях, на табуретах, на сундуках, тихо переговариваясь друг с другом и поглядывая на серые тарелки радиоточек, а мы, мальчишки, копошились в захламленном коридоре, играли в «махнушку», покуривали, никто нас не гнал спать.
То ли был дождь, то ли чистая луна освещала замершие в ожидании улицы, то ли был ветер, то ли полный штиль, то ли были мы голодны, то ли сыты – все это не имело никакого значения и не замечалось в эту ночь.
Конечно, мы знали уже несколько дней, что Берлин взят и вся Германия занята нашими и союзными войсками, но неужели именно сегодня объявят о том, что кончились эти четыре года, эти четырежды четыре года, что никто в доме, во дворе и в школе не получит больше похоронок, что всем злодействам Гитлера пришел конец.
«Махнушка» – странная игра военных лет, странный спорт. Она пропала вместе с войной, и нигде и никогда после я не видел детей и подростков, подбивающих сапогом кусок собачьей шерсти, утяжеленный свинцовой пломбой. Чемпионом «махнушки» был вертлявый подросток – Дамир Фазиев. Он бил и бил, число ударов перешло уже за полтысячи, а «махнушка» все не падала на пол, нога чемпиона работала, как шатун, а сам он болтал, скалил в улыбке желтые, прокуренные зубы.
«Дамир» – это значит «Даешь мировую революцию». От сокращения этих слов получилось благозвучное восточное имя. Была также среди нас девочка Эльмира, что означало полностью «Электрификация мира», и девочка Велира – «Великий рабочий».
Итак, Дамир исполнял свой коронный номер, а мы сидели на продранном матрасе: Эльмира, Велира, Рафик Сагитов, Боря по кличке Пузо, Севка Пастернак, Толик, Валерик, Шурик и я. Говорили мы о том, о чем многие дети говорили в то время, – о пленении самого Гитлера и о наказании проклятого злодея.
Вот, представьте, огромный чан, а в нем кипящее олово, и ме-е-едленно туда… Нет, гораздо лучше – в словаре Брокгауза и Ефрона описана китайская казнь «тысяча кусочков»… В клетку, в клетку Гитлера и возить по всем городам…
Гитлер, комически-ужасный, то тигр, то обезьяна, то шакал, то с топором и до локтей в крови, а то пригорюнившийся по-бабьи – «потеряла я колечко, а в колечке двадцать две дивизии», – вставал перед нами с бесчисленных карикатур и сатирических плакатов.
Разволновавшись, мы шебуршали на матрасе, и из-под нас выскакивали распрямляющиеся пружины.
В другое время на нас бы шикнули, накричали, разогнали бы всю капеллу, но в эту ночь взрослые бодрствовали и тихо бродили из комнаты в комнату, тихо переговаривались, кое-кто всхлипывал. Лишь из квартиры молодого инвалида Миши Мамочко в полуподвале доносилось пение и женский визг.
Юрисконсульт Пастернак Нина Александровна курила большую папиросу, преподнесенную ей в эту ночь тетей Зоей, работницей кондитерской фабрики имени Микояна. Всю войну Нина Александровна тяжко бедствовала, мазала свечкой сковородку, жарила на стеарине картофельные очистки, молча слезилась, а иной раз громко рыдала, говорила что-то интеллигентное, скрытно-умоляющее, а иной раз с площадной бранью обрушивалась на Севку. Никак не могла она приспособиться к военному быту, и соседи кое-как от жалких своих средств старались ее тянуть, кое-как поддерживали, приглашали вечером к печке погреться. Нина Александровна у печки оживала, расстегивалась, развязывалась, убирала вечную свою капельку с кончика носа, рассказывала о крепдешиновых платьях, о чебуреках на Военно-Грузинской дороге. Потом засыпала с открытым ртом.
От того блаженного времени, от золотого века «до войны», сохранилась у нас патефонная пластинка, морская раковина и фотоснимок с пальмами и надписью «Привет из Алупки». Пластинка пела: «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой, родной…», а на обороте: «Саша, ты помнишь наши встречи… весенний вечер… каштан в цвету… как много в жизни ласки… как незаметно бегут года…» Пластинка пела молча, в памяти, ибо патефон давно уплыл на барахолку, на Сорочку, туда же, куда уплыли крепдешиновые платья Нины Александровны.
Тетя Зоя, напротив, была добрым гением нашего дома. Она была Милостью Божьей Экспедитором кондитерской фабрики имени Микояна. Помню, в первый год войны наше семейство после ухода на флот дяди как-то растерялось, растеклось. Мы не могли «прикрепиться» ни к одному магазину, и продовольственные карточки пропадали втуне. Явилась тетя Зоя, собрала целый ворох бесполезных розовых бумажек и заявила:
– С «жирами» ничего сделать не могу, а «сахар» отоварю у себя полуфабрикатом.
Полуфабрикат оказался коричневой, пахучей, невероятно сладкой мнимошоколадной массой.
В эту ночь тетя Зоя затеяла пироги. Вдруг ожила и загудела в коридоре огромная русская печь, которая давно уже, много лет, печью не считалась, а рассматривалась скорее как памятник промышленнику Жеребцову. Тетя Зоя была самой активной и оптимистичной, хотя муж ее погиб еще в первый год. Она уже готовилась к коллективному пиршеству, а другие жильцы хоть и готовились, но робко, нерешительно, все еще не веря, что Это произойдет сегодня.
– Сегодня, – говорил фотограф дядя Лазик работнику обкома Камилу Баязитовичу, – из достоверных источников – сегодня. Камил Баязитович, ведь сегодня, не правда ли? Ну скажите, все уже знают…
– Терпение, товарищи, – посмеивался Камил Баязитович. – Терпение и труд все перетрут. Всякому овощу – свое время. Будем живы, не умрем. Сегодня или завтра, объявят – узнаем. Главное – враг разбит, победа за нами.
По коридору прогуливалась белокурая красавица, внакидку синее пальто – дар заокеанского союзника, моя сестра Инна.
- Я иду не по нашей земле,
- Занимается серое утро.
- Вспоминаешь ли ты обо мне… —
напевала она и улыбалась, погруженная в свои особые, свойственные лишь красавицам мысли.
Распахнулась дверь полуподвала. Рыкая, вылез могучий Миша Мамочко, темный элемент. В полуподвале у нас была «малина», а сам молодой силач, как потом выяснилось, был главарем подпольной артели каких-то гоп-стопников, попрыгунчиков, какой-то банды вроде знаменитой «черной кошки». На фронте Миша был две недели и ранение получил, подобно Ахиллу, в пятку, но не погиб от этого, как древнегреческий герой, а, напротив, вернулся, спасся, и военкомат больше его не тревожил. Обычно он ходил прихрамывающий, молчаливый, с загадочной улыбкой, в хромовых «прохорях», с палочкой, бузил шумно, но редко и в полуподвале, не на глазах. Все его боялись невероятно, он был спокоен и снисходителен к соседям, и лишь одна у него была слабина – белокурая медичка Инна не давала ему покоя.
Сейчас он приступил к моей сестре, выпирая мускулами из шелковой майки, поддавая плечом, небрежно, вбок рыча:
– Пойдем, Инка…
– Да ну вас к черту, Мамочко! – хохотала Инка.
– Смотри, «летуны» твои разлетятся, а Мамочко останется, будь спок. Я тебя еще потрогаю своими ручками.
– Стыдитесь, Миша, сегодня война кончается, а вы… – воскликнул дядя Лазик.
– Война! Война! – вдруг заорал Мамочко кривым ртом. – Кому война, а кому мать родна!
– Позор! – воскликнула Нина Александровна.
– А вот я сейчас его ухватом! – крикнула тетя Зоя.
– Держись в рамках, Мамочко, – сказал Камил Баязитович.
– Дорожку не спеша старушка перешла, – запел Миша, – навстречу ей идет милиционер.
- Свисток не слушали,
- Закон нарушили,
- Платите, бабушка,
- Штраф три рубля…
Играя в такт большими белыми плечами и выставив впереди растопыренные пальцы, он двинулся на дядю Лазика, но в это время по всему дому из всех радиоточек медлительно прозвенели позывные московского радио, и разом застучали на улице пистолетные выстрелы, послышалось «ура».
Под окнами на мокром асфальте с поднятыми пистолетами стояли Инкины «летуны», три молодых наших красавца с тросточками, а одна рука на перевязи, а одна нога в гипсе, а четвертым был француз с костылем, выздоравливающий офицер из полка «Нормандия—Неман». Все четверо вопили «ура», палили в воздух, в серое, едва пробуждающееся небо и сияли сияющими глазами, молодыми глазами победившей молодежи.
– Инка, победа!
– Победа!
– Инка!
– Внимание! Говорит Москва! – наплывал из репродуктора левитановский раскат.
Француз плясал вокруг своего костыля. Победа необозримой танцплощадкой, феерическим дансингом сияла перед колченогими Инкиными мальчиками.
А мы, зашвырнув куда-то «махнушку» и не дослушав даже приказ, сыпанули по улице Карла Маркса к центру нашего города, к площади Свободы – Дамир (Даешь мировую революцию), Эльмира (Электрификация мира), Велира (Великий рабочий), Рафик Сагитов, Боря по кличке Пузо, Севка Пастернак, Толик, Валерик, Шурик и я.
Мы бежали изо всех сил, и все рвалось перед нами, все открывалось с треском, с хлопаньем, мгновенно, на миг, как будто лопалось в разных местах беленое полотно, – первый луч солнца, одна голубая лужа среди множества темных, косичка, бантик, красный флаг, самолет, лошадь, моряк – ярко и навсегда.
Когда мы выбежали, улица была пустынна, а к площади мы подбегали уже в густой бегущей толпе, а на площади в лужах под окнами юридического института уже танцевали студентки, и подъезжали уже трамваи, обвешанные людьми, и на столбах висели уже мальчишки, и вывешивались лозунги на Доме офицеров, на заводе «Пишмаш», и за колючей проволокой со строительства оперного театра кричали и махали пилотками – вот чудо! – пленные мадьяры, и… и… мы все бежали, боясь куда-то опоздать, что-то упустить, и опомнились только на башне пленного «Тигра», с бессильно повисшим орудием, который вот уже года два стоял на площади среди других трофеев.
Появились самолеты, два самолетика «ПО-2». Они спустились так низко, что можно было видеть смеющиеся лица летчиков. Они пролетели прямо над трубами и рассыпали множество листовок: «С победой, товарищи!» Потом листовки эти стали бросать из окон Дома офицеров, с крыш, а бипланы целый день улетали и возвращались с новыми порциями листовок.
Мы сидели на грязном чудовище, которое кто-то где-то когда-то любовно ковал для того, чтобы всех нас убить, а теперь чудовище было понурым и жалким, со стыдливо опущенной пушкой, а мы сидели на нем для того, чтобы все видеть вокруг, а вокруг было…
Леонид Утесов:
- Барон фон дер Пшик
- Отведать русский шпиг
- Давно уж собирался и мечтал…
– Девочки, девочки, ловите старшего лейтенанта! Качать его, качать! Ой, батюшки, сил нет! Ой, умру!
Клавдия Шульженко:
- В запыленной пачке
- старых писем
- Мне случайно встретилось одно…
– Ребята, а где же Гитлер? Неужели утек? Его убили? Дудки! Его видели в Дублине переодетым. Подводная лодка Гитлера замечена возле острова Гельголанд. Убежал, зараза? Да нет, он отравился…
Марк Бернес:
- Рыбачка Соня как-то в мае,
- Направив к берегу баркас…
– Что же теперь будет? Ах, как будет славно! И карточек не будет? И чумары не будет? И толкучки не будет? А что же будет? Будет масло и сыр, вишневое варенье, и будет футбол. Бутусов опять будет ломать штанги, а я поступлю в университет, ах, как будет славно!
«Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Я солдат девятой роты, тридцать первого полка…», «На позицию девушка провожала бойца…», «Над светлой и чистой любовью моей фашистские псы надругались…», «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая чья-то рука…», «И вот он снова зазвучал в лесу прифронтовом…».
Вот идут наши герои, наши кумиры, и не в строю, не печатая шаг, а взявшись под руки, словно девушки, и смеясь, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, все рода войск, идут, бренча орденами в медалями. А вот – о боже! – моряк с гвардейской черно-оранжевой лентой, почти такой же фантастически прекрасный, как наш тихоокеанец дядя.
Прибежал потерявшийся было Пузо.
– Ребята, за мной, там подполковник всем мороженое дает!
С «Тигра» всех как ветром сдуло, и все – к подполковнику, который медленно двигался в толпе, толкая перед собой тележку. Тележка была закуплена им целиком по коммерческой цене, и он угощал всех ребят – всех, любого без разбора, – коричневым кислым мороженым, странным мороженым тех лет, сделанным из невероятно странного молока «суфле».
Я много бы дал за то, чтобы вернуть тот день и особенно тот миг, тот мой восторг, когда над площадью чистым серебром запели фанфары и мы увидели слона. Огромный серый лоб и спина слона плыли над толпой, а на спине стоял мальчик-униформист с трубой. А за слоном горделиво шествовал ученый верблюд. Это был цирк Дурова, гастролировавший тогда в Казани. В полном составе он вышел на улицы, чтобы поздравить горожан.
Впереди на белом коне ехал сам Дуров в гусарском костюме, расшитом золотом. Ментик, кивер, сабля и ташка – все как полагается. Дуров держал в одной руке знамя, в другой – пылающую трубу. Далее следовал, поводя хоботом, слон. В огромном сердце слона, конечно, бушевал восторг, но он сдерживал себя, слонище, и деловито топал вслед за танцующим крупом лошади. На боках его висели фанерные щиты с надписью «Победа». Подскакивая, мы цапали африканца за бахромчатые уши, и в другое время он, конечно, пресек бы такое нахальство, но не в этот же день, и он дарил нам эти прикосновения так же, как подполковник мороженое.
Корабль пустыни шествовал далее с униформистом между двумя косматыми горбами, с такими же, как у слона, фанерными щитами на боках. Трудно, конечно, было ему смахнуть с морды гримасу вечного презрения, но все же в отвислых его губах таилась улыбка.
За верблюдом, вообразите, катила «эмка», на крыше которой сидел леопард. Хищник туповато и вяло поводил желтыми глазами, видимо, слабо разбираясь в обстановке, зато медведи внутри «эмки» вели себя шумно и даже разухабисто, крутили мордами, махали лапами, били друг друга по плечам.
А дальше бежали, бренча и топоча, три упряжки пони в бубенцах и лентах, а в разукрашенных колясках множество было набито всякого зверья, а также там сидели артисты с гармониками и дудками.
И вся эта немыслимая кавалькада прошла через площадь Свободы, потом по улице Лобачевского, мимо Черного озера, потом по Чернышевского к нашему белому кремлю, потом спустилась на улицу Баумана и докатилась до Кольца и снова вверх по улице Куйбышева к площади Свободы, и все это в серебряном пении фанфар, в мелькании самых ярких красок под абсолютно голубым небом, и так они топали, цокали, бренчали, трубили, словно отделяя этим своим шествием для всех ребят военные, прошлые годы от будущих – мирных.
Кажется, солнце держалось в этот день гораздо дольше, чем ему полагалось по календарю, но все же оно село, укрылось в далеких и таинственных западных районах города, и голые ветви деревьев резко обозначились на голубовато-зеленом небе, и лишь тогда мы вернулись в наш дом, пропахший сдобными пирогами, в скрипучий уютный ковчег, болтающийся среди весеннего моря.
К исходу ночи пироги были съедены, и в доме воцарилась блаженная, сытая, чуть-чуть урчащая тишина. Только лишь ходики работали сильно, напористо, даже ожесточенно.
Я лежал на своем диванчике и думал об этом дне и обо всем мире, в котором прошел этот день. Огромность мира в те годы тревожила меня, казалось невероятным существование чужих и далеких стран, совершенно равнодушных к нам и к нашей судьбе. Я думал о том, что вот этот-то уж день прожит всем миром одинаково, что в этот день у всего мира была только одна общая новость, и эти мысли успокаивали меня и наполняли ощущением некоей странной гармонии. Я закрыл глаза и растворился в этом блаженном состоянии…
…Вдруг я услышал шарканье чьих-то ног у нашего подъезда, тихий стук костяшками пальцев в дверь. Стук был коротким, но шарканье не прекращалось: кто-то тщательно вытирал ноги о крыльцо. Стук повторился.
Я натянул штаны, накинул телогрейку, тихо вышел из комнаты и спустился в подъезд. Там уже стояли Дамир, Велира и Севка Пастернак.
– Кто-то стучит, – боязливо сказала Велира.
– Кто там? – крикнул Дамир.
– Откройте, пожалуйста, – послышался за дверью глуховатый мужской голос.
В подъезд один за другим входили наши ребята. Дамир открыл дверь. На крыльце стояла какая-то сутулая фигура в черном, сильно поношенном пальто, в шляпе. Из-под широких обвислых брюк матово блестели головки новых калош.
– Вам кого? – сердито спросила Эльмира.
– Тише! – оборвал ее Севка. – Что ты, не понимаешь?
– Я, собственно, просто так, – пробормотал человечек. – Проходил мимо и решил постучать. Должно быть, нервы…
– Вы, наверно, по запаху, – любезным голосом сказала из-за наших спин тетя Зоя. В руках у нее был ухват. – На пирожки потянуло? Заходите, попотчуем.
– Нет, спасибо, что вы, я в самом деле ошибся, ваш дом пятьдесят пять, а мне нужно двадцать два. Сами понимаете, как похожи эти цифры. Просто посмотрел не с того ракурса, – бормотал человечек и продолжал осторожно отступать.
– Севка, Васька, Борька, заходите справа, – скомандовал Дамир.
Человечек резко повернулся и побежал. Мы бросились за ним. Мы бежали очень быстро, но никак не могли его догнать. Прямо перед нами мелькали его новенькие калоши, слышались прерывистые хрипы, вырывающиеся из его груди, но дотянуться, схватить за полу черное развевающееся пальто никому не удавалось.
Уже начинало светать, и в конце гулкой улицы небо было розовым, низко висели трамвайные провода, орали грачи в пустых садах.
– Простая ошибка, элементарная путаница! Думал, двадцать два, оказалось – пятьдесят пять! – дико заорал человек, резко свернул за угол, в туче брызг пролетел по лужам сквера и дунул вниз по Поддужной, к тускло светящейся ленте речки Казанки, за которой начинались уже поля и синели, розовели, зеленели маленькие озерки. Он бежал прямо к узкому дощатому Коровьему мостику.
– Неужели не догоним, неужели уйдет?! – крикнул я.
– Как же, уйдет! Там наши! Попался, голубчик! – закричала тетя Зоя.
На мосту действительно были наши – Инка и ее «летуны». Красавица сидела на перилах, свесив кудри, офицеры играли на гитарах, а француз пел никому из нас не известную песню:
- Как я хочу в вечерний час
- Кольцо Больших бульваров
- Обойти хотя бы раз…
– Ну вот, уже гонят! – воскликнула Инка. – Мальчишки, только не стреляйте – надо живьем!
Офицеры, раскрыв объятия, побежали к человечку, но тот вдруг оторвался от земли и тяжело полетел над рекой Казанкой, заваливаясь, ухая, стеная, рыча, то ли как сова, то ли как подстреленный бомбардировщик.
– Эх, где же мой «Як»! Где же мой «Илюшин»! Где же моя «Аэрокобра»! – в досаде закричали «летуны». По мосту загрохотали их сапоги и наши дырявые ботинки.
Человечек неуклюже приземлился на другом берегу и побежал по полям, по вязкой весенней земле.
Мы мчались за ним мимо озер под бледной луной и розоватой зарей, смешались ночь и день, черное пальто все трепыхалось перед нами, и мелькали калоши.
В одном из озер по пояс в воде стоял голый Миша Мамочко.
– Берлин брал, кровь мешками проливал! – заорал он. – Вся грудь в крови! – завопил он, нырнул и вынырнул. – Искусана клопами! – захохотал он. – Граждане, червонец за шутку!
На берегу другого озера сидел с удочкой Камил Баязитович. Увидев погоню, он вскочил.
– Так и знал, что клюнет! – закричал он. – Вот это щучка.
Однако человечек снова совершил полет над озером на распластанных вроде бы драповых, вроде бы бронированных крыльях и, вновь приземлившись, пустился в поля.
Впереди, на холме, у треноги фотоаппарата суетился дядя Лазик, а рядом стояла с поднятой кверху рукой юрисконсульт Пастернак.
– Готовьте магний, Нина Александровна! – покрикивал дядя Лазик. – Снимок для истории! Оп!
Вспыхнул магний, на мгновение все вокруг стало черным и белым.
– Готово!
Человечек бежал уже тяжело, калоши застревали в липкой земле, но он никак не хотел с ними расстаться.
И вот запели, зазвенели во всем чистом поле серебряные фанфары, и в розовом утреннем свете встали на горизонте конный гусар, и слон, и верблюд, и четыре медведя на крыше «эмки», и три упряжки игривых пони, и в колясках множество всякого другого зверья, и артисты с гармониками и дудками.
– Гу-у-у-у! – заголосил человечек. – Гу-гу-гу! Чучеро ру хиопластр обракадеро! Фучи – мелази, рикатуэр!
Взмахнув крыльями, он медленно поднялся в воздух, пролетел, нелепо кувыркаясь, малое расстояние и ухнул в какое-то зеленое озерцо.
Когда мы подбежали, озеро шло кругами. В глубине мгновенно промелькнули знакомая косая челка, усики и оскал, потом все пропало.
– Капут Адольфу, – сказал Дамир и вытер пот.