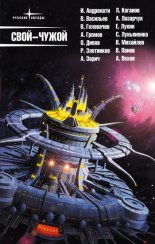Бел-горюч камень Борисова Ариадна

© Борисова А., 2022
© ООО «Издательство «АСТ», 2023
Часть первая
Огокко[1]
Глава 1
В третьей ссылке
Мария Митрохина и Хаим Готлиб были родом из Клайпеды, откуда русских повымело за несколько месяцев до Первой мировой войны, а евреев – за год до Второй[2]. Молодая чета перебралась в Каунас, но 14 июня 1941-го ее в числе десятков тысяч политически неблагонадежных жителей Литвы без суда и следствия депортировали в Алтайский край. Там спецпереселенцы работали в колхозах, а следующим летом их забросили на острова Великого Ледовитого океана в море Лаптевых поднимать подточенную войной рыбную промышленность страны.
После победы над фашистскими захватчиками рыболовецкий участок № 7, названный по фамилии заведующего Мысом Тугарина, был ликвидирован. Рыбаков распределили по заводским и шахтерским поселкам – советская власть не предусматривала для социально чуждого контингента иного рода деятельности, кроме ТФТ[3]. Спецотдел отправил большинство тугаринских подопечных на шахты, Готлибы с другой группой попали в районный центр близ Якутска на кирпичный завод.
Прибывшие встали на учет в здешней комендатуре НКВД, где их поздравили с допуском на голосование за кандидатов в депутаты районного Совета трудящихся и Верховного Совета СССР. В остальном правовой порядок реформ не претерпел: комендант зачитал правила ежемесячной регистрации и предупредил о запрете выезда за пределы поселка на пять километров без сопроводительного документа. Самовольная отлучка каралась штрафом или недельным арестом, о чем узники, подверженные режимным ограничениям не первый год, прекрасно знали.
Впрочем, быт вместе с трансформацией ТФТ изменился не в пример островному. Всего несколько дней назад они ютились в многолюдных юртах с рыбьими пузырями в прорубах окошек и железными бочками вместо печей, а тут начальство выделило семьям по комнате с застекленным окном, подпольем и, главное, с настоящей кирпичной печью… Цивилизация! Для пущей сохранности тепла бревенчатые бараки были обнесены завалинками, набитыми землей и шлаком.
Доставшееся Готлибам помещение предыдущие жильцы содержали в чистоте, оставили нары и стол. Выпросив на пилораме досочные обрезки, Хаим сколотил табуреты, Мария повесила на окно вышитую крестом занавеску из белой американской мешковины. Любуясь новообретенным гнездышком, они наконец поверили, что неотвязный запах рыбных кишок, полярная ночь и штормовые ветра отступили в прошлое.
Контора рассчитывалась с рабочими продовольственной месячной нормой: по полкило муки, масла, сахара, а хлеб выдавали ежедневно. Это был честный, без опилок и других примесей, хлеб из местных злаков, в не успевшем выветриться благоухании поселковой пекарни. В списки довольствия включили иждивенцев – немыслимая роскошь по сравнению с выживанием на морском побережье, где в первые годы переселения умерло от голода больше трети «врагов народа», преимущественно стариков и детей. «Тунеядцам», как называл Тугарин неработающих членов рыбацкой коммуны, пайков не полагалось.
Осень удивила долгим теплом. Умудренные арктическим опытом люди все свободные часы собирали бруснику в окрестном лесу и, по чьему-то совету, чагу – черные березовые грибы-трутовики. Напиток из чаги имел чайный вид и вкус с приятной кислинкой, а с добавлением сушеных ягод шиповника считался лекарством от желудочных болей.
Заводской околоток располагался в стороне от поселка рядом с деревней. Когда пришла пора убирать овощной урожай, мужчины между сменами подсобили крестьянам. Агроном распорядился подвезти помощникам по мешку картошки и, не унизив вопросами, позволил очистить свекольное поле от ботвы, которую обычно скармливали скоту. «Островитяне» заквасили сочные порубленные стебли в берестяных торбах, пересыпали слои солью, брусникой и шикшей – получилась кисло-терпкая разновидность винегрета. Как могли, запаслись витаминами к зиме.
В три смены со скользящим выходным Мария доставляла из сушильных камер кирпичсырец к печам в рельсовой вагонете и возила к пункту приема штабеля готовой продукции. Муж стоял на обжиге. Казалось, еще вчера вытаскивал рыбу из жгучей, как кипяток, ледяной воды, а теперь вынимал из печей раскаленные кирпичи. Муфельный жар выкручивал исковерканные стужей кисти рук, пузырил и обдирал кожу с пальцев. Двухслойные брезентовые рукавицы, сколько их ни латай, быстро обгорали, к оставшимся от обморожения рубцам прибавлялись шрамы ожогов. К счастью, в свободной продаже появилось хозяйственное мыло. Верхонки, пропитанные концентрированным мыльным раствором, стали меньше рваться.
Спецотдел разрешил выдавать зарплату перемещенным лицам. Выяснилось, что десять процентов заработка поверх подоходного налога с них удерживаются по-прежнему, но само жалованье почти на четверть выше рыбацкого. «Лица» начали покупать молочные продукты у частников, лесную дичь – зайцев, рябчиков, глухарей, в изобилии водившихся в близкой тайге. Не видя в приезжих врагов, коренные жители охотно поддерживали с ними добрососедские отношения.
Жизнь вроде бы повернула к лучшему… Раненные тоской о первенце, потерянном в Каунасе по воле злосчастного случая, Готлибы снова решились на ребенка.
В малокровном теле Марии беременность протекала болезненно, но плод сумел зацепиться и держался крепко – очевидно, унаследовал отцовское упрямство.
За неделю до родов Хаим предложил назвать сына – если будет сын – Зигфридом, если дочь – Изольдой.
– Изольда? – удивилась Мария. Имя для мальчика она пропустила мимо ушей: опытная фельдшер-акушер уверенно предсказала ей пол ребенка. – Изо льда! Ты понимаешь, что говоришь?! Мы сами еле вырвались изо льда!
– Мы выжили, – тихо возразил муж.
С юности влюбленный в музыку Вагнера, он не хотел верить в приверженность композитора к нацизму – и не верил, как не разделял и народной неприязни, отметавшей все немецкое, будь то Вагнер, Дюрер или Гете. Острое чувство прекрасного превосходило в Хаиме национальную осторожность, которую евреи впитывают с молоком матери. А может, в жилах строптивца текла неведомая кровь, более огнеупорная, чем у остальных детей Израиля. Он легче других сносил напасти и в непредвиденной обстановке мгновенно переходил от растерянности к действию. Наперекор экспериментам пересеченной бедствиями судьбы в нем не тускнел свет какого-то неиссякаемого жизнелюбия. Хаим сохранял душевное равновесие в пыточном холоде, не отчаивался, если тело грыз голод, и никогда ни на что не жаловался. Не умел.
На самом деле, думала Мария, муж оставался таким, каким Бог создал человека изначально, – с любовью к жене, семье, миру. Будучи добродушным от природы, Хаим мало общался с людьми лишь потому, что сами они изменились с тех пор, как ушли от веры… Ну и к тому же он, всегда чем-то занятый по дому, просто не удосуживался завести новые знакомства.
– У имени «Изольда» синие глаза.
– Твоя привычка все поэтизировать иногда неуместна… даже невыносима! – вспылила Мария. – Ты забыл, что ирландская принцесса была несчастной? Что станет с девочкой? Отчество с фамилией как скроешь?
Муж настаивал хрипловатым голосом:
– Она будет счастливой.
Хрипотца, словно он молниеносно простыл, возникала у него от волнения, но когда пел, голос звучал чисто. У Хаима был чудесный оперный баритон.
– Почему не Анна, не Ирина? Не Софья – по имени моей мамы…
Улыбаясь, он обнял жену:
– Я представляю нашу дочь с солнечными волосами, как у тебя.
– Разве ты не видишь – я седая!
– Все равно рыжая, – засмеялся Хаим. – Моя королева.
– Ты хочешь, чтобы девочка походила на королеву Кристину из фильма… на Грету Гарбо, как я когда-то, и переживала из-за этого, как я?!
– Ты не Гарбо, ты – Мария, и другой такой нет на свете…
Впервые ее томила и угнетала безмятежная уверенность мужа, упорно не желающего ничего замечать за пределами выстроенного им мирка. Хаим вел себя так, будто зло на земле развеялось не стоящим памяти прахом и всесильное счастье ожидает их будущего ребенка. Только теперь Мария искренне посочувствовала матери упертого фордыбаки: в свое время Геневдел Рахиль Готлиб тщетно пыталась вести борьбу с возмутительным романтизмом сына.
– Никаких Изольд! Ни за что!
Он промолчал.
Мария не разговаривала с мужем почти до поступления в больницу. За годы брака это была их единственная серьезная размолвка.
Глава 2
Вещий сон
В маленькое родильное отделение стационара Мария попала одновременно с якуткой Майыыс Васильевой, жительницей деревни. Кастелянша выдала им одинаковые байковые халаты и белые косынки. Женщины переоделись, повернулись друг к другу…
Пережив легкий шок, Мария, несмотря на начавшиеся боли, едва не расхохоталась: Майыыс можно было назвать Гретой Гарбо в азиатском исполнении, словно небесному ваятелю позировала одна и та же чуть подправившая грим натурщица. Одного роста и сложения, примерно одного возраста, с неправдоподобно родственными чертами лиц – только цвет и разрез глаз разные, – поступившие роженицы вызвали изумление и у акушерки:
– Бывает же такое! Прямо как сестры!
Больничную тишину не взорвали их свирепые крики. Изнуренной схватками Марии недоставало сил кричать, а Майыыс почти и не стонала из-за присущей женщинам ее народа выносливости.
Зато дети оказались горластыми. Первым подал басовитый голос якутский мальчик. Спустя полминуты девочка, покинув надсаженное недужными почками материнское лоно, заплакала сердито и на удивление громко для крохи весом в два кило триста, будто спешила завоевать право кормежки из богатой молоком груди Майыыс. Мария выдавила из своих сосков несколько капель молозива, и это было всё.
Вручая мамочкам наборы в бумажных пакетах с изображением пухлого младенца – по восемь метров яично-желтой фланели, марлевые салфетки и коробочки с тальком для предупреждения детской потницы, – медсестра торжественно провозгласила:
– Подарок товарища Сталина!
Лицо Майыыс вспыхнуло восторгом благоговения. Она о чем-то спросила, и по тому, как развеселились окружающие, Мария поняла, что простодушную якутку заинтересовало, откуда Сталин узнал о рождении их детей.
– Всем такие дают. Товарищ Сталин считает своим долгом помочь каждой советской женщине, – снисходительно пояснила медсестра на якутском, затем перевела для Марии.
Вечером на улице за стеной под чьими-то нетерпеливыми шагами заскрипел снег. Возбужденно переговариваясь, у окна, до половины закрашенного белой краской, топтались двое мужчин.
– Стапан, – обрадовалась Майыыс и ткнула в себя пальцем, поясняя, что один из них – ее супруг.
Второй начал насвистывать песню оруженосца Курвенала «Так вот, скажи Изольде ты…» из вагнеровской оперы.
Мария открыла форточку, и вместе с промозглым дыханием октября в палату влетел газетный самолетик. С краю крылышка карандашные каракули Хаима оповещали от имени обоих отцов: «Завтра мы придем за вами. Спасибо, любимые!»
Отделение, пустовавшее в годы войны, теперь было переполнено, и долго в больничке не держали.
В громко прочитанной Марией записке Майыыс уловила знакомое русское слово «спасибо». Ей не терпелось похвастать подарком вождя. Высунув в оконную створку уголок государственной фланели, она позвала ликующим шепотом:
– Стапан! Эгей, Стапан! Пасиба табарыс Сталин!
– Оо, Сталин! – послышалось снаружи, а следом раздался возмущенный женский вопль:
– Подглядывать приперлись, извращенцы проклятые?! Ну-ка, марш отсюда! – это мужчин прогнала вышедшая вылить помои санитарка.
Под утро Марии приснился немецкий город Любек. Не тот, куда она ездила с Хаимом незадолго до военных событий, а утонувшая в веках столица Ганзейского союза. Повторился сон, привидевшийся однажды на мысе.
С обмирающим от дурного предчувствия сердцем Мария настороженно ступала по узким улочкам с темными зевами арок, разверстыми в колодезные дворы. Шла мимо окутанной хмельным паром пивоварни, мимо госпиталя с греющимися на солнечном крыльце калеками и старцами в полосатых хламидах, мимо моряцкой церкви, из дверей которой струилось тревожное анданте… Шла в смятенном неедении до тех пор, пока шквал ветра, пропитанный марципановым ароматом знаменитой кондитерской Нидереггеров, не донес до слуха отдаленный рев толпы: «На Каак его! На Каак!»
Понимая во сне, что это сон, возвращенное памятью недоброе знамение, Мария повернула обратно, но все улицы заканчивались тупиками. По единственной дороге, распахнутой с глумливым гостеприимством, она в отчаянии побежала навстречу гвалту, похожему теперь на карканье гигантской вороньей стаи, – к Рыночной площади, пестрым торговым рядам, к Кааку перед магистратом – меднолобой беседке с позорным столбом.
«Ка-ак! Ка-ак!» – в жестокой радости скандировала толпа.
Сердце лопалось от горя, от невозможности отвести поджидающий впереди ужас, ветер шибал в лицо порывами приторного благоухания орехов и сахарной пудры, оглушительно свистел в ушах… Или то свистели и улюлюкали, выбивая преступнику глаза камнями, веселые горожане?..
Свист и крики неслись отовсюду. Мария и сама закричала, не слыша себя в страшной какофонии звуков, в черном смерче, рухнувшем с неба. Визжащий вихрь подхватил, затянул куда-то ввысь, завертел над Кааком, не давая углядеть прикованного к столбу человека, протащил сквозь входы ветра – круглые отверстия в кровельной надстройке ратуши – и швырнул на твердь льдистого берега.
Стоя в клочьях тумана на коленях у края кипящей пропасти, Мария увидела, как проваливается в дымную воронку древний Любек. Каленные огнем и солнцем, кирпичные ладони его сдвигались в непроизвольном молитвенном жесте. Осыпалась брусчатая мостовая, зеленые берега каналов приближались друг к другу, мосты и арки надевались на шпили соборов с легкостью петель, нанизываемых на вязальные спицы… Медленно, медленно уходили в дремучую темь груды обломков красноглиняной кладки и морская пристань, всасывая за собой бухту с флотилией груженных товарами кораблей. Не было воли отвратить взор от выгнувшейся крутым луком площади, где все еще слабо маячил тупой деревянный срезень Каака, устремленный в вечность.
Вопящая толпа захлебнулась потоками воды и щебня, не успев насладиться ни дозволенным прилюдным убийством, ни зрелищем человеческих страданий. Поднятое к небу невредимое лицо белело из глубины пятном прощального света, и орган церкви Святого Якоба вторил колокольному реквиему Мариенкирхе, сотрясая воздух над морем тяжкими брызгами финального аккорда…
Мария вдруг поняла, что мужчина приговорен к бессрочному наказанию за гордыню любви… и горячие пальцы скорби окунулись во вновь открывшуюся рану под свежим рубцом. Душа Марии плакала, проклиная непрошеный, без толку вверенный ей свыше дар предвидения, которым она угадывала, но не могла предотвратить беду.
К обеду следующего дня, когда женщин с детьми готовили к выписке, за ними явился один Степан. В ночную смену на Хаима обрушился штабель готовой, только что обожженной продукции. Прежде чем он успел ощутить боль, проломленное кирпичами ребро мягко, как нож в масло, вошло в осчастливленное рождением дочери сердце.
Глава 3
Разбитое равновесие
Свет керосиновой лампы серебрил изгибы кукольного столика и двух «венских» стульчиков, вырезанных из баночного железа. Кромки спинок и ножек были свернуты ювелирным кантом, чтобы острая жесть не поранила чьито нежные пальчики. Хаим ценил красивые вещи и любил мастерить…
Лицо его в рамке с креповой лентой мелко трепетало. Словно повинуясь неведомому знаку, тихо кружились граненый стаканчик с не успевшей испариться водкой, подернутая струпьями сухости кутья в блюдце, ломтик хлеба и прорубь окна, в которой плавал пористый блин луны. Бегущий по кругу взгляд Марии натыкался на игрушечную мебель, медлил с полминуты и возвращался обратно: поминальная луна, хлеб с края блюдца, горстка кутьи, непраздный стаканчик, лицо Хаима в рамке восемь на двенадцать. Некому было остановить этот безумный хоровод, странно наблюдать живую пульсацию фотографии.
За чертой приглушенного нефтяного сияния таилась затянутая сумраком вселенская зыбь. В нее, как в пучину вечного моря, безвозвратно ускользали осколки опрокинутых дней. К ночи на стенах вырастали хищные тени, ожидая движений женщины, чтобы выкинуть длиннопалые руки и унести, и поглотить во мгле. Оцепеневшее тело пребывало в пограничье дремы. Потревоженным роем вихрились, жалили сны-воспоминания.
Осенний ветер литовского побережья рвал листву с ветвей печальной березы на заброшенном православном кладбище. Запахи свежей выпечки неслись из приоткрытых дверей – в пристрое молельного дома на улице Перкасу просвирня готовила хлеб… Чайки гнались за кораблем. Красные черепки схватывались, как ртуть, поднимался вольный Любек, с купеческой думой о выгоде обращенный фасадами к гостевой стороне… а Меркурий на мосту, в одной только шляпе, напротив, поворачивался к пришельцам голым задом… Над въездной аркой башен-близнецов мелькал девиз свободного города: «Concordia domi – foris pax»[4]. Призрачное эхо извлекало из ниоткуда хрипловатый голос: «…я выхожу в высокую дверь туда, где светло…»
Мария с невероятной отчетливостью ощущала, как трудно, ветвь за ветвью, отдираются вросшие в ее плоть вены мужа и как его остылая кровь каплями истекает в аморфное вещество памяти. Очнувшись от чувства, что лежит головой на родной груди, в слепой надежде проводила рукой по постели. Наваждение гасло с немыслимым, всегда поновому чудовищным открытием – Хаима больше нет.
С запрокинутым лицом она падала на подушку, снова надолго замирая в полузабытьи, и оказывалась на берегу полярного залива, где кобальтовый вечер был как две капли воды похож на кобальтовое утро. Здесь, в ряду убогих жилищ, с горьким сарказмом названном Лайсвес-аллее – аллеей Свободы, обитали подобия людей с кофейными тенями вокруг глаз, независимо от пола и возраста уравненные во внешности и жребии. Мария еле передвигала ноги в обменянных на обручальное кольцо пимах, замыкая шествие бредущих с работы «рохлядей», как называл своих подшефных хозяин участка. Несла вязанку удачно добытого хвороста. Возвращение на мыс вселяло страх, потому что это не было сном… хотя не могло быть и правдой.
В очередной раз за порогом последней лачуги ее окутало душное тепло с запахом тухлого рыбьего жира и того тлетворного, невыразимого словами смрада, которым несет от сгущенной человеческой нищеты.
Соседи по юрте уже пришли и ждали задержавшихся. На теплой буржуйке стояла банка с травяным взваром, целительным для больных почек Марии.
Свалив хворост у входа, она утомленно сообщила:
– Хаима насмерть задавило кирпичами.
Женщины уставились с вопросительным недоверием.
Юозас, заика, напуганный в детстве собакой, заговорил непривычно для него, длинными предложениями:
– Он не мо-ог уме-ме-мереть, за-завтра мы идем в мо-оре. Туга-арин велел подгото-овиться, подош-швы ва-валенок хорош-шенько пропи-питать смо-олой.
Рассудок Марии поправил небрежную оплошность видения: Тугарин с милиционером Васей давно «вылечили» речевой дефект подростка. Всего-то и нужно было подвесить косноязычного вниз головой и выпустить в ограду собак…
В новой редакции недреманного сознания паренек вымолвил без запинок:
– Наверно, ты спишь и просто видишь плохой сон.
– Это не сон, Юозас. Это правда.
Взметнулась тощая косица – Витауте с плачем прижалась к матери. Нервная Гедре, прежде чем неистово разрыдаться, сверкнула страдающими глазами и быстро, злобно принялась браниться на литовском. В гибели Хаима, как всегда во всех бедах, она обвиняла советскую власть, правительство, змея-заведующего, кого придется…
Сидя на руках всхлипывающей Нийоле, Алоис понятливо качнул одуванчиковой головой:
– Каим усол за больсой нельмой[5]совсем далеко.
Малыш, переживший всех своих сверстников на участке, хорошо знал что такое «уйти совсем далеко».
Пани Ядвига ничего не сказала по поводу траурного известия, но Мария уловила сострадание в ее новой песне:
– Сво-олочи кирпичи, пшекленты дране[6]…
Трубно чихнув, старуха высморкнула вшей и вытерла нос краем фартука. Иконописное лицо ее, цвета лиственничной коры от голода и старости, излучало благость – таким оно было, когда святую грешницу хоронили на холме. Перед смертью она простила всех, кого ей довелось ненавидеть за долгую жизнь проданной в бордель девочки, проститутки, хозяйки борделя и «врога люду»[7]. Пани Ядвига полагала, что и сама прощена Богом.
– Взвару попей, поди замерзла, – кивнула она Марии, повернулась к углу и опять кивнула кому-то: – Витай[8].
У стены смутно, как в цинготном тумане, проступил колышущийся силуэт. Сквозь дымку куриной слепоты Мария разглядела Хаима. Кроме нее и пани Ядвиги, его, кажется, никто не видел, а он не видел жену, хотя она сразу к нему бросилась… и остановилась рядом, понимая: все напрасно.
Ей не понравилось, что на лице мужа появилось умиротворенное выражение, почти как у покойной соседки, словно, искупив бремя своего независимого характера, он наконец-то по-настоящему освободился. Этот новый просветленный образ, созданный полным правом отсутствия, почудился ей чем-то вроде предательства.
На Хаиме были рукавицы, рабочие штаны и передник обжигальщика, волосы на лбу перехватывала полотняная лента. «Неправда, – подумала Мария. – «Туда» он ушел в недавно сшитой рубашке и новых брюках. Значит, я действительно сплю».
Она очнулась.
До сих пор ее надежно защищала любовь загадочного для других человека, чья естественная, никому не подвластная, а потому предосудительная дерзость – дерзость быть счастливым вопреки всему – одновременно озадачивала и злила окружающих, вызывая их невольное уважение. Отрешенный от внешних воздействий настолько, насколько представлялось возможным при общих невзгодах и скученности, он даже на людях опекал Марию с непринужденным постоянством, но этот патронаж был так ужасающе бестактен по отношению к женщинам, чьих мужей энкавэдэшники либо отправили в лагеря, либо расстреляли, что она едва не плакала от стыда. Чуткий, бесконечно внимательный к ней, муж тотчас предлагал кому-нибудь свою помощь, и неловкая ситуация понемногу сглаживалась. Тут уж он не был бесхитростным, даже пытался заигрывать с женщинами, ломая свою негибкую натуру, и бросал на жену тревожные взгляды: все хорошо? ты не плачешь?
За год в поселке ни она, ни муж, обеспокоенный сложными периодами ее беременности больше положенного, ни с кем не сблизились. Рабочие на заводе, в основном бывшие уголовники и ссыльные с разных островов, не успели хорошо узнать улыбчивого, но не склонного к приятельству еврея. Может, и посмеивались над ним, как телок к матке привязанным к такой же немногословной жене. Бог весть, что о них сплетничали-говорили… А вот «тугаринские», изучившие Хаима за несколько лет тесной жизни на мысе, не осуждали его за лишнюю суету вокруг Марии. Привыкли. Считали этот «недостаток» чуть ли не единственным среди положительных качеств товарища. Никто не сказал бы о нем худого слова – при нужде первым шел помогать. Разве что Вася-милиционер по неизвестной причине невзлюбил соплеменника. Вася, тихо презираемый всеми, тоже еврей…
Она машинально помолилась за близких, таких далеких теперь людей, попросила их духу выдержки в беспросветных шахтерских забоях.
Четыре года женщины и дети, делившие с Готлибами одну юрту, видели, как Хаим брал на себя большую часть повседневных женских трудов, только бы Мария могла отдохнуть; слышали, как осторожно дозировал он недобрые вести, оберегая ее покой, и, точно угли в костре, раздувал крупицы редких радостей…
Избалованная, она принимала его непреходящую нежность как должное приложение к супружеству. Так и не сказала ему: «Я каждый миг счастлива с тобой».
…Была счастлива.
В прошедшем времени.
Отныне и до конца – в прошедшем.
С гибелью мужа рухнуло искусно поддерживаемое равновесие, едва обретенное после потери сына. Марии предстояло самой налаживать контакт с миром, а искра не загоралась. В особенно невыносимые минуты хотелось помочь себе оторваться от натужного существования, но удерживали молитвы, упадок сил и посмертный позор.
Испытывая душевную уязвимость как физическую боль, она мягкотело, безвольно погружалась в сумерки беспредельного отчаяния. Ее пугала близость сороковин, а о ребенке и обвальных проблемах быта вообще боялась думать… Спасибо, якутская женщина Майыыс взяла девочку на время.
Глава 4
Гарри
Солнечное, совсем не осеннее утро ломилось в окно. Мария не могла вспомнить, ела она вчера или третьего дня и топила ли вечером печь. Из коридора доносились обычные утренние звуки: повизгивание соседского щенка, плеск рукомойника, торопливые голоса и шаги. В норе, свернутой из одеяла и телогреек, не осталось никакого тепла. Пар от дыхания в выстуженной комнате взвивался к потолку, будто дымок из печной трубы.
«Я жива», – удивилась Мария, испытывая странное чувство новорожденности и жарко прилившую к сердцу радость. Повернула к окну тяжкую голову: «Боже, как хорошо…»
Вещи прочно пристыли к своим местам, безумный хоровод остановился. Солнце пробило лунку в тонком инее, сквозь нее в барачную полумглу струился мир. Светлые слезы мира, стекая на подоконник, капали на пол. Черная тоска втянулась в мироточащую лунку и, понемногу иссякнув сумраком, вернулась прозрачной печалью.
Припухшие дремой веки вновь смежили в ресницах холодный воздух. Мария полежала немного, прислушиваясь к приятно поламывающей истоме. Странно, что суставы до сих пор не закоченели, и зябкие мышцы, вместо того чтобы окаменеть в судорогах, нетерпеливо покалывает в ожидании движения.
Кризис миновал. Она воскресла для незнакомого бытия – без мужа, но с ребенком. Когда-то мысли о гибели сына едва не свели ее с ума, теперь думы о дочери встрепенули вялую душу с неожиданной силой. Казалось, наблюдая депрессию жены из другого пространства и отчаявшись пробудить в ней угасающее желание жизни, Хаим сумел зажечь искру остатком своей энергии и подтолкнул от манящего необитания к новой тропе и свету.
Греясь у огня перед раскрытой печной дверцей, Мария грызла горбушку зачерствелого до древесной твердости хлеба, размоченную в чаговом кипятке, ела кисленькую, со свеклой, капусту – муж успел заквасить в лагушке[9]… Хозяйственно, с будничной досадой на заводское начальство, думала: «Долг Хаима за дрова, конечно, на меня перебросили». Летом на субботниках жильцы бараков заготовили лес для себя и нужд предприятия. Деньги за вывоз и предоставление деляны бухгалтерия удерживала из зарплаты.
Вечером в незапертую дверь постучал и, не дожидаясь ответа, ввалился земляк по Каунасу и мысу Гарри Перельман, бывший напарник мужа в рыболовецкой артели. Забыл поздороваться, сел машинально на табурет у двери и, глядя кудато вкось, вытер шапкой мокрое от слез лицо:
– Мария, меня снова выслали из Тикси… сюда на завод… Поставили на обжиг… только что узнал – вместо Хаима… Его нет… Как же так… я не мог поверить…
Гарри еще не разучился плакать, потому что был молод.
…Семнадцатилетний юноша перешел на второй курс Каунасской консерватории, когда арестовали его отца, уполномоченного одной из литовских фирм. Гарри с матерью отправили на мыс в море Лаптевых, где мать скончалась от голода. Ледяная вода превратила руки музыканта в клешни. Он и такими играл на клавишных инструментах. Два года молодой человек преподавал пение, музыку и уроки этикета в морском порту Тикси, но в отделе спецпоселений в конце концов сочли, что враг не научит ничему хорошему. Больше всего сотрудников отдела возмутили уоки буржуазных правил поведения советским детям.
Продолжая всхлипывать, Гарри рассказал о судьбе отца. На запрос о нем официальные органы ничего не ответили. Позднее кто-то из знакомых, с кем Элиас Перельман находился в лагере Сысьва, разыскал адрес сына и написал, что по решению Особого совещания НКВД отец был казнен через полгода после начала войны. Местечко, в котором приговор привели в исполнение, по жестокой воле случая называлось Гарри…
Сообщение о собственном несчастье перебило новые слезы. Успокоившись, Гарри выпил кружку горячего чая и убежал, а спустя полчаса вернулся с сумкой, набитой банками американских консервов.
– Тут говяжья тушенка, свинина с чечевицей и – смотри! – абрикосы, – бормотал он, радуясь посветлевшим глазам женщины. – Мне ребята в Тикси целый мешок всякой еды собрали. К Новому году тоже пришлют. Праздники с омулевой строганинкой встретим. Тебе надо лучше питаться, ляльку заберешь скоро…
Глава 5
Досье для вечности
Гарри позаботился о том, чтобы Мария окрепла. Горестные остатки декретного отпуска поглотила живая домашняя работа – побелка комнаты и шитье распашонок из батиста, купленного по «детским» талонам на госпособие, для дочки и сына Майыыс. Теперь следовало выписать девочке метрику в поселковом совете и передать в комендатуру последние документы Хаима: медицинское заключение о смерти и справку спецпоселенца. Такой справкой – листом бумаги с фотографией в левом углу – снабжали каждого «социально опасного элемента». Эти удостоверения заменяли паспорта. Справки «ходили» только здесь, на ограниченной поселком и колхозом территории, а дальше их некому было показывать.
Оперработника на месте не оказалось, в кабинете отдела перед кучей бумаг за столом сидел начальник. Увидев Марию, он не поздоровался. Багровый от злости, размахивая журналом регистрации, закричал:
– Почему я должен узнавать от людей, что ваш супруг помер? Музыкант известил, ходатайствовал за вас – мол, не в себе вдова, лежит-болеет, погодите немного… Два месяца, между прочим, с тех пор прошло! Два месяца! В других местах поселенцы еженедельно отмечаются, мы и так чересчур лояльны! Я уж решил послать за вами – пожалуйте, придите для собственного же блага! Повезло, что проверки не было! А если бы нагрянула? А-а?! Вы чуть не подставили нас своей неявкой… своим саботажем! Вы понимаете, что я обязан наложить на вас административное взыскание за уклонение от учета? Подвергнуть штрафу или арестовать, причем не на пять, а на десять суток! Нет, вы вообще хоть чтонибудь понимаете?!
– Не надо арестовывать… У меня ребенок, – замямлила Мария. – Я действительно не могла… Может, написать объяснительную?.. Простите, прошу вас… Такое больше не повторится…
До нее только сейчас дошло: время потеряно, она сама потерялась во времени, не думала, что ее здесь ждет.
Офицер сообразил, что женщина вот-вот потеряет сознание, и, затухая, пробурчал:
– Мне известно о ребенке… Давайте сюда заключение. Успокойтесь, сядьте, вон стул.
Извлек из несгораемого шкафа знакомую Марии канцелярскую папку личного дела Хаима. В ней, с пачкой аккуратно подшитых протоколов, справок, анкет с ответами на множество бессмысленных на первый взгляд вопросов, хранилось довоенное письмо – тайный отчет «арийца английского происхождения» мистера Дженкинса, адресованный каунасскому руководству фирмы «Продовольствие», в которой когдато работал Хаим. Там же находились литовский и русский переводы этого послания.
…Получив германское подданство и желая выслужиться перед новой «родиной», коллегакоммивояжер обвинил Хаима и переводчицу Марию в причастности к большевистской агентуре. Сметоновская[10] полиция отправила бы «кремлевского резидента» в тюрьму, если б не вмешательство отца Хаима. Ицхак Готлиб выкупил у следователя свободу сына. Жаль, что отправитель письма так и не узнал, как оговоренные им люди были ему потом признательны. Старый донос случайно помог Хаиму избежать отправки в лагерь для политических заключенных…
На поле мельком открывшейся первой страницы папки Мария заметила жирно отчеркнутую красным карандашом приписку: «Хранить вечно». Справка спецпереселенца легла поверх справки о смерти и карточки учета.
Давеча в поселковом совете, пока секретарь выписывал свидетельство дочери о рождении, Мария собиралась с духом, чтобы осведомиться у оперативника, можно ли ей забрать фотографию мужа со справки – к чему системе снимок врага, если с ним покончено? Теперь, виноватая, не дерзнула спросить у коменданта.
Неисповедимы пути чекистские… Не понять, исходя из каких потребностей органы внутренних дел с иезуитской дотошностью собирают в досье для вечности все бумажки, вплоть до врачебных отписок о болезнях. Из пунктуальности? Как доказательство вины ссыльного, дабы комуто легче было, в случае чего, оправдаться?.. Нет, не понять.
Идя в поселок, Мария с благодарностью думала о начальнике. Встречаются и во власти хорошие люди. Не арестовал, скрыл оплошку «саботажницы», и проверяющие из Якутска в этот раз не приехали… Впрямь повезло.
Когда показались первые сельские дома, она совершенно забыла о произошедшем в конторе, легко поплыла по тронутому морозцем воздуху, хмельная от его оживляющей свежести. Бездумно повторяла в такт шагам имя Майыыс – с ударением на первом слоге, хотя в якутских словах оно обычно ставится на последнем. Грубое «ы» в конце слова облегчала мягкая редукция: «Май-ис». Снег крахмально и празднично поскрипывал под ногами: Май-ис, Май-ис…
Мария радовалась, что вышла из тягучего каменного забытья и муж где-то там, у себя, счастлив за нее. Закольцованная с Хаимом радость туго натягивала отвыкшие от улыбки щеки. Мир вокруг звенел, как молочные струи о дно цинкового подойника, сугробы искристо вспыхивали недавно отлитым серебром… Если у Майис есть корова, наверняка удастся договориться о молоке для ребенка.
Кроме распашонок Мария несла благодетельнице серебряную ложку. Последнюю ложку из столового гарнитура, подаренного некогда золовкой Сарой. На Алтае и Мысе Тугарина Готлибы обменяли все мало-мальски ценные вещи, захваченные с собой в ночь сборов при высылке из Каунаса. Еда и теплая одежда были нужнее… На память о Литве у Марии остались только янтарные бусы.
Глава 6
Семья кузнеца
Круглощекий сын дожидался своей очереди, чмокая в люльке сосцом, отрезанным с коровьего вымени. Аптечный пузырек, на который был насажен прокипяченный сосец, энергично дергался – Сэмэнчику нравилась подслащенная вода. Держа безымянную девочку у груди, Майис тихо дула на ее вспотевший лобик, помеченный углем домашнего очага, и огорчалась по поводу равнодушия кремлевских министров. Не озаботились большие начальники доложить товарищу Сталину о нехватке резиновых сосок в северном краю, иначе товарищ Сталин непременно распорядился бы добавить эти жизненно необходимые вещицы в подарки новорожденным советским гражданам. Трудно придется Марии с кормлением дочки.
– Огокком[11]… – Печально вздыхая, Майис расправила сжатый младенческий кулачок и с наслаждением принюхалась к запаху. Полюбовалась тонкими завитками за ушками, длинными ресницами, начавшими густеть…
Как оторвать от ребенка свое неразумное, успевшее прикипеть сердце? С помощью мужа Майис выучила сложно произносимые чужие слова и не раз мысленно обращалась к русской женщине: «Моя хоросо, молоко-сиська есь, корми есь. Дай огокко моя дом. Пасиба».
Майис, конечно, не осмелилась бы это сказать. Просто мечтала. Степан тоже был готов удочерить малышку. Но кто б согласился отдать такое славное дитя! Мать, похожая на Майис внешне, наверное, и характером с нею схожа. Как бы тяжело ни пришлось, ни за что не отдаст.
Впервые столкнувшись с Марией в больнице лицом к лицу, Майис испытала укол пронзительного испуга. Показалось, что стоит перед зеркалом, волшебным образом исказившим ее лицо и волосы: вместо черных глаз – синие, а волнистая коса взметнулась вокруг головы огнем и дымом. В рыжи, как беличий хвост, волосах Марии распушились ранние седые пряди…
Все, кто видел женщин рядом, удивлялись: «Сестры-двойняшки!» Степан тоже сказал: «Из одной формы, будто серьги белого золота[12], вас отливали».
От внезапной мысли о том, что Мария, возможно, станет долго горевать по мужу и не скоро явится за дочерью, Майис содрогнулась и отругала себя: «Ой, нет, нет! Пусть скорее выздоравливает!» Отмахнулась, отгоняя вредоносных духов, нашептавших дурное, и тут в дверь кто-то постучал…
Приход ожидаемой гостьи обрадовал и в то же время огорчил хозяйку. Быстро перепеленав детей в нарядную «сталинскую» фланель, она высунула голову изпод пестрой веревки из конского волоса, унизанной крохотными туесками. Во время летнего праздника ысыах[13] такие веревки с символическими подношениями добрым духам якутский народ протягивает на счастье между березками.
– Дорообо[14], Марыя-балтым[15]!
Мария едва не вскрикнула – навстречу ей угрожающе растопырились агатовые когти засушенной медвежьей подошвы, подвешенной сверху перед берестяной люлькой.
Степан объяснил, что дух «лесного старика», как называют медведя якуты, оберегает малышей от детских болезней. Ступня зверя мягко пружинит на мху, обтекает сухие ветки подушкой лапы и глушит треск. Так же, не пугая дитя, лапа бесшумно, но тяжко наступает на руки демонов, тянущиеся к ребенку со всех сторон. Злыдни обращаются в бегство и оповещают остальных о грозном младенческом обереге.
– Духи нету, духи – непрабда, – стыдливо улыбнулся Степан. – Оннако так нада, старик охранят ребяты, тогда ребяты нету болеть.
Сытые дети тихо сопели, лежа в люльке валетом. Марии, два месяца назад убитой страшным известием, было не до ребенка, а тут не поверилось, что кроха, которую запомнила горластым краснокожим лягушонком, так сильно поправилась и похорошела. Светлое личико обрамляли кудряшки собольего цвета, легкая Хаимова ямочка виднелась на подбородке. Носик был в меру тонок и длинен, но с намеком на горбинку…
Свидетельство принадлежности к древнему народу, столь нежелательное в прямоносом арийском мире, заставило Марию вздрогнуть. Видит ли Хаим «оттуда», как дочь похожа на него и как далека она от вагнеровской Изольды?.. Белокурый мальчик, их потерянный сын, – вот кто напоминал корнуэльского принца. Только темные глаза его были чуть приспущены к вискам. Верхние ресницы, соединяясь с нижними, придавали взгляду легкую томность и характерный отблеск вечной семитской скорби…
А какого цвета глаза у дочери?
Колеблясь и мешкая, Мария отошла от люльки. Пусть ребенок спит.
Хозяйка с восторгом поохала над подарками и захлопотала у стола – налила чаю с молоком, настрогала в деревянное блюдо мерзлую жеребячью печень.
Мария привыкла к рыбьей строганине на промысле. Припрятанную и с риском для жизни принесенную домой рыбу во избежание разоблачения часто ели сырой. Бело-розовая плоть ее пахла с мороза огурцовой свежестью, смотрелась аппетитно, как и должно выглядеть деликатесу, а тут было нечто другое, сомнительное на вид, – суриковые стружки со свинцовым налетом изморози и железистым, нутряным запахом крови.
– Есь, есь, нету бойся, – угощала Майис, угадав сомнения гостьи. – Кулун[16] хоросо, кулун скуснай!
Мария с опаской прикусила тающий в пальцах коричневый лепесток. На вкус печень оказалась чуть сладковатой и чем-то ностальгически напомнила сочную мякоть маринованного говяжьего языка.
– Надо же… вкусно.
Майис подвинула ближе тарелку со щедро наломанными кусками пресной якутской лепешкилабырык.
– Тоже вкусно, – попробовала Мария. – Это зерна? Сначала подумала – орехи! Как вы такие лепешки печете? Мне бы рецепт узнать.
Хозяйка беспомощно оглянулась на мужа.
Гостья повторила вопрос.
– Моя не пекла, – отрицательно качнул головой Степан, сидящий у печи с каким-то задельем. – Майис лабырык пекла.
– Научите меня?
– Моя не могу, Майис делай лабырык там, – он ткнул пальцем в печную плиту.
– Так я у Майис и спрашиваю, – удивилась Мария и наконец догадалась, что хозяева не поняли обращения на «вы». Демократичное «ты» остается у якутов неизменным в любых ступенях отношений.
Смущенно прихлебывая забеленный молоком чай, она не решалась справиться о том, что волновало ее больше всего. В просторном дворе Васильевых Мария не заметила хлева.
Редко кто из колхозников держал скот. Себе дороже выходило из-за высоких государственных сборов. «Коровьих» усадеб в деревне было по пальцам пересчитать, поэтому за литровую банку молока, если еще повезет столковаться, хозяева требовали двадцать рублей. Впрочем, столько же, говорят, он стоил и в продуктовых точках Якутска, хотя закупщики в погашение сельскохозяйственного налога забирали часть надоенного по цене меньше рубля за литр. В местном магазине молоком почему-то вовсе не торговали.
Майис словно почувствовала мысленные метания гостьи и сообщила:
– Стапан искал молоко купить-продать!
Оказалось, Степану удалось договориться с владельцами дойных коров. После сдачи поставок у них оставалось целое ведро молока. Проникшись бедственным положением вдовы с «кирпички», они условились продавать ей два литра в день всего за четыре рубля. Почти даром!.. К тому же выяснилось, что эти сердобольные люди живут на краю села возле заводского околотка.
У Марии камень с души свалился. А сюрпризы на этом не кончились! Майис приготовила девочке роскошное приданое: берестяной рожок для кормления и девять бесценных по уникальным свойствам подгузников – лоскуты тонко выделанной жеребячьей шкуры.
Ворс на ощупь был изумительно мягким. Влага, пояснил Степан, не утяжеляет шерсть северных лошадей – волоски ее полы и воздушны. Стирка меховым подгузникам не требовалась, они быстро отчищались и высыхали, а чтобы запах выветрился, достаточно было подержать их на морозе.
Подарила Майис и аптечный пузырек с коровьим сосцом:
– Один, дба три день ынах[17] сиську чай кидай, мала-мала кипит, огокко молоко корми. Потом сиську ыт[18] кидай, ыт ам-ам.
Мария сообразила: пока ребенок не приноровится к рожку, можно прикармливать из сосца, слегка прокипятив его, а по истечении трех дней выбросить сосец собакам. Растроганная, она не знала, чем отблагодарить Майис, и предложила научить ее русской грамоте.
– Оголор[19] болсой дба, три год – соло[20] есь, пасиба, – согласилась та.
Степан ухмыльнулся:
– Грамотнай баба, да? До ночь книга читай, потолок плюбай? Лабырык не пекла, обед нету, печка холоднай, моя – голоднай! Э-эх, оннако, Майис клуб отдам! Другой, неграмотнай баба домой беру!
Мария, смеясь, заметила, что он неплохо говорит порусски, и Степан посерьезнел:
– Была один русскай догор[21]…
Веселая тарабарщина Майис, приправленная выразительными жестами, придавала общению особый колорит. Куцый русский словарик ее заметно расширился. Чуткая к языкам, Мария радовалась и своему подзабытому свойству с ходу запоминать значение и произношение новых слов.
Женщины разговорились. Удивляясь тому, что слезы уже не саднят, а успокаивают сердце, Мария вспоминала о Хаиме.
– Понимаешь, Майис, он ни перед кем не склонял головы. Даже если ктото пытался его унизить, не было такого, чтобы сам он унизился до ненависти, до брани в лицо, а тем более за спиной. Люди чувствовали в нем непоказную гордсть и уважали в Хаиме редкую душу, Майис, правда… Он уверял меня, что несчастья не способны убить человека, пока человек сам не начнет верить в их силу. Хаим и смерти не боялся. Оставить меня одну – вот чего он боялся. Но ушел и оставил… Наверное, нельзя быть счастливым наперекор всему, а он был счастливым, он обнимал теплом каждого, кто жил рядом с ним, и, кажется, не задумывался о своем даре…
Мария говорила и говорила, больше для себя самой, слова приносили облегчение, растворяли горе. Но Майис слушала внимательно и несколько раз кивнула: «Да, да-а…» Опасливо оглянувшись на Степана, она и сама рассказала о том, как сбылась их главная с мужем мечта.
Супруги жили вместе с юности и почти уже смирились с бездетностью, а тут соседка посоветовала Майис сходить к шаману. Старик дал ей секретное снадобье, изгоняющее беса бесплодия, и велел пить каждый день перед сном. Узнав об этом, Степан рассердился: шаманы – вредители, варят какой-то опиум для народа, вдруг Майис отравится?! Она все равно украдкой продолжала пить капли и понесла. Муж перестал злиться, только запретил упоминать вслух имя знахаря…
Майис вздохнула с потаенной печалью. Степан стыдится верить в духов, ведь он – передовик и незадолго до Отечественной войны ездил на Всесоюзный съезд колхозников-ударников в Москву. Собственными глазами видел великого товарища Сталина, который подарил детям такие хорошие пеленки! А в войну округ не мог остаться без кузнеца, и Степана не пустили на фронт.
– Пронт нету, Стапан – уус[22].
– Моя хотела на пронт, – буркнул Степан.
– Ок-сиэ[23], – подбоченилась Майис. – Погибай храбрай смерт? Огдо пылаття памят нету?
Мария поинтересовалась, что значит «огдо пылаття», и Степану, слово за слово, пришлось вспомнить старую историю о том, как в Гражданскую войну его спасло от смерти платье Огдо, младшей сестры.
Власть в селе в то время беспрестанно менялась. Оставшись после смерти отца за старшего в семье и кузне, Степан, бывало, помогал красноармейцам – подковывал им лошадей, чинил ружья и ремонтировал повозки. А однажды осенней ночью село заняли белобандиты, и атаман велел привести к нему кузнеца Васильева, по слухам, сочувствующего красным.