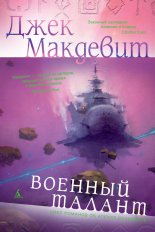Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов Шешуков Степан

ПРЕДИСЛОВИЕ
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения известного ученого, крупного специалиста в области теории и практики русской литературы ХХ века доктора филологических наук, профессора Степана Ивановича Шешукова. Он вошел в науку своими исследованиями, посвященными творчеству М. Горького, А. Фадеева, Л. Леонова и других писателей. Однако его имя стало особенно популярно в связи с выходом книги «Неистовые ревнители», в которой была отражена литературная жизнь и борьба 20-х – 30-х годов прошлого столетия. Книга оказала большое влияние на отечественное литературоведение. И это влияние было неслучайным. Впервые на большом архивном и литературном материале показано многообразие художественной жизни 20-х годов, дана критика вульгарно-социологического подхода в литературоведении.
Значение этой книги было настолько велико, что, говоря словами самого Шешукова, многие из неистовых рецензентов стали читать спецкурсы по «Неистовым ревнителям».
Книга выдержала два издания (70—80-е годы) и сегодня стала библиографической редкостью, хотя многие проблемы, поднятые в ней, до сих пор остаются актуальными.
Ученики С. И. Шешукова, его коллеги по кафедре считают своим долгом переиздать книгу «Неистовые ревнители», чтобы студенты и преподаватели факультетов филологии и журналистики имели возможность углубленно изучать наиболее сложные и актуальные вопросы истории русской литературы ХХ века.
Заслуженный деятель науки России, профессор, доктор наук Степан Иванович Шешуков встречает 100-летие. В его деятельности мы помним и чтим научные и педагогические достижения, в его облике мы помним и чтим человека яркой и нелегкой судьбы, кровно связанной с судьбой Родины.
Кафедра русской литературы
и журналистики XX–XXI веков МПГУ
АВТОРСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ К ИЗДАНИЮ 1970-ГО ГОДА
Двадцатилетний студент Александр Фадеев принес свое первое художественное произведение – повесть «Разлив» – в журнал «Молодая гвардия» в конце 1922 года. Это обычное событие оказалось знаменательным.
С именем «Молодой гвардии» связано зарождение того литературного направления в нашей стране, которое позже называлось «рапповским» (от РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей). Сами руководители с гордостью именовали его «напостовским» (стоящим на посту политики партии). В сознании широкой общественности и в партийных документах оно сохранилось под названием пролетарской литературы.
За десять лет существования (1922–1932) направление пролетарской литературы превратилось в широкое, подлинно массовое движение. Московская ассоциация пролетарских писателей (МАПП) была основана в марте 1923 года, а уже через год на ее базе возникла Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП, новое объединение). Через пять лет появилось и Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП), которое охватывало несколько тысяч писателей, было неудержимым в своем размахе, принесло пользу не только литературе, но и способствовало развитию всей культуры нашей страны.
Однако с этим направлением связано такое мрачное понятие, как «рапповщина». Рапповщина у некоторых, особенно у тех, кто испытал на себе «рапповскую дубинку», и до сих пор вызывает чувство резкого неприятия и справедливого осуждения.
Пролетарское литературное движение, к которому принадлежал Фадеев и о котором идет речь в нашей работе, являлось не только массовым и боевым, но и самым ретивым в 20-е годы. Ретивость рапповцев шла вразрез с политикой партии в области художественной литературы. Нам представляется очень удачной характеристика, данная Ю. Либединским деятелям пролетарского литературного движения. Он назвал своих бывших коллег «неистовыми ревнителями пролетарской чистоты», которые «защищали ее с такой яростью, что дай им волю – и нежные ростки будущего советского искусства были бы выполоты начисто! Но партия, к счастью… не давала волю левакам»[1].
Теперь, с высоты пятидесятилетней зрелости нашего государства, разум диктует нам отбросить все несправедливое, наносное, случайное и, насколько возможно, спокойно, объективно и по-хозяйски разобраться в нашей сложной и очень богатой литературной истории. Она настолько сложна и богата, что нуждается в исследованиях самого различного характера, самых различных аспектов. Лишь бы в этих исследованиях достигалось главное – истина, правдивое освещение истории советской литературы.
Кстати, может быть, не каждый читатель сразу разберется в одной, бросающейся в глаза, особенности этой книги: она кажется несколько перегруженной архивным и документальным материалом. Это объясняется исключительно стремлением автора как можно убедительнее и доказательнее нарисовать картину тех далеких лет.
Фадеев и литературная борьба 20-х – начала 30-х годов – вот тот аспект, который мы избираем для настоящей работы с надеждой осуществить ее продолжение.
Естественно, мы не можем охватить все литературные группы и течения этого периода, и наше внимание останавливается на них постольку, поскольку пролетарское литературное движение на том или ином периоде развития соприкасалось с ними. Естественно и то, что главное в нашем исследовании – это литературная борьба, однако жизнь и деятельность А. Фадеева отражается в ней, как в зеркале. Поэтому даже там, где мы не касаемся прямо его имени, за всем этим стоит его фигура как художника и участника литературного движения.
Пожалуй, трудно найти другого такого писателя, который бы не только творчеством, но и организаторским активным участием так тесно связал свою судьбу с развитием советской литературы нашей страны, как Александр Фадеев.
Тридцать пять лет (если учесть признание писателя, что в 1921 году им задуманы произведения о партизанском движении) он шел вместе с советской литературой. Вначале как рядовой ее участник (с 1922 по 1924 г. – литгруппа «Молодая гвардия»); затем (с осени 1924 г. по осень 1926 г.) – руководитель периферийной Ростовской ассоциации; дальше (с 1926 по 1932 г.) – один из самых авторитетных деятелей Российской ассоциации; и наконец (с 1932 по 1956 г.), – член правления Союза писателей, а затем и генеральный секретарь его.
А. Фадеев постоянно мучился тем. что неразумно распоряжается своим талантом. Он считал, будто организационные дела отнимают у него слишком много времени и сил, что по этой причине им сделано в художественном творчестве меньше его возможностей. В начале 50-х годов эта мысль окрашивается в трагические тона. В письме к одной поэтессе он жалуется: «Я прожил более чем 40 лет в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту»[2]. В письме к И. В. Сталину в марте 1951 года Фадеев со всей решительностью требует освободить его от обязанностей генерального секретаря Союза писателей и мотивирует это тем, что ежедневно совершает «над собой недопустимое, противоестественное насилие», заставляя себя делать не то, что является самой лучшей и самой сильной стороной его натуры, призванием его жизни.
Но высказывания самого же писателя и объясняют, почему так сложилась его судьба. Он был подлинным коммунистом, прирожденным общественником, партийным организатором масс. И сколько он ни пытался полностью уйти в писательство, ему это удавалось не надолго. За два месяца до смерти Фадеев рассказал о себе: «…сотни и тысячи граждан, с которыми по роду работы судьба сводила меня на всем протяжении моей сознательной жизни, теперь обращаются ко мне во всех трудных случаях жизни своей. Если я и вообще-то был и остался отзывчивым человеком, чувствуешь особенную невозможность отказать этим людям. Тем более я был так общителен смолоду, так со многими дружил, пользовался гостеприимством, встречал сам поддержку в трудные минуты жизни!.. Подтверждается старая истина: количество работы, занятость зависит не от должности, а от характера человека и отношения к своему долгу»[3].
А. Фадеев принадлежит к многогранным и колоритным фигурам эпохи, открывающим исследователю существенные стороны общественной жизни и литературного процесса.
РАЗДЕЛ I
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 20-х ГОДОВ
ГЛАВА 1
25 сентября 1921 года Александр Фадеев был зачислен студентом Московской горной академии. Этот шаг в жизни юноши казался неожиданным даже ему самому. В письме к школьному товарищу он сообщает: «Поверил бы ты, черт возьми! если бы кто-нибудь сказал тебе, что Сашка, столь презиравший математику и любивший до потери сознания русский язык да политэкономию, в один месяц прошел алгебру, геометрию, тригонометрию, физику и арифметику и выдержал экзамен в Горную академию?.. Но это правда! Эта канитель закончилась только вчера, и вот я из военкомбригов в студенты!»[4].
Но военкомбриг (он был военным комиссаром бригады Дальневосточной Красной Армии) в свои двадцать лет прошел такую жизненную школу, что трудно поверить, будто он в столь важном деле, как определение своего жизненного пути, мог поступить легкомысленно. Несмотря на то что литературой он увлекался с детских лет – пробовал писать, выступал в дальневосточной печати со статьями, а находясь в петроградском госпитале, даже начал повесть о партизанском движении Дальнего Востока, – несмотря на это, его поступление в Горную академию следует расценить как шаг вполне обдуманный и серьезный. Мечта стать писателем была для него столь заветной, сокровенной, он так лелеял ее, так мучительно вынашивал, оберегая от того страшного «вдруг», когда неумолимый приговор рушит ее, делает несбыточной, – что ему нельзя было рисковать, не убедившись, что именно в творчестве истинное его призвание.
А то, что эта мечта никогда не покидала А. Фадеева, подтверждается множеством фактов. Будучи студентом Горной академии, он интересуется культурной жизнью столицы, посещает диспуты, лекции, вечера. Несмотря на то что весь сентябрь 1921 года сдавал вступительные экзамены по нелюбимым предметам, «занимался как лев или как Акакий Акакиевич – часов по 15 в сутки, – а посему мало посещал всевозможные театры, лекции и прочее, но все же как-то мимоходом завернул на две оперы и еще кой на что» В это «кой на что» входит просмотр пьесы А. В. Луначарского «Слесарь и канцлер», посещение его же лекций «Идеализм и материализм», «Пророки революции», «Скрябин и революция». Хотя в конце 1921 года Фадеев и делится со своим дальневосточным другом, что «зарылся с ногами и руками во всевозможные геодезии, анализы, аналитики, горные искусства, разработки рудных месторождений» и не признает «никакой беллетристики, как и подобает будущему деловому спецу», но это звучит скорее горькой иронией, понятной только ему самому, потому что на самом деле это не так, потому что его интерес к «беллетристике» усилился и обострился. Буквально через несколько дней в письме к тому же другу детства он сообщает о новых постановках, «например, в 1-м театре Пролеткульта ставится недавно оконченная Плетневым «Лена»; о чествовании различных писателей, «как, например, Достоевского, Некрасова и пр.»; о том, что «по-прежнему в Политехническом музее «лекционируют» Луначарский, Поссе, Коган, Рейснер и другие»[5]. Особый интерес для нас представляют его оценки литературной жизни, которые содержатся в этом же письме. Упоминание и отзывы о журналах «Печать и революция», «Наука и революция», «Красная новь» свидетельствуют о том, что он систематически следит за ними и разделяет их позицию. Фадеев этого времени, находясь в курсе судеб «различных «поэтических кафе» – футуристов, имажинистов, фуистов, ничевоков и других «истов», с глубокой уверенностью и знанием дела заявляет, что Пролеткульт Москвы и Питера «растет и развивается с упорством «изюбря»[6].
Мы вернемся еще к отношению и пониманию Фадеевым литературных течений той поры, ибо это главным образом объясняет его приход в журнал «Молодая гвардия».
«Будущий деловой спец», зарывшийся «с руками и ногами во всевозможные геодезии», в 1922 году приступает к созданию своего первого художественного произведения – повести «Разлив». В конце года он ее закончил и отнес в редакцию первого молодежного журнала, объединявшего пролетарских писателей. Правда, рукопись пролежала там несколько месяцев, или, по выражению Фадеева «влачилась в течение года»[7], после чего так и не появилась на страницах журнала. Но за время, пока «Разлив» лежал там, Фадеев написал второе произведение – рассказ «Против течения». Придя и с ним в «Молодую гвардию», он осмелился прочитать его на литературном объединении при журнале, и, несмотря на бурные споры, произведение было одобрено и появилось в печати (журнал «Молодая гвардия», 1923, № 9—10). Повесть же «Разлив» была опубликована лишь через полгода, в мае 1924 года, в ленинградском альманахе «Молодогвардейцы».
Казалось бы, мечта Фадеева сделаться писателем успешно осуществлялась. На его месте иной (а сколько их, этих иных, так и поступало!) решил бы полностью перейти на литературную работу. Тем более, что даже первая его, более незрелая, чем «Против течения», вещь получила сразу же восторженный отзыв одного из ведущих тогда пролетарских писателей и видного напостовца – Ю. Либединского, да не где-нибудь, а в основном журнале пролетарской литературы – «Октябре». И называлась эта рецензия знаменательно – «Художник-большевик». Такая похвала могла бы вскружить голову начинающему писателю. Но Фадеев как раз весной 1924 года, когда вышла рецензия Ю. Либединского, покидает Москву. По Ленинскому призыву, в числе 100 коммунистов, его направляют в Краснодар в качестве партийного работника. Вплоть до октября 1924 года, когда по ходатайству Розалии Самойловны Землячки из Краснодара он был переведен в Ростов-на-Дону, никто из его окружения, кроме московских «молодогвардейцев», не знал, что он – писатель, что им, Александром Фадеевым, опубликовано два произведения, потому что сам он об этом не говорил, а все партийные товарищи, воевавшие с ним на Дальнем Востоке и работавшие в Краснодаре, знали его под именем Александра Булыги. Обширнейший круг друзей и соратников писателя соединил воедино Александра Фадеева и Александра Булыгу только тогда, когда по всей стране прогремел его роман «Разгром».
О своей заветной мечте стать писателем впервые, и то в личном письме к старшему другу и наставнику, Александр Фадеев поделился, когда вплотную приступил к теме «Разгрома», когда почувствовал, что зреет, просится на бумагу его первая большая вещь, когда понял, что может не написать ее или слишком задержать из-за повседневной, без остатка поглощающей все время работы секретаря райкома партии. 26 сентября 1924 года, все еще за подписью «Ал. Булыга», он обращается с просьбой к старой большевичке Р. С. Землячке, с которой был знаком еще по Москве, по партийной работе в Замоскворецком райкоме РКП(б): «В моей жизни появилось новое обстоятельство, заставляющее меня подумать о некоторой «смене вех»[8]. Затем он рассказывает о своих литературных успехах, о том, что его произведения («Против течения» и «Разлив») были встречены «положительно нашей партийной критикой», что издательство «Молодая гвардия» «сразу же купило их для издания отдельной книгой» и что, наконец, эта же «Молодая гвардия» предлагает ему перейти на литературное творчество. Но, сообщает дальше Фадеев (и это представляет собой интерес), «я не обращался к парторганизациям с просьбой о некоторой разгрузке, так как партийную работу очень люблю, а что будет в дальнейшем из моих писаний, тогда не знал»[9]. А вот теперь, дескать, когда журнал «Октябрь» и другие журналы заинтересовались его новой повестью, которая еще находится в проекте, и приглашают его в сотрудники, теперь он начинает убеждаться, что у него есть «не только большое желание, но и способности к этому делу», и просит содействия в переводе его на газетную работу, которая не будет противоречить его склонности к литературе.
В этом же письме к Р. С. Землячке со всей определенностью выражены взгляды Фадеева на роль литературы в общественной борьбе, в строительстве нового общества. «Я всегда считал (и это мнение мое подтверждено партией в резолюциях XIII съезда о печати) литературу очень важным явлением в жизни и до сих пор держусь того мнения, что овладеть ею в процессе революционной борьбы для пролетариата совершенно необходимо»[10].
Как видим, он «всегда считал», больше того, это мнение его «подтверждено партией». Действительно, здесь выражено глубокое и искреннее убеждение, формировавшееся годами. В 1921 году в первый же месяц пребывания в Москве, после просмотра пьесы Луначарского «Слесарь и канцлер», он подвергает ее автора резкой критике: «Ведь вот Луначарский! Талантливый человек, великолепно изображает весь ужас рухнувшего строя… но только пытается дать частицу нового быта и новых людей, моментально съезжает на слабенькую французскую мелодраму. И в творчестве всех наших талантливых интеллигентов я все натыкаюсь на «сей печальный факт»[11]. Из этого «печального факта» делается вывод: «Бесконечно правы пролетарские поэты, когда говорят, что новая поэзия и литература будут созданы самим пролетариатом»[12]. И в этом таится одно из главных заблуждений А. Фадеева, от которого он освободится лишь в 1932 году.
В конце 1921 года, ознакомившись со всевозможными «поэтическими кафе» (футуристами, имажинистами, «ничевоками»), он констатирует их «несомненный прогрессирующий упадок из-за собственной идеологической слабости». И дальше опять провозглашается ясно выраженная позиция: «Придет время, и о первых забудет «неблагодарное» потомство, вспомнит история только Маяковского, а Пролеткульты станут рассадником нового искусства. Так будет, что бы ни писал и о чем бы ни плакал Чужак»[13].
Просьба Фадеева о переводе на газетную работу была удовлетворена. 6 октября 1924 года он становится заведующим отделом партийной жизни газеты «Советский юг» в Ростове-на-Дону. Два года пребывания на Северном Кавказе были исключительно плодотворными в деятельности молодого писателя. Здесь он (с конца 1924 г.) начинает работать непосредственно над «Разгромом» (первоначальное название «Враги») и в основном заканчивает его к отъезду на постоянное жительство в Москву.
В конце 1924 года Фадеев вступает в Ростовскую ассоциацию пролетарских писателей, и 10 января 1925 года газета «Советский юг» извещает литературную общественность края, что на заседании этой ассоциации было прочитано автором начало повести «Враги». Причем в информации давалась оценка прочитанного: «Как и прежде, отмечены неторопливая толстовская манера в развертывании событий и, что особенно удается т. Фадееву, характеристика его персонажей»[14]. Утверждалось также, что повесть Фадеева – наиболее значительное из прозы последнего времени. Это был первый печатный отзыв о «Разгроме». В нем проявилась зрелость его авторов – членов РАПП (Ростовской ассоциации). С одобрением отмечается влияние Толстого на Фадеева. Видимо, проблема классического наследства в Ростовской ассоциации понималась правильно. Тот факт, что уже первые отрывки «Разгрома» оценивались так высоко, а в манере Фадеева, как особое достижение автора, выделяются удачные характеристики персонажей, свидетельствует о зрелости эстетических критериев руководителей и членов ассоциации. Это и сделало их первый отзыв о набросках «Разгрома» столь проницательным.
Ростовская ассоциация, созданная в 1923 году и вскоре превратившаяся в Северо-Кавказское объединение АПП, была по составу одной из самых сильных организаций пролетарских писателей страны. Со второй половины 20-х годов из ее рядов вышли на арену всесоюзного литературного движения такие писатели и деятели, как А. Фадеев, В. Киршон, В. Ставский, М. Серебрянский, И. Макарьев, Н. Погодин, Ю. Юзовский. Большинство из них стали ответственными руководителями Российской ассоциации и Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей и возглавили второй этап рапповского литературного движения, который начался после постановления ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы».
Вступление в Ростовскую ассоциацию засвидетельствовало твердое решение А. Фадеева стать писателем. Это видно и из той многогранной и открытой литературной деятельности, которая прошла за 1925–1926 годы. Начиная с 1925 года, публикуются одна за другой главы «Разгрома» в журналах «Лава», «Октябрь», «Молодая гвардия» и в газете «Советский юг». В мае 1926 года издательство «Севкавкнига» (Ростов) выпускает сборник его произведений «Большевики», куда вошли отрывки из «Разлива» и «Разгрома» и рассказ «Против течения». Летом этого же года в издательстве «Московский рабочий» вышел отдельным изданием рассказ «Против течения». На собраниях читателей А. Фадеев выступает с чтением глав из «Разгрома». Он является инициатором издания литературно-критического журнала «Лава», ставшего органом Северо-Кавказского объединения ассоциаций пролетарских писателей (СКАПП). Вместе с В. Киршоном и В. Ставским Фадеев редактирует этот журнал с апреля 1925 года. В начале июня 1925 года на пленуме СКАПП он избирается в президиум правления, а затем и в состав бюро СКАПП от Ростовской ассоциации. Летом 1925 года приезжает с докладом от СКАПП в Москву на правление ассоциаций пролетарских писателей. В октябре этого года выступает в РАПП (Ростов) с докладом, в котором разъясняет историческое значение постановления ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы».
Важно отметить, что желание стать профессиональным литератором одновременно сочеталось у Фадеева с осознанным стремлением быть художником самого передового направления в литературе. В начале 20-х годов выбор был большой и вопрос, какого направления оказаться писателем, являлся далеко не праздным даже для такого политически зрелого человека, каким был А. Булыга – Фадеев. Конечно, из большого числа литературных групп, течений и объединений следует сразу же исключить те «поэтические кафе», «идеологическую слабость» которых легко обнаружил студент первого курса Горной академии. Но уже Леф во главе с Маяковским мог привлечь молодого революционного писателя – для него поэт был одним из любимых певцов революции, которого «вспомнит история». Лефовцы прославляли революцию, считали ее своей и стремились искренне (в этом сильная сторона их программы и творчества) слить поэзию с революционной действительностью. Их требование «социального заказа», особенно в истолковании и творчестве Маяковского, их установка на создание нового искусства, на революцию в самом искусстве – все это импонировало передовой молодежи. Недаром напостовцы уже с первых шагов своего существования, сражаясь с лефами, стремились в то же время установить контакт с ними. Д. Фурманов, о котором у нас пойдет речь особо, отмечал в своем дневнике от 11 сентября 1924 года: «Договорились: «Лефы» – с нами будут идти об руку рука, как первые товарищи»[15].
Фадеев не пошел в Леф не только потому, что эта литературная группа объединяла преимущественно поэтов и не признавала «ни былин, ни эпосов, ни эпопей», к которым он готовил себя. Не пошел он главным образом потому, что группа Леф давала достаточно поводов считать себя футуристической, особенно в 1923–1924 годы, когда определялась писательская судьба Фадеева. Он не мог иначе воспринимать лефовцев, когда почти в каждой статье их журнала встречал заявления следующего характера: «Сосновскому нужен дворянский Пушкин, мелкобуржуазный Есенин, царь мещанского искусства – Художественный театр… а мы заявляем: в исторический музей всю эту буржуазную шваль. На пролетарскую сцену – Мейерхольд. На трибуну – футурист Маяковский»[16]. При всей своей незрелости в идейно-эстетическом отношении, при всех своих заблуждениях, которыми будет сопровождаться вся его рапповская деятельность, уже в этот ранний период Фадеев рассмотрел пороки лефовской программы, и прежде всего в их взглядах на классическое наследство. В «Страничках воспоминаний» о Ю. Либединском и А. Фадееве В. Герасимова отмечает: «С особой любовью к бессмертным художникам как русской, так и мировой классики относился приехавший через год после организации группы «Молодая гвардия» дальневосточник А. Фадеев»[17]. Уже в рассказе «Против течения», опубликованном в 1923 году, молодой писатель выступил в «традиционной форме», «подражал» Льву Толстому, за что подвергся критике со стороны «новаторов» из «Молодой гвардии». Он с убежденностью и достоинством ответил им, что в следовании традициям классиков не видит ничего плохого.
Фадеев мог примкнуть к литературной группе «Кузница» – самой близкой ему по духу. Возникшая в 1920 году (название получила в марте 1921 года), она объединяла пролетарских поэтов и прозаиков. В августе 1921 года ею была основана Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП). В 1923 году, когда Фадеев явился с первыми повестями, в «Кузнице» уже выступали такие известные прозаики, как А. Новиков-Прибой, Ф. Гладков, В Бахметьев, Н. Ляшко, А. Неверов.
Фадеев не вступил в группу «Кузница» по той простой причине, что ко времени его «вхождения» в художественное творчество появилось новое боевое направление пролетарской литературы – напостовство. Уж самим фактом своего существования и бурного развития оно обнаружило, что «Кузница» – вчерашний день пролетарской литературы. Поэты – «кузнецы», так восторженно и романтически воспевшие грозные годы революции, растерялись перед лицом мирной жизни, а при введении нэпа неприятие мирных буден в их поэзии окрашивается в трагические тона. Что касается прозы «кузнецов», пришедшей на смену поэзии и обнаружившей близость к реальной повседневной действительности, то ее тематика из пролетарской превратилась в крестьянскую, а стиль стал напоминать демократическую литературу дооктябрьского периода (особенно в творчестве старшего поколения писателей, таких, как А. Неверов, В. Бахметьев). Только с 1925 года, когда уже публиковались главы «Разгрома», проза «Кузницы» дает такие произведения пролетарской литературы, как «Цемент» Ф. Гладкова и «Доменная печь» Н. Ляшко.
Наконец, Фадеев мог разделить положительную сторону программы А. К. Воронского, о котором мы еще будем говорить. Мог, если бы сумел в ту пору подняться до понимания всей сложности и глубины проблем художественного творчества, закономерности его развития. Но дело обернулось так, что Фадеев и рапповское движение в целом вели непримиримую борьбу с Воронским и его теориями. Эта борьба оказалась столь ожесточенной, что ее нельзя ставить в сравнение даже с теми атаками рапповцев, которые были направлены против подлинных врагов пролетарской литературы и советского строя вообще. В существовании этой многолетней битвы повинен и сам Воронский.
Однако следует здесь заметить, что борьба между рапповцами и Воронским (группа «Перевал») объективно свидетельствует об острых, трудных и, в общем, плодотворных поисках путей развития советской литературы в то время.
Итак, Александр Фадеев, идя в литературу, из всех существовавших в начале 20-х годов творческих групп, течений и направлений избрал напостовство, Российскую ассоциацию пролетарских писателей.
До 1927 года А. Фадеев еще не будет являться авторитетной фигурой литературного движения. Только роман «Разгром» поставит его в ряд выдающихся деятелей советской литературы. Естественно, до той поры он почти не будет появляться на страницах нашего повествования, хотя – и это впоследствии увидит читатель – история литературной борьбы первой половины 20-х годов, как это было подчеркнуто нами во вступлении, имеет прямое отношение к Фадееву.
ГЛАВА 2
Вечером 7 декабря 1922 года в помещении журнала «Молодая гвардия» состоялось собрание пролетарских писателей. На нем присутствовали вышедшие из «Кузницы» поэты Семен Родов, Алексей Дорогойченко и прозаик Сергей Малашкин; члены группы «Молодая гвардия» Артем Веселый, А. Безыменский, А. Жаров, Н. Кузнецов; члены группы «Рабочая весна» А. Соколов, А. Исбах, Иван Доронин; не входившие ни в какие группы и именовавшиеся «дикими» – Ю. Либединский, г. Лелевич, Л. Авербах, А. Тарасов-Родионов. На этом собрании было решено создать объединенную группу пролетписателей под названием «Октябрь». С этого события и начинается история РАПП.
Почему возникла необходимость создать эту группу, объясняют ее основатели. В 1922 году «совершенно отчетливо вырисовался кризис, переживаемый пролетарской литературой. Крупнейшая из существовавших литературных организаций «Кузница», застряв на передаче общего «планетарного пафоса» первого периода революции, в дни революционных буден бултыхнулась с облаков в болото
упадочных настроений и декадентского изощрения не насыщенной содержанием формы. Возглавляемая «Кузницей» Всероссийская ассоциация пролетписателей (ВАПП) фактически давно распалась, существовала лишь на бумаге, и молодые творческие силы рабочего класса развивались и объединялись помимо нее. В литературе, пользуясь этим разбродом и разнобоем, правила бал циничная и реакционная пильняковщина, пригреваемая некоторыми запутавшимися товарищами»[18].
Группа «Октябрь» ставила своей ближайшей целью «укрепление коммунистической линии в пролетарской литературе и организационное укрепление ВАПП»[19].
Октябристы сразу же приступили к выработке идеологической и художественной платформы. Ко времени созыва ими Московской конференции пролетарских писателей (март 1923 г.) платформа была выработана и опубликована в «Правде». На конференции было принято решение основать Московскую ассоциацию пролетписателей (МАПП), а платформу «Октября» объявить платформой МАПП.
«Идеологическая и художественная платформа» группы «Октябрь», принятая по докладу Семена Родова «Современный момент и задачи пролетарской литературы», интересна уже тем, что это первый основополагающий документ РАПП. В нем отражено многое: и уровень составителей в понимании задач развития советской литературы, и особенности той исторической эпохи, и сильные и слабые стороны всего рапповского движения. Напостовцы на различных этапах будут изменять и совершенствовать эту платформу. Но основные ее положения пройдут через всю историю РАПП. Вот почему есть смысл повнимательнее отнестись к ее содержанию.
Эта платформа резко отличалась от пышной, пафосной декларации «Кузницы», опубликованной тоже в 1923 году (вторая декларация «Кузницы»). Практический, деловой тон характеризует платформу МАПП. В ней говорится о том, что «Пролетарская литература, как движение, только в результате Октябрьской революции получила необходимые условия для своего выявления и развития»[20]. Но на пути этого развития возникли и возникают большие трудности. «Оформив в процессе классовой борьбы революционно-марксистское понимание в области экономики и политики, пролетариат в остальных областях еще не вполне освободился от многовекового идейного воздействия со стороны господствовавших классов»; «по окончании гражданской войны и в процессе углубления борьбы на экономическом фронте выдвинулся фронт культурный, особенно важный в условиях нэпа и начавшегося идеологического наступления буржуазии. Культурная отсталость русского пролетариата, вековой гнет буржуазной идеологии, упадочная полоса русской литературы последних лет и десятилетий перед революцией – все это, вместе взятое, влияло, влияет и создает возможность дальнейшего влияния буржуазной литературы на пролетарское творчество. Кроме того, на нем не могло не сказаться влияние идеологической мелкобуржуазной революционности, обусловленной стоящей перед российским пролетариатом параллельной задачей завершения буржуазно-демократической революции. В силу этих условий пролетарская литература до сих пор неизбежно носила и часто носит эклектический характер как в области идеологии, так, следовательно, и в области формы»[21]. В силу этих обстоятельств и в связи с новым культурным фронтом перед пролетариатом «…встает, в качестве первоочередной, задача строительства своей классовой культуры, следовательно, и своей художественной литературы»; и вторая задача «сводится к тому, что с началом планомерного социалистического строительства во всех областях методами нэпа… выявилась необходимость и в пролетарскую литературу ввести определенную систему»[22].
Такова идеологическая часть платформы. Не будем суровы при оценке выдвинутых в платформе положений. Будем помнить, что это создавалось в 1923 году. Положительным здесь является ориентация на современность, это скажется и на второй, художественной части платформы. Она учитывает обострение классовой борьбы на идеологическом фронте, продолжающееся влияние буржуазной идеологии, особенно в связи с введением нэпа. В ней трезво оценивается состояние самого рабочего класса, взявшего политическую власть, но не овладевшего даже элементарной культурой в массе своей. Да и задачи были поставлены в основном в соответствии с требованиями тех лет. Наше государство, наша партия ставили задачу создания своей пролетарской социалистической культуры и литературы, которые не могли не быть классовыми; литература не могла развиваться без «системы», без руководства со стороны государства, партии. Но наряду с этим положительным платформа содержит серьезные заблуждения пролеткультовского толка. Вся культура прошлого, в том числе и литература, характеризуется как буржуазно-дворянская, идеологически враждебная пролетариату, как антипод пролетарской литературы. К тому же получается, что в идеологическую область пролетариат не внес своего, марксистско-ленинского эстетического понимания проблем художественного творчества. А отсюда делается не менее ошибочный и вредный вывод о строительстве чисто пролетарской культуры и литературы. В разной степени и с различными оттенками эти заблуждения будут свойственны почти всем руководителям и теоретикам РАПП, всему этому движению.
Нас, конечно, удивляет то обстоятельство, что мысли о развитии пролетарской культуры, высказанные В. И. Лениным и опубликованные в 1920 году и позже, оказались совершенно неусвоенными составителями платформы «Октябрь» и конференцией МАПП, принявшей ее как программу действия. Больше того, огромный вклад, внесенный Лениным в разработку проблем развития пролетарской культуры, почти совсем не был освоен рапповцами, и это отрицательно сказалось на их идейно-эстетических воззрениях в целом. Не менее удивляет в идеологической платформе «Октября» полное игнорирование дооктябрьского пролетарского литературного движения. Полное – как будто бы с них да с «Кузницы» оно и начинается. Это заблуждение также будет сопровождать всю историю РАПП. Если для каждого школьника нашего времени доступными и элементарными кажутся истины, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»[23] или: «Горький является основоположником пролетарской социалистической литературы», то для руководителей пролетарской литературы на протяжении всех 20-х годов эти истины были весьма сомнительными и вызывали ожесточенные споры. Оказывается, как много надо времени для усвоения простых и мудрых истин.
Таковы положительные и отрицательные моменты идеологической платформы «Октября».
Художественная платформа начинается с определения понятия пролетарской литературы. «Пролетарской является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата, как переустроителя мира и создателя коммунистического общества»[24]. Основой этой литературы является революционно-марксистское мировоззрение, а творческим материалом – «современная действительность, творцом которой является пролетариат, а также революционная романтика жизни и борьбы пролетариата в прошлом и его завоевания в грядущем». Содержание и форма в художественном произведении взаимно обусловлены – это «диалектические антитезы: содержание определяет форму и художественно оформляется в ней»[25]. Определяющим является содержание. «Наряду с лирикой, господствующей последнее пятилетие в пролетарской литературе, в основу будет положен эпический и драматический подход к творческому материалу»[26].
Платформа «Октября» выступает против всех видов декадентского искусства – «против вырождения понятия творческого образа в самодовлеющий раздробленный живописный орнамент (имажинизм)»; против «выделения слова-ритма, как такового, в самоцель, в результате чего художник часто уходит в область чисто словесных, не имеющих общественного смысла упражнений (футуризм)»; против «фетишизирования звука, возникшего в период упадка буржуазии и выросшего на почве нездоровой мистики (символизм)».
«Только беря предмет художественного произведения в целом, в его конкретном значении и в процессе закономерного развития, можно достигнуть исторически наивысшего художественного синтеза»[27].
И в заключение говорилось: «Таким образом, задачей группы «Октябрь» является не культивирование форм, существующих в буржуазной литературе, а разработка и выявление новых принципов и типов форм путем практического овладения старыми литературными формами и преобразование их новым классово-пролетарским содержанием, а также путем критического осмысливания богатого опыта прошлого и произведений пролетарской литературы (советского периода. – С. Ш.), в результате чего должна создаться новая синтетическая форма пролетарской литературы»[28].
Художественная платформа «Октября» интересна во многих отношениях. Прежде всего следует отметить, что она отстаивает реализм в литературе, реализм нового типа. Она призывает писателей брать предмет изображения «в целом, в его конкретном значении и в процессе закономерного развития».
В соответствии с выдвинутыми принципами реализма рассматривается и соотношение формы и содержания художественного произведения. Этим же вызваны отрицание формалистического искусства и призыв к созданию эпических и драматических форм, к созданию монументального, синтетического искусства. Не вызывает возражения и определение пролетарской литературы, «которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудящихся масс в сторону конечных задач пролетариата» и которая базируется «на революционно-марксистском понимании» действительности. Заслуживает особого внимания вопрос о новаторстве в литературе: «Разработка и выявление новых принципов и типов форм путем овладения старыми литературными формами и преобразование их новым классово-пролетарским содержанием», и даже еще четче – «путем критического осмысления богатого опыта прошлого».
Ни одна группа в те годы не ставила столь четко и ясно творческие задачи перед литературой в новых условиях, как поставила их группа «Октябрь». В этом ее заслуга перед всей историей советской литературы, в этом заключалась притягательная сила нового литературного направления. Как известно, принципы реалистического искусства всегда отстаивались нашей партией.
В художественной платформе «Октября», естественно, отразились ошибки идеологической платформы. Тематика пролетарской литературы хоть и связывается с современной действительностью, но ограничивается лишь той областью ее, «творцом которой является пролетариат», и в прошлом и в будущем также литературе предписано отображать «революционную романтику жизни и борьбы пролетариата». Эта узость и цеховщина, идущие от Пролеткульта, принесут в дальнейшем много вреда развитию советской литературы 20-х годов, и только ли 20-х?
Идеологическая и художественная платформа «Октября» – это, так сказать, программа действия напостовцев. Когда они стали применять ее на практике, не только ошибочные, но даже и правильные ее положения часто использовались не по назначению, неразумно, во вред литературному делу страны.
Кроме платформы «Октября» на 1-й конференции МАПП были приняты тезисы доклада г. Лелевича «Об отношении к буржуазной литературе и промежуточным группировкам». В них сформулированы тактические принципы напостовцев, решались вопросы их борьбы в современных условиях.
Эти тезисы свидетельствовали о том, что руководители пролетарской литературы понимали обострившуюся политическую обстановку в стране в связи с введением нэпа. Культурное строительство явилось ареной классовой борьбы, подлинным фронтом. Белогвардейщина, потерпевшая крах в нашей стране, разбросанная по разным заграницам, начинает поднимать голову, объединяться во всевозможные союзы «по спасению родины». Возникает сменовеховство, расценившее нэп как отступление большевиков к капитализму и решившее содействовать «взрыву изнутри». В стране начинают активизироваться буржуазные элементы. В августе 1922 года XII партконференция РКП(б) вынуждена была принять резолюцию «Об антисоветских партиях и течениях», где говорилось: «Антисоветские партии и течения систематически пытаются превратить сельскохозяйственную кооперацию в орудие кулацкой контрреволюции, кафедру высших учебных заведений – в трибуну неприкрытой буржуазной пропаганды, легальное издательство – в средство агитации против рабоче-крестьянской власти и т. д.»[29]
Воспользовавшись тем, что Советское правительство в 1921 году разрешило открытие частных издательств, которых через год в одной Москве уже существовало 220, контрреволюция начала действовать через них.
В начале нэпа появляются многочисленные журналы и альманахи, имевшие антисоветский характер, проповедовавшие порнографию, пессимизм и мистику. Петербургский журнал «Мысль», издававшийся философским обществом, был «журналом самой разнузданной поповщины»[30]. Журналы «Россия», «Новая Россия», редактировавшиеся И. Лежневым, открыто проповедовали сменовеховские идеи, т. е. жаждали краха идей Октябрьской революции. Интересно отметить, что И. Лежнев в воспоминаниях «Записки современника», вышедших в 1935 году в Москве, сам оценивает характер своей деятельности как реакционный: «В годы нэпа, с 1922 по 1926 г., я редактировал сменовеховский журнал «Новая Россия» и обрел на том сомнительную славу «идеолога российской интеллигенции». Следующие затем 4 года (после закрытия журнала) я прожил в Германии. Жизненный опыт и труд, учеба и размышления привели меня обратно в Союз в 1930 году»[31].
Журналы «Вестник литературы», «Летопись Дома литераторов», «Жизнь», «Начало», «Русский современник» объединяли старую русскую интеллигенцию, не понявшую революцию, растерявшуюся и капризно, чванливо и озлобленно брюзжавшую на Советскую власть. Идеи сменовеховщины были им, в общем, по душе. В журнале «Летопись Дома литераторов», именовавшем себя «литературно-исследовательским и критико-библиографическим», от 1 декабря 1921 года была опубликована информация Я. Б. Лившица «Новые и старые вехи (два собеседования в Доме литераторов о сборнике «Смена вех»)». В информации говорится, что «интерес, какой вызвал нашумевший пражский сборник «Смена вех», побудил Дом литераторов устроить специальное собеседование», что два дня шло обсуждение этого сборника и что привлекло оно очень много публики. Дальше дается краткое содержание выступлений. Г. Я. Красный-Адмони отмечает, что заслуга авторов «Смены вех» состоит в том, «что они вновь выдвинули на очередь больной вопрос об отношениях между интеллигенцией и советской властью. 25 октября 1917 года русский СКИФ захватил всю полноту власти, уничтожил буржуазию, культуру, интеллигенцию, в уверенности, что он творит великое дело. Но русская интеллигенция не для защиты своих миллионных вкладов очутилась в оппозиции к советской власти. И теперь, когда советская власть ищет мира даже с буржуазией, пора понять, что мир с интеллигенцией еще важнее мира с буржуазией. Государство не может жить без своего мозга – без интеллигенции»[32]. Хотя в завершении информации и говорится, «что позиция неовехистов в том виде, как она изложена в сборнике «Смена вех», не была, по-видимому, никем из участников собеседования принята целиком»[33], мы не случайно остановились на выступлении Г. Я. Красного-Адмони. В нем выражены враждебные умонастроения буржуазной интеллигенции, оставшейся в России, но презиравшей народ и считавшей себя незаменимой. Не менее любопытным было выступление В. Г. Тана, который «отстаивал тот взгляд, что социализм – это та же религия, как и христианство»[34].
Как видим, шла ожесточенная борьба на идеологическом фронте. Буржуазные элементы действительно активизировались. И Советское государство принимало решительные меры по пресечению антисоветской деятельности, вплоть до административных. Так, в 1922 году Советское правительство вынуждено было выпроводить за границу большую группу буржуазных интеллигентов, в их числе: Бердяева, Франка, Степуна, Изгоева, Осоргина, Кускову, Прокоповича. Наша партия мобилизовалась сама и мобилизовала все свои резервы на борьбу с буржуазной идеологией. Вот почему своевременным было выступление МАПП с тезисами г. Лелевича о борьбе с контрреволюционной идеологией.
Но, к великому сожалению, тезисы г. Лелевича оказались одним из самых незрелых и опасных для развития литературы документов напостовцев. Если бы линия, проводимая в тезисах г. Лелевича, восторжествовала (а напостовцы яростно добивались того, чтобы партия целиком одобрила их позицию), то советская литература была бы загублена на корню. Но этого не могло случиться, хотя рапповцы, меняя тактику, искажая решения партии, довели свою линию в 1931 году до абсурда – до лозунга «Союзник или враг». На протяжении десяти лет шли сражения на литературном фронте главным образом по вопросу об отношении к так называемым попутчикам. Вот еще почему следует особо остановиться на этом документе.
В тезисах говорится: «Общественно полезной является в наше время только такая литература, которая организует психику и сознание читателей, и в первую очередь читателей пролетарских, в сторону конечных задач пролетариата как творца коммунистического общества, т. е. литература пролетарская. Всякая иная литература, иначе воздействующая на читателя, в той или иной мере содействует возрождению буржуазной и мелкобуржуазной идеологии»[35].
Вот каким образом здесь трактуется правильное положение из платформы «Октября». Там определяется понятие пролетарской литературы, здесь используется это определение, чтобы противопоставить пролетарскую литературу классической и советской литературе, как враждебной пролетариату. А под пролетарской литературой тогда подразумевалась, по существу, лишь группа «Октябрь» да кое-кто из «Кузницы».
Дальше. «Мелкобуржуазные группы писателей, «приемлющих» революцию, но не осознавших ее пролетарского характера и воспринимающих ее лишь как слепой анархический мужичий бунт («Серапионы» и т. п.), отражают революцию в кривом зеркале и неспособны организовать психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата. Поэтому положительного воспитательного значения для рабочего класса они иметь не могут»[36].
С 1923 года, с легкой руки Троцкого, мелкобуржуазных писателей стали называть «попутчиками». К этой категории относилась основная масса советских писателей, по существу, все, кто не входил в РАПП.
Уровень пролетарской литературной критики был тогда низок, подход к творчеству того или иного писателя со стороны коммунистов-критиков – различным, критерии оценок – не всегда научными. У напостовцев в оценках творчества непролетарских писателей проявлялся субъективизм и вульгарный социологизм. Выводы из тезисов г. Лелевича о писателях-попутчиках, что они «неспособны организовать психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата» и что «поэтому положительного воспитательного значения для рабочего класса они иметь не могут», были опасными. Они отталкивали огромную массу трудовой интеллигенции, в том числе и художественную интеллигенцию, которая приняла революцию, в процессе ее развития многое осознала и пошла за Советской властью. В этом смысле тезисы Лелевича шли вразрез с политикой партии, которая заключалась в том, чтобы не отталкивать, а перевоспитывать честную трудовую интеллигенцию. Партия верила, надеялась, что великие идеи Октябрьской революции, опыт начавшегося строительства новой жизни могут перевоспитать даже буржуазную интеллигенцию, если она не стоит во враждебной позе к Советам, а готова честно служить народу. Всего этого не понимали напостовцы. Исходя из своих тезисов, они, как мы увидим дальше, будут третировать всю непролетарскую литературу. Беда заключалась еще в том, что к этой «непролетарской литературе», «вредной» для рабочего класса, напостовцы относили творчество Горького и Маяковского, не говоря уже о творчестве многих и многих замечательных художников, которые в те годы прославляли революцию.
ГЛАВА 3
На 1-й конференции МАПП, где присутствовало 74 делегата, было избрано правление, куда вошли: А. Безыменский, X. Гильдин, г. Коренев, А. Исбах, г. Лелевич, Ю. Либединский, В. Плетнев, С. Родов, А. Соколов. Был избран президиум правления: секретарь президиума – Ю. Либединский, члены – С. Родов и А. Соколов. Все это были молодые писатели, начавшие свое творчество в годы революции.
Александру Безыменскому исполнилось тогда 25 лет, он был уже автором двух книжек стихов – «Октябрьские зори» (1920 г.) и «К солнцу» (1921 г.), которым присущи характерные черты абстрактной поэзии «Кузницы». Лишь с 1923 года он порывает с «планетарной» поэзией и пишет по этому поводу свое известное стихотворение «Поэтам «Кузницы», ставшее поэтической декларацией напостовцев: «Откиньте небо! Отбросьте вещи! Давайте землю и живых людей». Именно отсюда берет начало пресловутый «живой человек» рапповцев. Безыменский в 1923 году стал одним из популярных комсомольских поэтов. Его «Молодая гвардия», ставшая одной из любимейших песен комсомольцев двадцатых годов, и до сих пор остается популярной среди советской молодежи и революционной молодежи мира.
Юрий Либединский к этому времени опубликовал лишь первую повесть «Неделя», своей правдивостью и революционным пафосом сделавшую имя автора широко известным. Да и сейчас мы оцениваем «Неделю» как самое яркое и волнующее произведение Либединского. Это произведение и выдвинуло его в ряды авторитетных руководителей РАПП. Через много лет в письме к своему другу А. Фадееву откровенно об этом расскажет сам Либединский: «Я в молодости попал в положение одного из руководителей литературы только потому, что совпадение благоприятных случайностей выдвинуло меня вперед, так как я один из первых написал произведение, которого ждал народ, – и на первых порах пожал лавры за всех вас – и за Фурманова и за тебя. Теперь все стало на свои места»[37].
Г. Лелевич (Калмансон Лабори Гелелевич) и Семен Абрамович Родов играли в напостовском движении особую роль. Эту роль никак нельзя признать положительной. Серьезные ошибки, допущенные рапповцами в первом периоде, связаны прежде всего с этими именами.
Семен Родов родился 12 января 1893 года в г. Херсоне в семье служащего. В 1918 году вступил в РКП(б) и принимал участие в революции, выступил как поэт еще до революции и в год своего вступления в партию опубликовал первый сборник стихов «Мой сев». Второй сборник «Стальной строй» вышел в 1921 году, когда Семен Родов уже был членом «Кузницы». Вот что об этих двух сборниках сказал А. Воронский в 1923 году (его оценку нельзя не признать справедливой): «Очень любопытен в этом отношении т. Родов, изобличающий и не дающий никакого послабления попутчикам и их попустителям. Родов пришел к «Стальному строю» от «Моего сева». «Мой сев» – это Игорь Северянин, Блок плюс Бальмонт не только по форме, но и по содержанию.
- Я стал пред нею на колени.
- Впервые – юноша победный.
- Я жаждал радости смирении —
- Печальный мальчик, мальчик бледный.
Или:
- Молитвы смутные слова,
- Полузабыв, я бормотала,
- И четки скользкая рука
- Замедленно перебирала.
И так далее. Словом, поэзия Северянина о мальчике бледном без взаимности. Конечно, быль молодцу не в укор, и очень хорошо, что поэт от этих поэз перешел к воспеванию стального строя. Но, вспомнив и перечитав «Мой сев», вышедший в 1918 году, начинаешь понимать, почему в «Стальном строе» так много барабанного боя… Воспевать стальной строй похвально в высшей степени, но только в том случае эти гимны доходят до сердца читателя, когда они идут от сердца поэта»[38]. Попробовав вместе с г. Лелевичем создать новый жанр лирики «коммунэры» и убедившись, что из этого ничего серьезного не получается, Семен Родов полностью переключился на критическую и организаторскую деятельность.
Г. Лелевич родился 17 сентября 1901 г. в г. Могилеве. Отец его был поэтом и революционером, в советское время выступал вместе с сыном на страницах журнала «На посту» под псевдонимом «Перекати-поле». Лелевич, не окончив реального училища, ушел в революцию. До 1922 года был на различной партийной работе. Стихи писал с детства. В 1921 году в Гомеле вышла поэма «Голод» и сборник стихов «Набат». Попытка Лелевича внедрить в пролетарскую поэзию свои «коммунэры» не увенчалась успехом, так как ничего оригинального они с собой не принесли. К примеру, его «Коммунэра об агитаторе» хоть и повествовала о героизме комиссара, ворвавшегося с пламенным словом в мятежную толпу и погибшего от вражеской пули, но поэтическая форма ее была заимствована у поэтов-акмеистов и не соответствовала героическому содержанию:
- И в день, когда над черным катафалком
- Прощальных флагов реял красный шелк,
- За гробом шел, забыв свой ропот жалкий,
- Под красным знаменем мятежный полк[39].
Как и Семен Родов, г. Лелевич бросил поэзию и увлекся критикой и публицистикой. В дальнейшем с этими именами мы будем встречаться еще много раз. Здесь же следует сказать, что Родов и Лелевич, а вслед за ними Леопольд Авербах и В. Ермилов представляли ту часть активной молодежи, которая, в сущности, далека была от подлинного понимания марксизма-ленинизма и, поднятая революционной волной на руководящие вершины пролетарского литературного движения, благодаря революционному фразерству, занималась вульгаризацией марксизма в области искусства на протяжении ряда лет. Несомненно, и эта молодежь училась, но прежде всего она хотела учить других. Выходцы из мелкобуржуазной среды, главным образом из интеллигенции, не знавшие подлинной жизни народа, бесспорно обладавшие способностями, приобретшие определенный политический авторитет в годы революции, – эти молодые люди были до самозабвения убеждены, что им начертано историей творить судьбы новой пролетарской культуры. Как они ее творили, увидим дальше.
Из первого состава правления МАПП нас еще должна заинтересовать фигура В. А. Плетнева, одного из руководителей Пролеткульта. Вместе с А. А. Богдановым Плетнев распространял под видом «пролетарской культуры» враждебные марксизму реакционные взгляды на культуру. 22 сентября 1922 года в записке к Бухарину, бывшему тогда редактором «Правды» и опубликовавшему статью В. Плетнева «На идеологическом фронте», В. И. Ленин писал: «Ну зачем печатать глупости под видом важничающего всеми учеными и модными словами фельетона Плетнева? Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков вопроса. Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться. Неужели редакция «Правды» не разъяснит автору его ошибки? Ведь это же фальсификация исторического материализма! Игра в исторический материализм!»[40]. Из двух ленинских пометок одна имеет особо принципиальное значение для нашей темы. В. Плетнев пишет: «Задача строительства пролетарской культуры может быть решена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды». В. И. Ленин подчеркивает в этой фразе слова «только» и «его» и на полях замечает: «Архификация». В другой фразе: «Пролетарский художник будет одновременно и художником и рабочим», подчеркнув слова «и художником и рабочим», В. И. Ленин восклицает: «Вздор!» Эти «две глупости» В. Плетнева, не случайно вошедшего в руководство МАПП, станут глупостями напостовцев вплоть до ликвидации РАПП.
Руководство МАПП после конференции приступило к реализации ее решений. Развернулась борьба с «Кузницей» за созыв Всероссийского съезда пролетарских писателей. Мапповцам нужен был съезд, чтобы на нем завоевать Всероссийскую ассоциацию пролетписателей. «Кузница» сопротивлялась, потому что боялась лишиться руководящего положения в ВАПП.
«Упадочники из «Кузницы», – сетовали руководители МАПП, – стараются свести пролетарскую литературу к делу узенькой касты «жрецов искусства» и срывают Всероссийский съезд». МАПП, наоборот, «считает, что пролетарская литература должна и может быть широким общественным движением и только создание сплоченной выдержанной ВАПП может обеспечить победу партии на литературном фронте и покончить с существующим расколом и разбродом»[41].
Эта позиция и тактическая линия мапповцев были правильными и отражали насущные потребности пролетарского литературного движения.
Мапповцам не хватало печатного органа, с помощью которого они могли бы открыто и широко развернуть подготовку к Всероссийскому съезду, огласить свои декларации, свое отношение к литературной жизни в стране. Журнал «Молодая гвардия», руководители которого входили в МАПП, являлся органом ЦК партии и комсомола. У него были свои широкие задачи. И вот в начале 1923 года руководству Московской ассоциации удалось добиться разрешения на издание своего ежемесячного литературно-критического журнала. Этот журнал получил название «На посту». Он стал выходить под редакцией старого большевика Б. Волина и поэтов-критиков г. Лелевича и С. Родова. Первый номер появился в июне 1923 года и произвел впечатление… разорвавшейся бомбы. Но прежде всего – о самом журнале.
В рубрике «Ближайшие сотрудники журнала» назывались имена деятелей партии и государства: Ем. Ярославский, А. Бубнов, Дм. Мануильский, П. Керженцев, П. Лепешинский и другие; имена известных писателей: А. Серафимович, Д. Бедный, М. Кольцов, А. Неверов, А. Тарасов-Родионов, Л. Рейснер; литературоведов-историков: В. Лебедев-Полянский, В. Фриче.
Эти имена, бесспорно, внушали доверие к журналу. Однако уже после выхода третьей книжки журнала (ноябрь 1923 г.) состав «ближайших сотрудников» поредел. С титульного листа исчезли имена Ем. Ярославского, А. Бубнова, Дм. Мануильского, П. Керженцева, А. Серафимовича, Л. Рейснер, М. Кольцова, А. Неверова. Этот отлив Видных сотрудников был симптоматичным.
В каждом номере журнала настойчиво повторялось, что «На посту» – ежемесячник. Однако с июня 1923 года по май 1925 года – за 24 месяца – вышло 5 книжек (6 номеров) журнала. В статье одного из постоянных критиков и самых рьяных напостовцев Ил. Вардина (Илларион Виссарионович Мгеладзе) «Воронщину необходимо ликвидировать» дается объяснение столь продолжительным задержкам: «Издательство «Новая Москва» не пожелало продолжать выпуск нашего журнала. Другие издательства также отказались приютить у себя такой «крамольный» журнал, как «На посту». В результате в нашей работе получился перерыв. Вот лишнее, прямо-таки вопиющее доказательство того, что партийно-политическое руководство нашими издательствами никуда не годится»[42].
Напряженнейшая борьба, развернувшаяся после выхода первого номера «На посту», обострялась от номера к номеру. Пожалуй, в истории не только советской, но всей русской журналистики трудно подыскать пример, когда бы общественность была так взбудоражена выходом журнала, как это случилось при появлении «На посту». Всю ту бурю разыгравшихся страстей вокруг журнала нельзя объяснить и понять, если расценить поведение напостовцев только как «пощечину общественному вкусу», как «левачество максималистов», как «дерзость и непозволительность тона», которым они вели спор со своими многочисленными противниками. Нельзя все это объяснить также лишь серьезными заблуждениями и ошибками в деятельности и в позиции журнала. Все это действительно присутствовало и обостряло борьбу. Но если бы было только одно это, если бы возник один «шум из ничего», движение напостовцев так же бы быстро исчезло, как и появилось на свет. Оно бы, скажем, разделило судьбу «ничевоков», течение которых лопнуло как мыльный пузырь, стоило им обнародовать свой первый сборник.
При всех недостатках и крайностях движение напостовцев оказалось жизнеустойчивым литературным направлением. Достаточно сослаться на то, что к нему потянулась творческая молодежь со всех концов нашей Родины, оно стало массовым, из его рядов вышли такие художники, как Фурманов, Шолохов, Фадеев и другие.
Положительные тенденции напостовцев со всей очевидностью отразились на страницах их журнала.
Закончилась гражданская война. Началось мирное строительство. Много сложных вопросов встало перед нашей партией, перед нашим молодым государством, в том числе и один из сложнейших: строительство новой культуры и как части ее – новой литературы. Как строить эту новую культуру? Каков должен быть ее характер, ее содержание? На эти вопросы давались тогда самые различные ответы и толкования. Пролеткультовцы стояли за создание пролетарской культуры. Но их теория оказалась реакционной, ибо не только пролетарской, но и вообще никакой культуры по их рецептам нельзя было построить. Они пытались создать чисто классовую культуру на голом месте, они не понимали, что без овладения запасами знаний, выработанных человечеством на протяжении тысячелетий, никакой культуры построить нельзя, тем более коммунистической – высшей культуры человечества. Кроме того, они пытались обособить строительство культуры, оторвать его от политики партии, т. е., по существу, лишить культуру самого главного – ее коммунистического содержания, ее планомерного развития и подчинения задачам строительства нового общества. Несмотря на то что теории Пролеткульта был нанесен смертельный удар В. И. Лениным и нашей партией, некоторые пролеткультовские тенденции оказались живучими и давали о себе знать на протяжении десятилетий.
Выступил со своим планом культурного строительства Троцкий. Как и во всем, он и здесь извратил и отверг ленинское учение. В своей книге «Литература и революция» он пространно доказывал, что в переходный период от капитализма к социализму, в период своей диктатуры господствующий класс будет находиться в состоянии постоянной борьбы с врагом и ему не до строительства новой культуры. Весь этот период трудящиеся будут осваивать старую буржуазно-дворянскую культуру и литературу и лишь в далеком будущем, овладев старой, начнут строить новую, социалистическую культуру и литературу. Нельзя сказать, чтобы у Троцкого не было единомышленников. Именно тот, с кем напостовцы поведут яростную борьбу по многим линиям открытого ими фронта, проиграл битву главным образом потому, что увлекся теорией Троцкого. Я имею в виду Александра Константиновича Воронского.
Правда, здесь следует оговориться в том отношении, что Внутренние мотивы отрицания пролетарской литературы у Воронского были иными, чем у Троцкого. Для Троцкого важным было и в области культуры выдвинуть антиленинское положение, как он это делал в других областях, чтобы стать в позу теоретика и прорваться к власти. Он уцепился за классическое наследство потому, что знал, как Ленин и старшее поколение большевиков высоко ценят это классическое наследство. И он хотел усыпить их бдительность. Совершенно другими были мотивы Воронского, когда он предлагал не создавать пролетарскую литературу в переходный период, а творить современную литературу по классическим образцам прошлых эпох и таким путем поднимать культуру народа. Но об этом позже. Факт остается фактом, что, поддержав теорию Троцкого, А. Воронский поставил себя под неотразимый удар напостовцев, а затем и самой жизни.
Ленинская теория пролетарской социалистической культуры, генеральный план ее строительства теперь известны каждому образованному советскому человеку. Коммунистическая партия руководствовалась ленинским учением на протяжении всей истории Советского государства. И в те первые годы Советской власти не кто иной, как партия, отвергла и пролеткультовские и троцкистские теории. Это давалось не сразу, это добывалось в борьбе.
Заслуга напостовцев в этой борьбе состоит в том, что они яростно отстаивали право на существование пролетарской культуры, правда в пролеткультовском духе. Напостовцы не считались с авторитетами. Позицию Троцкого в своем журнале они открыто именовали капитулянтской. И в этом отношении журнал «На посту» помогал партии в деле разоблачения троцкизма, хотя по другим вопросам некоторые руководители журнала солидаризировались с Троцким, были троцкистами.
Не менее важным в позиции напостовцев было их убеждение, что пролетарская литература не может существовать вне партийного влияния и руководства. В этом они решительно отличались от пролеткультовцев. С первого и до последнего номера журнал «На посту» ведет борьбу за партийность литературы, за создание единой целеустремленной системы партийного руководства всем литературным делом страны. Первый номер журнала открывается такими заявлениями напостовцев: «Мы будем стоять на посту ясной и твердой коммунистической идеологии в пролетарской литературе», «ясная, твердая, строго выдержанная коммунистическая линия в художественной литературе будет руководящим принципом нашего журнала»[43]. В статьях г. Лелевича «Нам нужна партийная линия» («На посту» № 1, 1923) и «Партийная политика в искусстве» («На посту», № 4, 1923), А. Безыменского «Пролетарские писатели и партия» (там же), Л. Авербаха «О литературной политике партии» («На посту» № 1/6 за 1925 г.) и во многих других статьях мысль о партийном руководстве литературой настойчиво проводится. Правда, в этом вопросе были у них и очень серьезные заблуждения, сводившие на нет их борьбу за партийность.
Напостовцы требовали также массовости литературного движения, того, «что пролетарская литература должна и может быть широким общественным движением»[44]. Напостовцы развернули деятельность на заводах и фабриках, среди студенчества, создавали кружки и литературные объединения. На периферии возникали ассоциации пролетарских писателей. В организации и развитии широкого массового литературного движения журнал «На посту» сыграл важную роль.
И наконец, не следует забывать, что не кто иные, как напостовцы, в своем журнале начали яростные атаки на литературном фронте против буржуазной идеологии и литературы. «Нэп открывает целый ряд серьезнейших опасностей для революции, на основе нэпа буржуазия легально укрепляет свои позиции, новыми экономическими средствами она ведет борьбу против власти Советов, – в конечном счете за свою собственную власть. Разве во всей этой борьбе художественная литература может занимать нейтральную позицию?»[45]. «Мы считаем своим долгом бороться не только с явно белогвардейскими и окончательно дискредитировавшими себя в глазах масс литературными течениями, но и с теми писательскими группировками, которые выступают под ложной маской революционности, а по существу являются реакционными и контрреволюционными»[46]. Да, были и такие, что выступали «под ложной маской революционности». К сожалению, напостовцы видели вокруг слишком много «ложных масок», и они незаслуженно рядили в них честных советских писателей.
Боевая линия «На посту» импонировала настроению революционной коммунистической молодежи, на полях гражданской войны сражавшейся за Советскую власть, защиту которой она считала высшим своим долгом. С первых шагов литературной деятельности А. Фадеев тянулся к пролетарскому движению. Вместе с ним пришел в пролетарскую литературу и его старший товарищ не только по возрасту, но и по художественному творчеству – Дмитрий Фурманов. Как и Фадеев, в 1921 году он демобилизовался из рядов Красной Армии, чтобы продолжить образование и стать писателем. В дневнике Дм. Фурманова от 14 сентября 1923 года под заглавием «Иду в «Октябрь» есть следующая многозначительная запись: «Давно ощущал потребность прикоснуться к организованной литературной братии. Вернее работа. И строже. Критически станешь подходить к себе – скорее выдрессируют, как надо и как не надо писать. И – круг близко знакомых литераторов. А то, по существу, нет никого. Приходишь, бывало, в иную редакцию – чужак чужаком.
Итак – в «Октябрь». Почему сюда? Платформа ближе, чем где-либо. Воспрещается сотрудничество в «Красной нови», «Ниве», «Огоньке»… Это крепко суживает поле литературной деятельности. Но с. этим надо помириться. Думаю – правда, не разбираясь в вопросе серьезно, – думаю, что следовало бы не убегать от этих журналов, не предоставлять их чужой литбратии, а, наоборот, завоевать, в чем они еще не завоеваны, – и сделать своими.
Убежать от чего-либо – дело самое наилегчайшее. Для победы нужно не бегство, а завоевание. Полагаю, что этот вопрос в дальнейшем каким-то образом должен будет подняться во весь рост.
Иду в «Октябрь» с радостью и надеждами. И с опасением: не оказаться бы там малым из малых, одним из самых жалких пасынков литературного кружка»[47].
В этой дневниковой записи Фурманова очень о многом сказано, многое объяснено: почему он идет именно в группу «Октябрь» («платформа ближе, чем где-либо»), с какой целью («скорее выдрессируют, как надо и как не надо писать»), почему он идет с опасением, а не только с радостью и надеждами («не оказаться бы там малым из малых»). Нужно отдать должное скромности Фурманова. Он пришел в «Октябрь», когда его знаменитый «Чапаев» за несколько месяцев 1923 года выдержал два издания и получил высокую оценку в самых авторитетных органах печати. Несколько лет до «Чапаева» он выступал в прессе как публицист и писатель. Так, его «Красный десант» был опубликован за год до «Чапаева» в журнале «Пролетарская революция» (1922, № 9). Он знал, что круг его «близко знакомых литераторов» из группы «Октябрь» – все начинающие поэты и писатели и ничего, что могло бы сравниться с «Чапаевым», не создали. И несмотря на все это, Фурманов опасался, как бы не оказаться «одним из самых жалких пасынков литературного кружка».
В дневниковой записи от 14 сентября 1923 года есть мысли, которые свидетельствуют о большой зрелости Дм. Фурманова как будущего руководителя пролетарского литературного движения. Фурманов пришел в «Октябрь», когда уже напостовство возникло. Он следил за развитием этого движения и разделял платформу «Октября» (правда, он выразился точнее: «Платформа ближе, чем где-либо». Всего лишь «ближе»). Однако уже в момент вступления в эту литературную группу, составившую ядро будущей РАПП, у Фурманова возникли серьезные, принципиального характера, расхождения с напостовцами. Пока он о своих расхождениях запишет лишь в дневнике, да и то с оговорками; он-де еще не разобрался «в вопросе серьезно», и что «с этим надо помириться». Но уже через год, когда по-настоящему во всем разберется, Фурманов возглавит ту часть напостовцев, которая по-партийному, по-ленински понимала значение и роль пролетарского литературного движения в стране, и поведет решительную, смертельную борьбу с рапповщиной, именовавшейся на первом этапе движения родовщиной.
Мы здесь завели речь о Фурманове с той целью, чтобы в дальнейшем, при характеристике деятельности журнала «На посту» и всего напостовства, показать, что оно (напостовство) не было единым, цельным и что Фурманову будет принадлежать выдающаяся роль в пролетарском литературном движении. И как большой художник, создавший крупнейшие произведения пролетарской литературы
«Чапаев» и «Мятеж», и как мудрый руководитель, глубже и правильнее других разбиравшийся во всем литературном деле страны, он может быть назван главой пролетарского литературного движения первого этапа (1923–1926 гг.). Да, этот этап с полным правом мы можем именовать фурмановским.
Итак, выход первого номера «На посту» и последующих его номеров вызвал большой накал страстей, явился поводом и причиной развернувшейся широкой и острой полемики, которая нашла отражение на страницах многих органов печати, в том числе и партийных. Битве, продолжавшейся два года, положила конец резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы».
Полемика шла между напостовцами, с одной стороны, и Лефом, Воронским («Перевал») и «Кузницей» – с другой. Напостовцы вели борьбу с каждым из своих противников с одинаковым накалом, но по разным мотивам.
ГЛАВА 4
Между Лефом, затем Новым Лефом и напостовцами отношения всегда были сложными, хотя Леф считался одним из близких пролетарской литературе течений. Временами появлялось взаимопонимание, и на этой основе заключались компромиссные соглашения.
Платформа Лефа первой половины 20-х годов совершенно отчетливо еще носила следы футуризма, и лефовцы открыто в этом признавались. В декларации «За что борется Леф», открывавшей номер этого журнала (март 1923 г.), прямо указывается на преемственную связь с дооктябрьским футуризмом. Часто реалистические произведения Маяковского начала 20-х годов преподносились в журнале «Леф» как достижения футуризма. Так, в № 3 журнала по-лефовски интерпретируется отзыв В. И. Ленина о стихотворении «Прозаседавшиеся». «Словами величайшего такта обмолвился Владимир Ильич про футуризм: «Я не поклонник Маяковского, хотя признаю себя в этой области не компетентным, но мне понравились его стихи». Речь шла о «Прозаседавшихся»[48].
От футуризма перешли к лефовцам неприятие классического наследства и проповедь революции в искусстве. В работе «Маркс о художественной реставрации» Б. Арватов писал: «Для того, чтобы прийти к своему собственному искусству, пролетариату придется до конца вытравить фетищистический культ художественного прошлого и опереться на передовой опыт современности. Основной задачей пролетарского искусства является не стилизация под прошедшее, а созидание, сознательное и органическое созидание будущего. Эту теоретическую позицию защищали и защищают лефовцы»[49]. Исходя из этой позиции, лефовцы приветствовали модернистские начинания в различных областях искусств. Взгляды литературоведов формальной школы, «опоязовцев» и формально-социологического метода (представителем его являлся и цитировавшийся нами Б. Арватов) были близки лефовцам. Вождь формалистической школы В. Шкловский постоянно сотрудничал в «Лефе». Группа Н. Чужака (Леф не был однородным) – Брик, Арватов, Третьяков – стояли, по существу, за ликвидацию искусства. Выдумав «производственную» теорию, теорию «жизнестроения», они свели все богатство искусства к утилитарным задачам и решительно выступили против художественного вымысла, психологизма в литературе, против основных ее жанров. Вот почему художественная проза почти отсутствует в журнале «Леф». Новаторство лефовцев в области прозы завершилось неудачей.
По мнению Третьякова, искусство будет пронизывать «производственные процессы, хотя бы ценою гибели таких специальных продуктов искусства сегодня, как стихотворение, картина, роман, соната и т. п.»[50]
В области поэзии в первой половине 20-х годов глава группы Леф В. Маяковский, во многом наперекор лефовским теориям, создал классические произведения социалистической лирики. Большим поэтом, настоящим мастером становился Н. Асеев. Но наряду с ними выступали В. Каменский, А. Крученых, С. Третьяков, И. Терентьев, пытавшиеся, занимаясь формалистическим экспериментаторством, продолжить футуристические традиции.
Напостовцы, объявившие в своей платформе борьбу с футуризмом, естественно, увидели в декларациях и практике Лефа его продолжение и в первом же номере «На посту» нанесли удар по лефам. В статье главного редактора журнала Бориса Волина под характерным для напостовцев названием «Клеветники» подвергся уничтожающей критике рассказ О. Брика «Не попутчица», повествующий о разложении коммуниста под влиянием непманской среды. Автор статьи пишет: «Брик хочет низвести на землю и не просто на землю, а швырнуть в помойную яму все то и всех тех, что дало и кто дал нашей партии исключительный авторитет и сделал ее идеалом для современной молодежи»[51]. В статье Родова «Как «Леф» в поход собрался» подверглись не менее суровой критике футуристические установки «левого фронта». В статье Лелевича «Владимир Маяковский» со всей категоричностью заявляется: «…перед нами типичный деклассированный элемент, подошедший к революции индивидуалистически, не разглядевший ее подлинного лица»[52]. В статье Родова «А король-то гол» выносится приговор сборнику стихов Н. Асеева «Избрань»: «В основном недостатки творчества Асеева те же, что и у других футуристов. Это столь яростное перегибание «формальной палки», что сама палка вдрызг рассыпается и остаются одни лишь щепы творчества. Целый ряд произведений представляет собой словесные узоры, за которыми очень трудно или совсем невозможно найти смысла»[53].
Следует отметить, что критика рассказа О. Брика и футуристических тенденций Лефа была в основном справедливой. Явно ошибочной и на низком уровне оказалась статья Лелевича «Владимир Маяковский». Ее нисколько не выручала концовка: «Если же Маяковский произведет над собой большую нутряную работу и отряхнет прах деклассированного индивидуалиста, он сможет превратиться в одного из выдающихся поэтов пролетарской революции»[54]. То же самое следует сказать и о статье Родова «А король-то гол». Уже само название статьи было оскорбительным и предвзятым. В сборник «Избрань» включены замечательные стихотворения жизнеутверждающего революционного содержания, доступные широкому читателю, и только предвзятость не позволила автору рецензии обнаружить решительный отход Н. Асеева, особенно в стихах 1922 года, от формалистического экспериментаторства футуристов. Необъективный, огульный, недифференцированный подход к Лефу, без учета того, что в нем были люди, давно принявшие революцию и воспевавшие ее в произведениях, достойных восхищения, – вот что проявилось в напостовской критике. Этим вообще отличалась критика «На посту».
Лефовцы незамедлительно ответили на эту критику. В № 3 своего журнала, вышедшем в июле 1923 года, они дали бой всем своим оппонентам. Журнал «На посту» оказался в центре внимания. К тому же лефовцы использовали напостовскую тактику нападения. В памфлете «Критическая оглобля» оценивается новоявленный журнал как глупый, грубый, не понимающий, где его друзья, а где враги. Напостовцы были выведены в образе тупого милиционера, стоящего на посту и размахивающего вместо палочки оглоблей, размахивающего неразумно, не в ту сторону. Вместо того чтобы бить «правых», он наносит удар по «левым», по своим. «Мало ли что может прийти ему в голову. Возбудится он магической силой своей палочки – и остановит движение суток этак на трое. Да и самую палочку, посчитав ее размеры не подходящими для сей значительной роли, возьмет и заменит вдруг оглоблей, отломанной у мимо ехавшего извозчика. И подняв ее… ошарашит ничего не подозревающего, спешащего по делам прохожего. И главное – уверен будет, что его пост – самый образцовый, что только завистники и недоброжелатели могут усмотреть в его поведении несоответствие задания с выполнением»[55]. Именно в этой роли выступают критики журнала «На посту», «искренне недовольные чересчур быстрым движением в литературе вообще, а по левой ее стороне в особенности»[56]. Дальше автор памфлета резко критикует статьи, направленные против Лефа, особенно достается Родову. Но памфлетист берет под защиту и ошибочные положения Лефа, справедливо осужденные журналом «На посту». В заключение дается совет редакторам журнала «повернуть свою волшебную палочку в иную сторону, туда, где движутся «графские» рыдваны с перевозимой из-за границы стародворянской рухлядью быта, сменовеховства, психологизма и грозящие выехать триумфаторами на очищенные вашими заботливыми руками от лефовских надоедливых мотоциклеток мостовые»[57].
Здесь, хоть и в иронической форме, предлагается программа совместных действий лефовцев и напостовцев против сменовеховства. И определяется конкретная мишень для прицела: только что из эмиграции на родину вернулся А. Н. Толстой, который будет находиться под прицелом напостовцев и лефовцев долгие годы.
Взаимный острополемический обмен мнениями обнаружил, как мы видим, точки сближения обеих групп. Самой высокой общей точкой сближения оказалась борьба за революционное искусство. Маяковский первым решительно пошел на сближение с напостовцами. «Лефы на вчера позвали нас к себе, говорили: Вы – организаторы, вы – победители»[58], – отмечает Фурманов в своем дневнике.
И вот в ноябре 1923 года состоялось соглашение между группой Леф и Московской ассоциацией пролетарских писателей. Лефовцы искренне приняли основной идейно-творческий тезис платформы «Октября»: «Соглашающие стороны… направляют всю творческую деятельность на организацию психики и сознания читателя в сторону коммунистических задач пролетариата»[59]. Без всяких затруднений был принят и второй пункт соглашения: «Путем устных и печатных выступлений проводят неуклонное разоблачение буржуазно-дворянских и мнимопопутнических литературных группировок и выдвигают свои принципы классовой художественной политики»[60]. Был принят также пункт соглашения о том, чтобы избегать «взаимной полемики, не отказываясь в то же время от дискуссий и деловой товарищеской критики»[61].
В дневнике Фурманова того периода отмечается, что лефовцы предложили мапповцам продолжать и впредь организаторскую работу, а творческим воспитанием мапповской молодежи займутся лефовцы. «Мы их, Лефов, послали понахрен. Сказали: – Верно, что работой методологической до сих пор мы заняты были меньше, чем непосредственной борьбой. Но теперь, после победы, и у нас будет к тому возможность и время»[62]. Но напостовцы, постоянно занятые «организаторской работой», так и не нашли время для обсуждения творческих вопросов. Эта бесконечная «организаторская» возня будет бедствием для всего рапповского движения, и против этого также поведет решительную борьбу Фурманов. Вот почему лефовцы были приглашены для руководства творческими семинарами в литературные кружки МАПП. В. Герасимова в своих воспоминаниях «Какими словами рассказать о нас» сообщает о работе творческого семинара «Молодой гвардии», руководимого О. Бриком. Она рассказывает, как Брик учил их анализировать произведения по заранее предложенной им схеме, а затем давал задание самим творить по этой же схеме. В. Герасимова утверждает, что это было ново, неожиданно, интересно. Но, надо полагать, едва ли это было плодотворно. Что мог полезного дать молодежи Брик? Он прошел через историю нашей литературы как пустоцвет, как фигура абсолютно бесплодная.
К соглашению Лефа и МАПП было присовокуплено «негласное приложение», направленное непосредственно против А. Воронского. По этому тайному приложению договаривающиеся стороны обязались не участвовать во всех органах печати и в издательстве «Круг», которыми руководил А. Воронский.
Соглашение было опубликовано в журналах договаривающихся сторон – в «Лефе» за 1923 год № 4, в «На посту» за 1924 год в № 1(5)… Его подписали: от Лефа – Маяковский и О. Брик; от МАПП – Ю. Либединский, Родов и Л. Авербах.
Маяковский посвятил этому соглашению передовую в своем журнале: «Леф заключил соглашение с МАППом, авангардом молодой пролетарской литературы.
В чем смысл этого соглашения?
Что у нас общего?
Мы видим, что пролетарской литературе грозит опасность со стороны слишком скоро уставших, слишком быстро успокоившихся, слишком безоговорочно принявших в свои объятия кающихся заграничников, мастеров на сладкие речи и вкрадчивые слова.
Мы дадим организационный отпор тяге «назад», в прошлое, в поминки. Мы утверждаем, что литература не зеркало, отражающее историческую борьбу, а оружие этой борьбы.
Леф рад, что с его маршем совпал марш передового отряда пролетарской молодежи»[63].
Здесь, со свойственной Маяковскому четкостью, правильно определяется основная социальная задача литературы: не зеркало, а «оружие исторической борьбы».
Все остальное в заявлении главы Лефа направлено против линии Воронского, и в этом прежде всего видит Маяковский смысл соглашения и обещает дать «организованный отпор тяге «назад», в прошлое, в поминки».
Оба журнала договорившихся сторон выходили с большими перерывами, незначительными тиражами и просуществовали недолго. Перестали выходить они в одно и то же время – в 1925 году, но по разным причинам.
«На посту» слишком отстал от того массового литературного движения, которое он вначале возглавил. Леф никакого сколько-нибудь массового движения вообще не представлял и погиб из-за раздиравших его внутренних противоречий, которые он преодолеть не смог. Правда, Леф воскреснет еще раз в Новом Лефе, но уже на несколько иной основе, которая была не менее противоречива прежней.
ГЛАВА 5
Полемика напостовцев с А. Воронским занимает особое, ни с чем не сравнимое место в развитии советской литературы, в становлении марксистско-ленинского литературоведения. В обоюдоострых схватках выяснялись позиции спорящих, обнаруживались их сильные и слабые стороны.
К начавшемуся спору общественность прислушивалась. На появляющиеся статьи многие стали активно реагировать.
Партийная печать и органы вплоть до ЦК РКП(б) внимательно следили за дискуссией, а когда в ходе полемики на определенном этапе появлялась необходимость активно вмешаться в литературную жизнь, собирались при ЦК партии расширенные совещания. На этих совещаниях критиковались ошибки тех и других, делались выводы и обобщения, принимались решения, имевшие важнейшее значение для развития художественной литературы и литературной науки.
Дискуссия между напостовцами и Воронским была чрезвычайно плодотворной: она способствовала ЦК РКП(б) в резолюции от 18 июня 1925 года отвергнуть все, что не соответствовало политике партии, и выразить самый мудрый, все охватывающий и учитывающий справедливый подход к такому тонкому и сложному делу, каким является художественное творчество. Судьба же тех, кто так страстно и непримиримо боролся, «открывая» истину, оказалась печальной: Воронский был забыт на целые десятилетия, рапповцы после 1932 года упоминались только в отрицательном смысле. За последнее же десятилетие много сделано для восстановления исторической правды.
Александру Константиновичу Воронскому принадлежит видная роль организатора и теоретика советской литературы первой половины 20-х годов (1921–1926).
Родился он 19 августа 1884 года в селе Добринка Тамбовской губернии в семье священника. Учился в Тамбовской духовной семинарии, откуда был исключен за «политическую неблагонадежность». В 1904 году вступил в партию большевиков и вел активную подпольную работу во многих городах России, за что подвергался тюремному заключению и находился в ссылке. Из того факта, что он явился частником Пражской конференции, определяется его авторитетная роль в рядах партии. После революции работал в Иваново-Вознесенске и редактировал газету «Рабочий край». С 1921 года возглавлял журнал «Красная новь» и издательство «Круг», а с 1923 года – журнал «Прожектор». За принадлежность к троцкистской оппозиции в 1927 году был отстранен от редакторской деятельности, а затем исключен из партии. Позднее Воронский отошел от оппозиции, в 1930 году был восстановлен в рядах партии и привлечен к работе в Гослитиздате.
Впервые как литературный публицист Воронский выступил в 1911 году в одесской газете «Ясная заря», редактировавшейся Вацлавом Воровским, уже известным в то время критиком-большевиком. Идейно-художественные взгляды Воронского складывались под влиянием русских революционеров-демократов и Плеханова. Ему были хорошо известны и основные положения В. И. Ленина о строительстве новой культуры – период борьбы с вредными теориями Пролеткульта. Воронский был осведомлен об отношении Ленина к различным явлениям культуры и литературным течениям. Он знал, с какой любовью и гордостью всегда отзывался Ильич о великой русской литературе XIX века. Поборник реалистического искусства, Воронский глубоко понимал огромную роль литературы в общественной жизни. Понимал также специфику литературного творчества и высоко ценил художественный талант. Он умел открывать таланты, воспитывать и направлять их, относясь к ним с особой чуткостью, заботой и вниманием.
В первые годы революции Воронский сумел проявить себя и как редактор, и как организатор советской печати. Редактируемая им газета «Рабочий край» (Иваново-Вознесенск) стала одной из лучших в республике. Воронский объединил революционно настроенных писателей-реалистов края вокруг газеты и сам выступал в ней как литературный критик. Уже заглавия его статей говорят о их направленности: об Л. Андрееве и писателях его круга статья называлась «Обреченные»; об А. Ремизове – «Без дороги»; о книге М. Гершензона «Мудрость Пушкина» – «Долой разгул».
Все это, вместе взятое, да еще тот факт, что В. И. Ленин по совету Горького обратил внимание на газету «Рабочий край», послужило причиной перевода Воронского в январе 1921 года в Москву, а вскоре и назначения его редактором единственного тогда советского толстого литературно-художественного журнала «Красная новь», первый номер которого вышел в июне 1921 года. История основания этого журнала знаменательна тем, что в этом деле непосредственное участие принял В. И. Ленин.
«Первое организационное собрание редакции «Красной нови» происходило в Кремле, в квартире Владимира Ильича Ленина, – вспоминал впоследствии Воронский. – Помимо него, на этом собрании присутствовали: Надежда Константиновна Крупская, Алексей Максимович Пешков (Горький) и я. Владимир Ильич пришел на это собрание в промежуток между двумя заседаниями. Я сделал краткий доклад о необходимости издания толстого литературно-художественного и научно-публицистического журнала. Владимир Ильич согласился с моими мыслями. Здесь же было намечено, что журнал будет издаваться Главполитпросветом, что ответственным редактором буду я и что Алексей Максимович будет редактировать литературно-художественный отдел этого журнала»[64].
Это событие трудно переоценить. К изданию первого большого литературно-художественного советского журнала В. И. Ленин привлек Горького и Воронского потому, что придавал особое значение роли «Красной нови» в организации и направлении литературного дела в стране. Из ленинского наследства первых лет революции – его теоретических работ, статей, докладов, речей, указаний, пометок на полях – с исчерпывающей ясностью можно определить, какие возлагал надежды Владимир Ильич на «Красную новь», какие конкретные задачи ставил перед ее редакторами.
Прежде всего и главным образом этот журнал должен был сыграть роль объединителя всех честных талантливых писателей, принявших революцию, писателей самых различных литературных течений – от буржуазных до пролетарских. Это надо было сделать для того, чтобы влиять на них, перевоспитывать в революционном духе, тактично, терпимо разъясняя заблуждения, настойчиво и целенаправленно привлекать их к строительству новой жизни. Это надо было сделать еще и для того, чтобы вырвать массу писателей из-под буржуазного влияния, ибо в большинстве своем она была колеблющейся, неустойчивой. Она была взбудоражена революцией; проклиная прошлое, тянулась к новому, но понимала его по-разному, по-своему. В восприятии ею революции было много мелкобуржуазных иллюзий и заблуждений. С наступлением нэпа у многих интеллигентов романтические иллюзии разбивались вдребезги. Устанавливался трезвый, реалистический, обыденный ход жизни, и буржуазия, особенно сменовеховского толка, могла воспользоваться и пользовалась растерянностью мелкобуржуазной интеллигенции, пытаясь обмануть ее и привлечь на свою сторону. А этого нельзя было упустить, потому что потерять интеллигенцию означало потерпеть поражение на фронте огромной важности – на культурном, что могло поставить под удар завоевания Октябрьской революции. Вот почему с таким напряженным вниманием Ленин относился к проблеме привлечения и перевоспитания интеллигенции. Тогда не было своей, монолитной, воспитанной на идеях марксизма-ленинизма подлинно народной интеллигенции, и надо было считаться с тем, что есть. Именно поэтому с такой решительностью Ленин обрушивался на тех сугубо «революционных коммунистов», которые по уровню понимания новых задач мало чем отличались от той интеллигенции, которую они третировали и отпугивали от Советской власти, «…нельзя, не из чего, строить коммунизм иначе, как из человеческого материала, созданного капитализмом, ибо нельзя изгнать и уничтожить буржуазную интеллигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспитать ее – как перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями»[65].
Ленин не ограничивал задачи журнала «Красная новь» только привлечением старой, дореволюционной художественной интеллигенции. Он надеялся, верил, что в условиях Советской власти с развитием народного образования из низов будут подниматься новые дарования и «Красная новь», а за ней и другие органы печати будут поддерживать их и воспитывать. Перевоспитание старой интеллигенции и выращивание новой Ленин связывал с решением одной из важнейших задач – созданием советской социалистической интеллигенции.
Наконец, В. И. Ленин возлагал на «Красную новь» обязанности по разоблачению буржуазной идеологии, буржуазных тенденций и элементов в литературе, активизировавшихся в период нэпа. Он настойчиво убеждал и разъяснял: «Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества»[66]. Однако, мобилизуя рабочий класс на борьбу с буржуазией, Ленин настолько верил в его силы, что на первый план выдвигал цель перевоспитания старой интеллигенции: «…пролетариат победит, устраняя неисправимо буржуазных интеллигентов, переделывая, перевоспитывая, подчиняя себе колеблющихся, постепенно завоевывая все большую часть их на свою сторону»[67].
Все эти задачи органически связаны и должны были решаться конкретной практикой журнала. Как уже отмечалось, не случайно с согласия Ленина к руководству «Красной нови» были привлечены Горький и Воронский. Они глубоко осознавали эти задачи и стали практически реализовать их на страницах своего журнала.
К участию в журнале были приглашены опытные писатели, начавшие свой путь еще до революции: М. Пришвин, Сергеев-Ценский, В. Вересаев, К. Тренев, А. Толстой, Д. Чапыгин, В. Шишков, В. Брюсов, О. Форш, А. Неверов, Д. Малышкин, В. Маяковский, Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой, С. Есенин, С. Подъячев и многие-многие другие. Были открыты и привлечены к журналу молодые силы, пробудившиеся к творчеству в годы революции: Л. Леонов, Вс. Иванов, Н. Тихонов, А. Веселый, Л. Рейснер, С. Семенов, Э. Багрицкий, Л. Сейфуллина, К. Федин, В. Луговской, Н. Никитин, М. Зощенко, И. Сельвинский, В. Инбер…
В привлечении к участию в журнале широкого круга опытных и молодых писателей не было сектантского, узкогруппового подхода. Вокруг него объединялись писатели самых различных течений. Вместе с тем это не означало, что в «Красной нови» мог печататься всякий, кто бы ни захотел, и что редакцией принимались любые произведения без разбору. Нет, тот, кто шел в «Красную новь», делал важный шаг в жизни, он начинал именоваться советским писателем. Очень показательно в этом отношении воспоминание Н. Никитина: «Не думайте, что печатание в «Красной нови» было тогда обыкновенным, будничным явлением. Это был серьезный и, пожалуй, до известной степени политический шаг в жизни. И действительно, на «Питерском Парнасе» заговорили, что молодежь уходит к большевикам»[68].
Журнал имел свой облик, свою идейно-эстетическую программу. Борьба за реализм являлась его творческой программой. Прославление революции и укрепление и защита советского строя выражали его политическую линию.
В. И. Ленин внимательно следил за работой журнала. Какое важное значение придавал он «Красной нови», видно из того, что в первом ее номере он опубликовал свою знаменитую статью «О продовольственном налоге». В дальнейшем он помогал журналу советами и критикой его ошибок. Воронский считал своим долгом информировать Ленина о Деятельности и «литературном курсе» журнала. В письме к Ленину от 21 апреля 1922 года он сообщает: «В противовес «старикам», почти сплошь белогвардейцам и нытикам, я задался целью дать и «вывести» в свет группу молодых беллетристов – наших и близких нам. Такая молодежь есть. Кое-каких результатов я уже добился. Дал Всеволода Иванова – это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш. Есть у меня С. А. Семенов, Зуев, Либединский, Н. Никитин, Федин и др. Все это молодежь – самый старый В. Иванов, 27 лет, все они из Красной Армии, из подлинных низов с красноармейскими звездами. Твердо уверен, что через год-два эта зелень совсем окрепнет и займет места Чириковых и прочих господ, и займет с честью»[69].
Алексей Максимович Горький, уехавший в конце 1921 года за границу, продолжал оказывать журналу всяческое содействие: публиковал свои произведения, давал советы и указания через переписку с Воронским.
В 1923 году, когда началась полемика с напостовцами, «Красная новь» превратилась в самый авторитетный и популярный литературно-художественный журнал нашей страны.
В первом номере журнала «На посту» имя А. Воронского упоминается лишь однажды, да и то в ряду других имен деятелей культуры. Г. Лелевич в статье «Нам нужна партийная линия» пытается доказать, что такой линии пока в литературе нет и что повинны в этом сами коммунисты – руководители идеологического фронта: «Осинский застыл в молитвенном экстазе перед «инокиней» Ахматовой. Тяжелодумный Чужак семенит за грузной фигурой Маяковского. Чадолюбивый Воронский усиленно поливает из лейки «Красной нови» пахучие овощи пильняковского сорта. Занозистый Сосновский зычно провозглашает здравицу в честь Демьяна Бедного»[70]. Однако уже в данной развернутой саркастической метафоре заключен главный смысл борьбы напостовцев против Воронского.
Лефовцы представили дело так, будто напостовцы основной удар нанесли по ним, и посоветовали «милиционеру на посту» повернуть свою оглоблю «направо», в сторону Воронского. Но этот совет был излишним и запоздалым. Первый номер «На посту», не говоря о последующих, был направлен прежде всего против Воронского. В передовой статье журнала, имевшей характер манифеста и написанной с явной претенциозностью, два центральных положения резко направлены против позиции Воронского: 1) отношение к классическому наследству, 2) отношение к попутчикам.
Разберем их по порядку. Вот первое из них: «Мы будем бороться с теми Стародумами, которые в благоговейной Позе, без достаточной критической оценки застыли перед гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабочего класса ее гнетущей идеологической тяжести»[71].
Под Стародумами подразумевался прежде всего Воронский (и он это сразу понял), затем Луначарский и все, кто высоко ценил классическое наследство. «Старой буржуазно-дворянской литературой» тогда называлась великая реалистическая литература XIX века. Как видим, напостовцы хотят «сбросить с плеч рабочего класса гнетущую идеологическую тяжесть» классической литературы.
Но, может быть, поспешно делать подобный вывод? Может быть, в стремлении напостовцев к броской фразе утерян ее точный смысл? Проследим за дальнейшими выступлениями напостовцев по этому вопросу.
В упомянутой выше передовой статье со всей категоричностью сказано: «Прежде всего пролетарской литературе необходимо окончательно освободиться от влияния прошлого и в области идеологии, и в области формы»[72]. В статье Ил. Вардина «О политграмоте и задачах литературы» говорится: «Литература прошлых эпох была пропитана духом эксплуататорских классов. Она отражала навыки и чувства, идеи и переживания князей, дворян, богачей – словом, «верхних десяти тысяч»… Выражаясь по-пильняковски, глазами буржуа, глазами дворянина смотрела литература на все явления современной ей жизни. Иначе и не могло быть, ибо буржуазия и дворянство командовали, и командовали также неизбежно и в области искусства»[73].
В статье Ю. Либединского «Классовое и групповое» утверждалось: «…рождается новая пролетарская культура, основной фактор которой – принцип отрицания и преодоления культуры предыдущего»[74]. В его же «К вопросу о личности художника»: «По мере роста сил и организованности пролетариата все могущественнее становится крупная буржуазия и все реакционнее мелкая, которая в России, начав Некрасовым и Глебом Успенским, кончила Чеховым и Вертинским»[75]. И наконец, приведем еще одно высказывание, которое подтверждает отрицательное отношение напостовцев к классическому наследству. Оно принадлежит Ил. Вардину, одному из самых неистовых полемистов. В статье «Воронщину необходимо ликвидировать» он заявляет: «Как революция в государстве, так и революция в литературе требует сознательной, настойчивой, упорной работы… Воронский фактически стал орудием в деле укрепления позиции буржуазии»[76].
Итак, напостовцы всю классическую литературу находили идеологически вредной для пролетариата, потому что, как выражается Ил. Вардин, смотрела она «на все явления современной ей жизни» глазами буржуа, глазами дворянина. А раз это так, то «прежде всего пролетарской литературе необходимо окончательно освободиться от влияния прошлого и в области идеологии, и в области формы». Окончательно же освободиться от влияния прошлого можно только «революцией в литературе». Такова несложная логика напостовцев. Но это ведь то же самое, что предлагали пролеткультовцы и проповедовали лефовцы!
Да, действительно, три этих различных течения в идеологической области одинаково относились к классическому наследству. Каждое из них, с различными оттенками, отрицало классическое наследство. Но если пролеткультовские теории, разоблаченные Лениным и партией, потеряли авторитет, если лефовские декларации, открыто шедшие от футуризма, в силу этого не имели авторитета, то напостовская позиция отрицания классиков оказалась очень опасной, потому что напостовцы, в отличие от пролеткультовцев и лефовцев, действительно представляли массовое движение в литературе. Их реакционная позиция в отношении к классикам причудливо, уродливо, но органически сливалась с правильными революционными мыслями и настроением в эпоху острых классовых схваток, когда, после кровопролитной гражданской войны, все старое отвергалось, когда пафос ненависти к старому был так велик, что не хватало объективности разобраться разумно во всем, что осталось нам в наследство от старого. Это проявлялось особенно у молодежи, которая пылала революционными страстями и жаждала во всем и везде разрушить старый мир, во всем и везде построить новый. «Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц – их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами: «Что вы читаете? Пушкина читаете?» – «О нет, – выпалил кто-то, – он был ведь буржуй. Мы – Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, – Пушкин лучше». После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась хутемасовская (ВХУТЕМАС – Высшие государственные художественно-технические мастерские. – С. Ш.) молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за Советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя, и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского»[77]. В этих воспоминаниях Н. К. Крупской просто и ясно объяснены все сложные проблемы культуры тех лет, в которых мы сейчас разбираемся. «Ведь Пушкин был буржуй», и вся классическая русская литература называлась не иначе, как «буржуазно-дворянской», и для молодежи, «готовой умереть за Советскую власть», этого было достаточно, чтобы не читать ее, больше того – отвергать ее. Встреча с молодежью, о которой рассказывает Н. К. Крупская, состоялась в 1921 году. Но до этого В. И. Ленин выступал на III съезде комсомола, речь его была опубликована во всех газетах, именно в ней содержится гениальная мысль Ленина: «Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества. Все эти пути и дорожки подводили и подводят, и продолжают подводить к пролетарской культуре…»[78]. Но эта гениальная ленинская мысль не только для вхутемасовской молодежи (ей это можно простить), но и для «вождей» пролетарской литературы не стала жизненной, руководящей. Они ее знали, могли цитировать, но они ее не понимали. Они не понимали того, что должна быть «не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»[79]. Не понимая этого, воспринимая слова «культурная революция» как «революция в культуре», «революция в литературе», напостовцы несли в себе огромную опасность для советской литературы. Они обрывали «все пути и дорожки», которые «подводили и подводят и продолжают подводить» до сих пор к советской литературе «запасы знания», «образцы», «результаты», «традиции» великой литературы прошлого. Следовательно, напостовцы не понимали главной закономерности развития советской литературы. Они «не понимали марксистско-ленинского положения об относительной самостоятельности такой формы идеологии, как искусство, отрицали преемственность в его развитии»[80].
Конечно, нам легко теперь «поучать» напостовцев – за плечами 50 лет развития советской культуры. Некоторые наши современники так «глубоко» усвоили ленинское положение о восприятии лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры, что стали забывать о второй части этого положения, забывать о том, что восприятие традиций может осуществляться только «с точки зрения миросозерцания марксизма». Вот почему понятие «лучшие» образцы существующей на Западе культуры трактуется ими слишком широко, вплоть до модернизма. Но это к слову, хотя и горькому. Действительно, на ошибках наших «литературных предков» мы многому научились. Можно себе представить, как был бы оглоушен «напостовской оглоблей» наш современник – автор справедливых и глубоких по мысли слов, опубликованных в «Правде»:
«В художественном наследии каждого народа запечатлены его история и его душа. Вот почему для последующих поколений оно вечно живой источник духовного и эмоционального опыта. Наследие классиков тем и замечательно, что оно выражает самосознание не только своей эпохи. Движется время, а с ним вместе по той же орбите движется и классика, в которой происходит как бы постоянный процесс обновления. В литературе, как и в реальной жизни, всегда действуют два встречных потока. Шекспир и Пушкин, Гете и Толстой обогащают читателя, но и читатель в свою очередь непрерывно обогащает творения великих художников – своим новым историческим опытом. Вот почему наше знание классиков никогда не может считаться исчерпывающим…»[81].
Да, хорошо сказано, но это нас не поражает, потому что эти мысли нам давно известны, они стали нашим убеждением. Но в те далекие годы произнести их означало сделать открытие и проявить мужество. И это было сделано Воронским, деятельность которого пока не изучена.
Как только А. К. Воронский ознакомился с содержанием первого номера журнала «На посту», он сразу понял опасность «детской болезни левизны» напостовцев. Их отрицание классического наследия, пренебрежительное к нему отношение возмутило его, и из-под его пера вышло одно из самых пламенных его творений – статья-памфлет «О хлесткой фразе и классиках», появившаяся в журнале «Прожектор» вскоре после выхода журнала «На посту». Мы остановимся на этой статье подробно, потому что она мало известна. Начинает Воронский с осуждения тона статей авторов «На посту». «Впрочем, – говорит он дальше, – строгость «насчет манер» дело десятое. Гораздо важнее, что ими допущен целый ряд «серьезных промахов».
В данной статье Воронский собирается указать напостовцам пока на один, но очень серьезный промах: на их нигилистическое отношение к классическому наследству. «Как мы, коммунисты, должны его расценивать, какую роль ему отвести в текущей советской действительности, какое место указать в современной коммунистической художественной литературе?»[82]. Вот вопросы, на которые отвечает его статья. В журнале «На посту» буржуазно-помещичья литература взята под одни скобки, трактуется как нечто единое, целое. А это неверно. «Неверно, что старая русская литература отражала навыки и чувства богачей, дворян и князей. Она отражала навыки и чувства, например, разночинной интеллигенции, «умственного пролетариата», «кухаркиных детей», сыновей дьячков, городского бедного мещанства… Она была направлена против богачей и помещиков. Наши разночинцы главное внимание сосредотачивали на крестьянине, на бедноте, на общих условиях царского строя». Этот широкий взгляд на демократический, народный характер старой русской литературы, высказанный Воронским в 1923 году, станет нашим достоянием лишь через долгие годы. Еще в 30-х годах в наших школах будут изучать не Гоголя, Некрасова и Гончарова, а «продукты мелкопоместного дворянства» и «нарождающейся буржуазии»[83].
Подчеркивая познавательный характер подлинного искусства, Воронский утверждает, что это «искусство есть та же философия, та же наука, но только в форме созерцания идей в образе. Оно таким и было у наших классиков. Отсюда их гениальные художественные обобщения: Фамусов, Молчалин, Онегин, Печорин, Собакевич, Ноздрев, Манилов, Пьер Безухов, Платон Каратаев, Наташа и т. д. Все это непреложные, художественные истины, настоящие открытия, часто не уступающие в своей объективной значимости любым научным, добытым путем анализа, истинам»[84].
Плодотворной была мысль Воронского о том, что «замкнутых культур нет. И когда один класс уступает место другому и один общественный строй сменяется другим, в том или ином виде и размере от старого к новому передаются экономические и культурные приобретения. Иначе никакого прогресса, поступательного хода «вперед и выше» не было бы»[85].
С этим положением связано суждение Воронского о русской литературе, которая «в лице лучших своих представителей в лучшие времена воплотила общие психологические черты, присущие человечеству на протяжении целых эпох», которая «не мало ратовала за такие чувства и за такие навыки, которые непременными элементами войдут в психологию нового человека. Поэтому до сих пор она – не гранитный памятник, не осколок, т. е. не нечто мертвое, что, как памятник о прошлом, нужно охранять, а нечто живое и действенное, необходимое нам в борьбе и победах.
И не венками из лавров и не листвой винограда увенчаны былой современностью головы дворян Пушкина, Гоголя, Лермонтова, разночинцев Успенского и Короленко, а с терновыми венками шли они по пути скорби и мук, именуемом русской литературой»[86].
Особый интерес представляют рассуждения Воронского о реализме, который, по его мысли, лежит в основе и старого и советского искусства, хотя он в последнем приобретает новые качества: «Мы глубоко убеждены, что основной формой нового искусства, искусства наших дней, остается реализм, т. е. та форма, которой с таким неподражаемым и непревзойденным мастерством пользовались классики буржуазно-помещичьей литературы. Заметим здесь, что реализм в целом как нельзя лучше совпадает с духом диалектического материализма Маркса – Энгельса… К чему же, спрашивается, все эти разговоры о том, чтобы «окончательно» освободиться от формы прошлого? Сгоряча все это… Новые достижения, переработка, усовершенствование старой манеры, старых форм, конечно, необходимы. Думается, что современное искусство идет к своеобразному сочетанию реализма с романтикой, к неореализму, но такому, в котором реализм остается все-таки господствующим началом»[87].
Позже рапповцы будут ратовать за «диалектико-материалистический метод в литературе», а еще позже, через 24 года после выступления Воронского, Фадеев выдвинет теорию двух начал – реалистического и романтического, будто бы составляющих сущность социалистического реализма. У Воронского же задолго до Фадеева обо все этом сказано в одной фразе, и так тонко и проницательно, что лучше не выразить.
В последнем разделе Воронский обширно цитирует статью Розы Люксембург «Короленко», где дается высокая оценка русской классической литературы, которая «сотрясала с отчаянной силой общественные политические оковы, натирала себе раны о них и честно оплачивала цену битв кровью своего сердца».
«Читателю не трудно убедиться, – делает вывод Воронский, – что язык, метод, подход Красной Розы далеки от рассуждений, от языка, от метода товарищей из журнала «На посту»… В настоящее время Госиздат пять шестых своей издательской работы в области литературно-художественной отдает к переизданию классиков в уверенности, что они первые и лучшие наши попутчики, которым нужно подражать, любовно изучать и которых всячески, в первую очередь следует пропагандировать, дабы между старым и новым искусством установился прочный эстетический мостик, разрушить который намереваются, по крайней мере в декларациях, бравые товарищи из «На посту». Поистине не ведают, что творят «храбрые гимназисты» с перочинным ножом»[88].
С такой страстью Воронский отстаивал классическое наследие. Он понимал, что русская литература XIX века развивалась в обществе, разделенном на антагонистические классы, и что «классовая психология, конечно, преобладала в ней»[89]. Он также видел, что «наши просветители-народники неизменно окрашивали свои произведения мелкобуржуазными настроениями, ставшими для нашего времени архаическими…»[90]. Но он каждый раз подчеркивал, что все «это не может затемнить в конечном итоге объективной ценности их художественной и публицистической работы и для нашего времени»[91]. Поэтому упреки напостовцев в том духе, что будто Воронский отбрасывает, не признает классового характера литературы, не имеют под собой никаких оснований.
Перейдем ко второму вопросу, по которому разгорелась полемическая битва между напостовцами и Воронским, – отношение к мелкобуржуазным писателям, так называемым попутчикам Советской власти.
В редакционной статье первого номера «На посту» выдвинут следующий тезис против Воронского: «Мы будем бороться с теми маниловыми, которые из гнилых ниток словесного творчества попутчиков, искажающих нашу революцию и клевещущих на нее, стараются построить эстетический мостик между прошлым и настоящим»[92].
Как видим, здесь совершенно определенно выражено отношение к попутчикам и дана оценка их творчеству. Несколько витиевато, но, в общем, ясно сформулировано и обвинение, предъявленное маниловым: эти маниловы пытаются из старой, буржуазной литературы создавать новую, советскую литературу. В своих статьях и рецензиях авторы журнала «На посту» будут стремиться конкретно реализовать это общее, декларативное положение. В статье Б. Волина «Клеветники», упоминавшейся нами в связи с О. Бриком, речь идет и о повести «Рвотный форт» Н. Никитина, опубликованной в «Красной нови». Это произведение заслуживало принципиальной и резкой критики. В нем много пошлых, натуралистических, «кровавых» сцен, не было четкой идейной позиции прежде всего из-за непонимания психологии коммунистов. Но нет, оно не было клеветническим, общий дух его выражался в ненависти к старому миру, к его живучести в характерах людей и в их отношениях. Рождалась симпатия к новому. Этого не почувствовал редактор «На посту». В резком, оскорбительном тоне он писал: «Кому что дано: Ник. Никитину тоже дано на революцию смотреть по-пильняковски с точки зрения половых органов»[93].
В статье не было анализа и доказательств ошибок писателей, вся она состояла из грубого окрика и оскорблений, а в заключение в ней категорически заявлялось: «Больше мы им этого не позволим»[94].
В рецензии Берсенева «Лунная сырость» так же бездоказательно и категорически отказывалось А. Н. Толстому, после мучительных колебаний окончательно порвавшему с белоэмиграцией и навсегда вернувшемуся в 1923 году на родину, в праве стать подлинно советским писателем: «Для нас ясно, что всякие Толстые, как бы они не меняли свои вехи, останутся бывшими писателями: новая жизнь чужда их пониманию, а копаться в гнилом отребье прошлого для нас бесполезно. Приходится сожалеть, что подобная литература (с позволения будь сказано) издается Госиздатом»[95].
В осенней книжке «На посту» (№ 2–3 за 1923 г.), в статье «Под обстрелом» Семен Родов из всех видов оружия «обстреливает» Воронского в связи с выступлением в «Прожекторе». Главное в статье Родова – вопрос о попутчиках. «Теперь для всех ясно, что опыт не удался, попутническая литература, за исключением отдельных произведений, себя не оправдала и обнаружила свое враждебное целям революции реакционное нутро… Воронский предполагал использовать попутчиков, заставить их служить пролетариату, но в конечном счете они использовали его, получив через его посредство новые силы для борьбы с революцией; он их организовал, но очутился у них же в плену»[96].
И опять делался решительный вывод: «Нужно немедленно пересмотреть всех попутчиков и выбрать только тех, кто нам действительно может быть полезен. «Лучше меньше, но лучше»[97].
Не забудем при этом, что, «за исключением отдельных произведений», вся попутническая литература, по Родову, «обнаружила свое враждебное целям революции реакционное нутро».
Автор критического обзора литературного отдела «Красной нови» А. Зонин под броским названием «Надо перепахать» «реализует» требование Родова «немедленно пересмотреть всех попутчиков». Он перечисляет поэтов, печатающихся в «Красной нови», называет имена В. Маяковского, В. Инбер, Н. Тихонова, С. Есенина, М. Герасимова, П. Антокольского, С. Обрадовича, В. Брюсова и, не утруждая себя анализом их произведений, делает вывод: «В целом стихи о революции, по поводу революции – просто стишки, но ничего похожего на поэзию революции нет»[98].
Затем с такой же легкостью дается перечень прозаиков «Красной нови» и их произведений, опубликованных в 1923 году (вслед за «Волками» Пильняка – «Мои университеты» М. Горького, «Вокзалы» А. Малышкина; «Евразия» Н. Огнева, «Кащеева цепь» М. Пришвина, «Перемены» М. Шагинян, «Аэлита» А. Толстого, «Голубые пески» Вс. Иванова), а после этого делается безапелляционный вывод: «В целом в прозе «Красной нови» тот же идеологический провал, что и в стихах. Писатели «Красной нови» – это писатели и поэты прошлого, враждебные (больше пассивно, но нередко и действенно) психологии пролетариата. Это обстоятельство настоятельно диктует: перепахать литературный отдел «Красной нови»[99].
И наконец, приведем еще одно высказывание, принадлежащее «теоретику» напостовцев Ил. Вардину, в котором, как и по вопросу о классическом наследии, со всей обнаженностью раскрывается причина отношения всех рапповцев к попутчикам: «Тот, кто не может смотреть «глазами коммуниста» (слова «глазами коммуниста» взяты из статьи Воронского, о которой у нас пойдет речь. – С. Ш.), тот не в состоянии художественно отразить объективную правду. Наши попутчики не смотрят глазами коммуниста, ибо этих глаз у них нет, – стало быть объективная правда эпохи для них закрыта»[100].