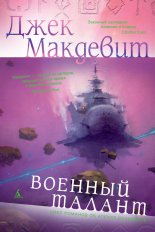Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов Шешуков Степан

Таковы основные положения этого исторического документа нашей партии.
В решении не упоминаются имена литературных деятелей, названия литературных объединений и групп. Но современникам было абсолютно ясно, что в резолюции подведен итог той острой литературной борьбы, которая разгорелась в начале 20-х годов и достигла кульминации к их середине. Позиции напостовцев и Воронского получили в ней всестороннюю и принципиальную оценку.
Многое из того, за что так страстно боролся Воронский, нашло отражение в резолюции. Воронский ратовал за объединение прогрессивных советских писателей – пролетарских и непролетарских – во главе с коммунистами для совместной дружеской творческой работы. Напостовцы отвергали это. В резолюции сказано: «Партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы изживать в процессе все более тесного товарищеского сотрудничества с культурными силами коммунизма».
Воронский боролся за классическое наследство и высоко ценил современных талантливых писателей. Напостовцы относились к наследству пренебрежительно и третировали современных художников слова, ни в грош не ставя ни талант, ни мастерство. В резолюции сказано: партия «должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследству, а равно и к специалистам художественного слова».
Воронский выступал против пролеткультовской узости напостовцев, ограничивающих пролетарскую литературу изображением жизни и борьбы только одного класса – пролетариата. В резолюции говорится: «Партия должна бороться против попыток чисто оранжерейной «пролетарской» литературы; широкий охват явлений во всей их сложности;…быть литературой не цеха, а борющегося великого класса, ведущего за собой миллионы крестьян».
Воронский выступал против зазнайства, комчванства напостовцев. В резолюции категорически записано: «…партия должна предупреждать всеми средствами проявление комчванства среди них (пролетарских писателей. – С. Ш.) как самого губительного явления».
И наконец, Воронский решительно осуждал характер, тон, манеру напостовской критики. Резолюция как бы продолжает осуждение Воронским напостовской критики: «Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды… должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство».
Но резолюция была направлена не только против напостовцев. В ней нашли осуждение ошибки Воронского, не признававшего пролетарской литературы и не уделявшего внимания воспитанию творческой молодежи из народа, идущей в литературу.
В резолюции говорится, что партия все будет делать для того, чтобы пролетарские писатели «заработали себе историческое право на гегемонию», чтобы они стали «идейными руководителями советской литературы». Резолюция отмечает, что «новая литература – пролетарская и крестьянская в первую очередь» наряду со сложившимися мастерами, представляющими эту литературу, имеет «небывало широкие по своему охвату формы (рабкоры, селькоры, стенгазеты и проч.)». Именно из этого массового движения вырастут художники. Их надо организовать и воспитывать.
Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» была одобрена всеми литературными течениями и группами. Абсолютным большинством советских писателей она была встречена восторженно.
А. М. Горький 13 июля 1925 года сказал о ней словами, в которых выражено искреннее признание и глубокое понимание ее роли в развитии советской литературы: «Резолюция эта несомненно будет иметь огромнейшее воспитательное значение для литераторов и сильно толкнет вперед русское художественное творчество»[172].
Леонид Леонов выступил с оценкой резолюции от имени молодого поколения советских писателей: «Тучи весьма мрачного свойства, грозившие весьма чреватыми последствиями молодой нашей литературе, рассеяны, будем надеяться, навсегда. Политика наскока и полуадминистративного нажима в литературе, а порою и просто подсиживание, осуждена партией так же, как и бесшабашная кружковая распря, истощавшая попусту наши общие силы. Наши силы – от революции, равно как и опыт наш от революции. Расходовать их на склоку и сопротивление «наскокам» – преступление против тех, кто в поте сурового труда с терпеливым вниманием ждет писательского слова.
Мы, молодые, литературно родились после семнадцатого года. Мы тоже несли бремя гражданской обороны, но мы не присваиваем себе монополии бряцать боевыми шпорами и не чванимся выполненным долгом. Быть может, наша любовь к мужику и рабочему и различна, но ведь нос Петра не обязан походить на нос Ивана, хотя оба они в равной степени носы.
Нет сомнения, что резолюцию ЦК о художественной литературе встретит с чувством большого облегчения каждый честный разумный работник нашей печати»[173].
Напостовцы вместе со всеми приветствовали постановление ЦК партии. Но как же по-своему тенденциозно они его восприняли! Тот самый Леопольд Авербах, который в 1926 году возглавит ВАПП и станет ответственным редактором журнала «На литературном посту», тот самый Леопольд Авербах, который больше других будет клясться в верности резолюции ЦК, – он самый сейчас предпринял все для того, чтобы подлинный смысл этой резолюции истолковать в интересах старого напостовства, как полную победу всех его принципов. 11 июля 1925 года, через десять дней после опубликования постановления ЦК, Авербах выступил с докладом «За пролетарскую литературу (о политике РКП(б) в области художественной литературы)» на общем собрании партийной фракции правления Всесоюзной ассоциации и МАПП. Этот доклад он опубликовал брошюрой «За пролетарскую литературу», вышедшей в 1926 году. На чрезвычайную конференцию пролетписателей, состоявшуюся 26–27 февраля 1926 года и осудившую линию старого напостовства, Авербах пришел с мыслями и убеждениями, выраженными в данной его брошюре.
В начале брошюры Авербах говорит о том, что пока в решении партии не все идеи напостовцев получили отражение. «Если группа партийцев работает в той области, в которой партия в целом только начинает ориентироваться, в которую руководство партии только начинает проникать, то партийцы, разбирая и имея суждения по всем специфическим вопросам этой области, не могут толкать всю партию на принятие того, что им подчас может казаться даже точно установленным. Они должны рассматривать себя как своеобразную разведку партии в этой области, как патруль, высланный вперед с целью получения информации.
Именно так рассматривали свою работу в области литературы напостовцы».
Как видим, из его слов выходит, что вся партия и руководство ее еще не доросли до напостовцев в понимании вопросов литературы: они «только начинают ориентироваться», «только начинают проникать», в то время как напостовцы, этот передовой патруль партии, «имеют суждения по всем специфическим вопросам этой области».
Содержание всей брошюры посвящено защите линии напостовцев, будто бы полностью выражающей линию партии. Однако многие положения Авербаха абсолютно противоречат положениям резолюции. Вот что он говорит о попутчиках: «Кого у нас только не выдают и не выдавали за попутчика, кто из писателей не состоит в этой роли?.. Вся беда в литературной практике кое-каких наших журналов и заключалась в том, что они никакой классовой дифференциации в среде писателей не проводили, что за попутчиков выдавались буржуазные писатели… Сегодняшние условия вынуждают нас к особенно осторожному обращению с такой терминологией, как попутчик, беря ее в единственно правильном понимании Троцкого».
Л. Авербах тут же приводит слова Троцкого: «Попутчики не революционеры, а юродствующие в революции…Они не пойдут с нами до конца»[174]. Чтобы подтвердить, что линия напостовцев и линия партии совпадают по вопросу о попутчиках, он ссылается на журнал «На посту» и на тезисы к докладу Вардина от 10 мая 1924 года, в составлении которых Авербах принимал участие и абсолютную ошибочность которых он будет вынужден признать в ноябре 1926 года. Затем он делает вывод: «Мы считаем, что никакого противоречия с той политикой, какую партия здесь проводит, и напостовской постановкой вопроса не найти».
Многократно Л. Авербах произносит: «Кружковщина – величайшая опасность, могущая поистине загубить наших писателей»[175]. «Сознание ответственности и важности задач, лежащих на пролетарской литературе, ни в коем случае не должно граничить с комчванством. Этот вопрос имеет гигантское значение… Необходимо помнить заветы Владимира Ильича о величайшей вредности «зазнаваться»…». И несмотря на то что резолюция ЦК, осуждая комчванство, имела в виду напостовцев и только напостовцев, Авербах как ни в чем не бывало тут же говорит: «На опасность комчванства указала еще резолюция 1-й Всесоюзной конференции пролетписателей. Эта же опасность подчеркнута и в резолюции ЦК партии». В действительности, как раз резолюция 1-й Всесоюзной конференции, навязанная «левыми» напостовцами, была пронизана комчванством, и чуть позже, опять-таки под влиянием обстоятельств, сам Авербах будет вынужден поставить вопрос об изменении этой резолюции.
С «величайшим» пафосом осуждая комчванство, Авербах проявляет это комчванство на протяжении всего своего доклада. С какой надменностью он поучает Л. Леонова, осудившего напостовцев и приветствовавшего решение ЦК: «Л. Леонов приемлет революцию, но именно потому, – если он хочет, чтобы и революция его приняла, – не должен он воскрешать худшие заявления серапионов об их отношении ко «всяким идеологиям». Если Леонов хочет быть подлинным писателем Советской страны, он не должен под прикрытием разной любви к крестьянину и рабочему нападать на напостовцев, он должен выбрать между большевистской и замятинской любовью».
С такой бестактностью (ему это свойство было присуще всегда) Авербах оскорбил самое сокровенное чувство советского писателя и гражданина («Если он хочет, чтобы и революция его приняла»). Ведь нам известно, что Леонов в 1920 году добровольно вступил в Красную Армию, все лето и осень участвовал в боях под Каховкой и Перекопом. Политорганы армии ему поручают вплоть до 1922 года, когда он демобилизовался, редактировать газеты «Красный боец» и «Красный воин». Леонов своим творчеством начала 20-х годов, особенно романом «Барсуки», стал уже широко известным и признанным советским писателем, защищающим революцию. Выше мы уже говорили, М. В. Фрунзе, действительно имевший право говорить от имени революции, в присутствии Авербаха на комиссии ЦК оценил Леонова как «очень крупного растущего писателя». М. Горький после выхода «Барсуков» писал: «В Леонове предчувствуется большой русский писатель, очень большой»[176]. Д. Фурманов назвал Леонова в 1925 году «отличным, большим в будущем писателем»[177]. А вот Леопольд Авербах за одну-единственную фразу, употребленную Леоновым с глубоким смыслом, – «быть может, наша любовь к мужику и рабочему и различна, но ведь нос Петра не обязан походить на нос Ивана, хотя оба они в равной степени носы», – за одну эту фразу отрешил Л. Леонова от революции, обвиняя его в «воскрешении худших заявлений сера-пионов», и пригрозил, что он не должен нападать на напостовцев, иначе не быть ему советским писателем, «должен выбирать между большевистской и замятинской любовью». При этом само собой очевидно, что любовь к напостовцам – это и есть «большевистская любовь». Это ли не проявление самого худшего вида комчванства! Между прочим, Авербах не процитировал из выступления Леонова одного места, не в бровь, а в глаз бьющего по комчванству таких напостовцев, как он: «Мы тоже несли бремя гражданской обороны, но мы не присваиваем себе монополии бряцать боевыми шпорами и не чванимся выполненным долгом».
Отступая от истины, Л. Авербах утверждает, что «категорически за резолюцию ЦК высказались: Ю. Либединский, г. Лелевич и Л. Авербах», то есть только напостовцы (как видим, имя Фурманова отсутствует). Все остальные – «против» или ни «за», ни «против». Исходя из этого, Авербах делает следующий вывод: «На отношении писателей к резолюции ЦК мы в значительной мере прощупали успехи и неуспехи, результаты и промахи работы партии с писателями и над писателями. Результаты «прощупывания» хороши тем, что они вносят ясность в положение, сбрасывают розовые очки, которые надевают многие из наших товарищей, лишний раз свидетельствуют о происходящей на фронте литературы классовой борьбе и правильности напостовской политики»[178] (подчеркнуто автором. – С. Ш.).
По утверждению Авербаха, все, буквально все в резолюции ЦК, вплоть до ее названия, подтверждает «правильность напостовской политики». Вот что говорит относительно названия Авербах: «Мы с удовлетворением констатируем, что сама резолюция ЦК носит заглавие «О политике партии в области художественной литературы». Мы позволяем себе отметить этот факт как большое достижение, ибо основным лозунгом напостовцев с первого номера журнала «На посту» являлось требование единой партийной линии».
В резолюции говорится о классовой борьбе в советском обществе и в литературе 20-х годов, но на первый план выдвигается «мирноорганизаторская работа». Авербах, наоборот, отстаивает усиление классовой борьбы в литературе.
В резолюции указывается, что антиреволюционные элементы в литературе «теперь крайне незначительны». Авербах, наоборот, утверждает, что это не «элементы», а целый вражеский лагерь и что многие буржуазные писатели, такие, как В. Вересаев, И. Новиков, М. Шагинян, М. Булгаков, С. Сергеев-Ценский, А. Соболь, А. Толстой и другие, по ошибке, из-за потери бдительности, зачисляются в попутчики.
В резолюции говорится о тактичном и бережном отношении к попутчикам. Авербах расправляется с ними своей напостовской дубинкой и выражает политическое недоверие всему Всероссийскому союзу писателей, объединявшему 360 литераторов («Союз писателей – неподходящая среда для литературного молодняка Советской страны»[179]).
В резолюции со всей определенностью сказано, «что руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом». Авербах, называя напостовцев передовыми патрулями партии, лучше ее разбирающимися в литературной политике, все дело ведет к тому, чтобы доказать, что они, напостовцы, – единственные определители и проводники классовой пролетарской линии в литературе.
Весь пафос резолюции направлен на объединение всех честных советских писателей в творческий товарищеский союз под руководством культурных сил коммунизма, на перевоспитание писателей в духе коммунистической идеологии, против сектантства, кружковщины, комчванства напостовцев. Авербах ничего этого не понял или, скорее, сделал вид, что не понял. Ссылаясь на обострение классовой борьбы, он ведет линию на расслоение, разъединение писательской среды по враждебным социальным группам, им самим установленным. На словах он признает Федерацию писателей, на деле гт» дйт ее в положение полной, диктаторской зависимости от РАПП. На словах он против комчванства и заушательства. На деле он снимает обвинения в комчванстве и заушательстве с напостовцев. «Крики о том, что напостовцы – заушатели, – говорит он, – что напостовцы хотели задавить всех попутчиков, что задачей напостовцев являлся захват всей печати, всех издательств, – все это было ходячим обвинением против напостовцев. Вся эта солома надуманных фраз, по существу, не имеет под собой никакого серьезного обоснования»[180].
На словах Авербах вместе с Лелевичем «категорически за резолюцию». На деле вся его брошюра «За пролетарскую литературу» – искажение положений резолюции. С таким «идейным» багажом Леопольд Авербах пришел к руководству пролетарским литературным движением.
Как здесь еще раз не вспомнить Дмитрия Фурманова, который решительно боролся со всеми этими махинациями Л. Авербаха и, уже будучи больным, опасался его прихода к руководству ВАПП. Вот что рассказывает А. Исбах о последних схватках Фурманова с Авербахом и его друзьями, приводя выдержки из дневника писателя: «В эти дни дневники Фурманова напоминают дневники его военных лет. «Перед боем»… «Атака»… «Наступление»… «Мы хотим конца этим мерзостям и подлостям, потому и пошли на все: бросили на несколько недель свои литературные работы, чтобы в дальнейшем сберечь целые годы, махнули рукой на свои болезни, все и у всех лечение – к черту, вверх тормашками, заседаем глубокими ночами, у всех трещат – гудят, разламываются головы – и на это идем!.. Пусть все это, пусть, – мы ведь боремся с самым пакостным и вредным, мы его с корнем вырываем из своей среды… Надо доводить до конца… Я в бой иду спокойно и уверенно… Надо раздавить врага, враз раздавить, иначе оживет… Кончаю. Иду. Что-то стану писать сегодня ночью, когда разбитый, измученный и с болью в голове, в сердце – ворочусь домой? Что стану писать?..»
Фурманов боролся против попыток противопоставить особую напостовскую линию – линии партии. А именно так ставили в 1925 году вопрос многие руководители ВАПП и редакция журнала «На посту». Они травили Фурманова за то, что он прислушивался к указаниям руководителей ЦК, за то, что он не соглашался признать какую-то надпартийную напостовскую линию руководства литературой, за то, что, вопреки Авербаху, он отказался действовать методом напостовской дубинки в отношении многих прекрасных советских писателей, так называемых попутчиков. И именно влияние Фурманова в широких кругах писателей не нравилось Авербаху. «Ты не настоящий напостовец», – упрекали авербаховцы Фурманова, так же как впоследствии упрекали Серафимовича и его друзей.
Фурманов, органически связанный со всем пролетарским движением, отдавший ему всю свою жизнь, тяжел» переживал нападки руководителей ВАПП… Нервная система была уже расшатана годами гражданской войны… А «администраторы» от литературы не берегли его…»[181].
Рано ушел Дмитрий Андреевич Фурманов из жизни и литературы. Много им было задумано и осталось незавершенным. Нет сомнения, что советская литература обогатилась бы и прославилась новыми и еще более совершенными творениями Фурманова. Но и то, что оставил он нам, по-прежнему с неослабевающей силой служит благородному делу коммунистического строительства.
РАЗДЕЛ II
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20-х ГОДОВ
ГЛАВА 1
В декабре 1926 года Александру Фадееву исполнилось двадцать пять лет. В этом возрасте он становится знаменитым писателем. Его «Разгром», за исключением последней главы «Девятнадцать», был частями уже опубликован, а полностью вышел в ленинградском издательстве «Прибой» в марте 1927 года. Такого успеха, который выпал на долю «Разгрома», не имело ни одно произведение советской литературы 20-х годов. Партийная и вся центральная пресса, журналы всех направлений, критики и рецензенты из каждой литературной группы и любого объединения сразу же и очень высоко оценили роман А. Фадеева.
Единственная до нелепости оригинальная статья с броским названием «Разгром А. Фадеева» (слово «разгром» стояло без кавычек), принадлежавшая лефовцу О. Брику, прозвучала не в унисон общему хору одобрительных голосов. Но автор и этой единственной статьи выступил не столько против данного произведения, сколько против художественной литературы вообще. Нужно поставить перед литературой задачу, писал О. Брик, «давать не людей, а дело… Формула Горького «Человек – это звучит гордо» для нас совершенно не годна, потому что человек – это может звучать подло, гадко, в зависимости от того, какое дело он делает»[182]. Вот как, оказывается, еще можно извратить Горького! Но никто на эту статью серьезно не смотрел при оценке «Разгрома».
Сам факт всеобщего одобрения подлинно революционного, новаторского произведения, каким явился «Разгром», говорит о многом, и прежде всего об идейном росте и сближении всех литературных течений в стране к 1928 году, о зарождении общего критерия, общей эстетической точки зрения в среде советских критиков на художественные явления. «Острая классовая борьба на литературном фронте», раздуваемая рапповцами, вдруг нашла примирение в оценке остроклассового «Разгрома», и самые ярые противники заговорили одним, общим языком. Представители различных течений пролетарской литературы, обвинявшие друг друга во многих уклонах, вплоть до измены и предательства интересов пролетариата, также сошлись на «Разгроме». Г. Лелевич один из первых в статье «Александр Фадеев» («Молодая гвардия», 1926, № 4) дает высокий отзыв не только на опубликованные главы романа, но и на все творчество писателя. Л. Авербах, А. Зонин, В. Ермилов, М. Серебрянский, Ю. Либединский, Ж. Эльсберг – сотрудники «На литературном посту» поднимали «Разгром» как знамя победы пролетарского литературного движения и напостовской линии, их творческой платформы. Один из руководителей «Кузницы» – Георгий Якубовский уже самим названием статьи «Чем волнует «Разгром» выразил свое отношение к произведению. Георгий Горбачев – будущий основатель Литфронта, направленного против рапповцев, бьет налитпостовцев фадеевским «Разгромом» за то, что они будто бы потеряли классовое чутье к попутчикам: «Разгром» – одно из значительнейших произведений пролетарской литературы за последние годы и одна из наиболее ценных книг художественной прозы 26—27-х годов… Здесь-то и сказалась разница между подходом к материалу пролетарского писателя и попутчика»[183].
Критики и руководители «Перевала» во главе с А. Воронским также высоко оценили произведение пролетарского писателя. Это те самые перевальцы, с которыми рапповцы, в том числе и Фадеев, вели и будут вести отчаянную борьбу вплоть до 1932 года; это те перевальцы, которые «не признавали» пролетарской литературы, были «буржуазными перерожденцами», «ликвидаторами», «капитулянтами», «оппортунистами». И вот перевальцы Д. Горбов, А. Лежнев, В. Правдухин в своих статьях дали, может быть, лучший анализ романа, а их руководитель А. Воронский (уже после того, как был снят с занимаемых постов) во втором томе «Литературных портретов» в статье «А. Фадеев» заявил: «Этот роман написан молодым, одаренным пролетарским писателем и совсем не по обычному трафарету, по какому сочиняются и пишутся многими пролетарскими писателями десятки и сотни повестей и романов. И чем решительнее пролетарская литература пойдет по этому новому для нее пути, тем скорее она завоюет себе «гегемонию» органическими, а не механическими средствами»[184].
Известно, что глава лефовцев В. Маяковский уважал Фадеева и, когда в 1929 году решил вступить в РАПП, прежде всего хотел посоветоваться с автором «Разгрома», высоко им оцененного. К. Зелинский, руководитель Центра конструктивистов, и в те годы и впоследствии был и остался одним из видных исследователей творчества Фадеева.
А. М. Горький начиная с 1927 года в письмах к друзьям и соратникам спрашивает, читали ли они «Разгром» Фадеева, и настаивает, чтобы обязательно прочитали. В письме А. Н. Тихонову от 1 августа 1927 года он советует: «Мне кажется, что следовало бы возможно больше привлекать молодежи; например, Фадеев, автор «Разгрома», человек несомненно талантливый»[185]. (А. Н. Тихонов являлся тогда ответственным секретарем издательства «Круг».)
Так всеми был признан автор «Разгрома».
А в это время Саша Фадеев, как называли писателя товарищи, женившись и переехав в Москву, жил вдали от московских шумных улиц, на тихом 5-м Лучевом просеке в Сокольниках. В те годы Сокольники были глухим Подмосковьем, ездить туда было далеко и неудобно, как и жить в жалком одноэтажном домике, в котором Фадеев занимал одну комнату.
Зато работать никто не мешал. Один из тех, кто помог А. Фадееву войти в литературу, а затем и стал другом писателя на долгие годы, Ю. Либединский вспоминал: «Получив эту комнату, Саша тут же вызвал с Дальнего Востока свою мать, Антонину Владимировну, потом сестру Татьяну Александровну с маленькой дочкой. Саша и до того много рассказывал о своей семье и особенно о матери. Он нежно любил ее, гордился ею. И правда, Антонина Владимировна Фадеева была человек замечательный, она принадлежала к той революционной части демократической интеллигенции, которая, выйдя из народа, сохраняла с ним постоянную связь. В дореволюционном обществе ей приходилось отстаивать свою независимость и достоинство от произвола и самодурства царского начальства на селе, сталкиваться с кулаками и их подголосками.
Так выработался этот характер – гордый, стойкий и честный. При этом по отношению к людям, которых Антонина Владимировна признавала своими, она была добра, ласкова – атмосфера дружественности, гостеприимства и хлебосольства господствовала в этой семье. Все это Антонина Владимировна передала своим детям – у них была своя фамильная гордость, не раз в разговорах Саши с братьями я слышал, как они полушутливо говорили: «Это – по-фадеевски».
Так как Саша поселился в Сокольниках, то и я в лето 1926 года снял дачу там же…
То первое лето, когда мы поселились в Сокольниках, было для Саши временем особенно напряженной работы. Иногда он писал у нас на даче, которую мы снимали неподалеку. Мне с тех пор запомнилась его манера работать, буквально по целым суткам не вставая от письменного стола. Бывало, что утром, проснувшись, я обнаруживал его за письменным столом, видел его склоненную шею, его затылок, в очертаниях которого всегда было что-то очень молодое, упрямо-мальчишеское. Горела настольная лампа, видно было, что в эту ночь он так и не ложился. В любое время дня он отсыпался и снова садился за письменный стол. Работал он над каждой фразой, над каждым абзацем, оттачивая их до предельной выразительности, до полногласного звучания.
В эту работу он вкладывал все свои силы. Просидев за столом восемь – десять часов, перекусив и поспав, он снова садился за работу, и опять на много часов. Так продолжалось две-три недели. К концу такой работы он доходил почти что до изнурения, до общей слабости.
– Державы в теле не хватает, – говорил он жалобно.
В процессе этой работы он настолько овладевал текстом, что целые страницы мог читать наизусть»[186].
Это были редкие в жизни Фадеева месяцы, когда он еще не вошел с головой в организационные дела и отдавался творчеству. В ту пору в нем боролись два замысла: задуманный роман «Провинция», тему которого он привез с Северного Кавказа, и центральная его тема, тема партизанского движения на Дальнем Востоке, частью реализованная в первых трех произведениях – «Разлив», «Против течения» и «Разгром» и продолжавшая его волновать всю жизнь. Еще в Ростове-на-Дону он начал повесть «Смерть Ченьювая», позднее она получила название «Последний из тазов». В конце 1926 года еще трудно было сказать, какая тема возьмет верх. В феврале 1927 года, казалось, решение принято. В журнале «На литературном посту» в рубрике «Писатели о себе» Фадеев сообщает: «Пишу роман «Провинция». Трудно сказать, как он оформится. Задачей себе ставлю изображение новой провинции и ее жизни, выросшей из старых уездных нравов, благодаря проснувшейся активности всех слоев населения. Постараюсь обрисовать также рост и вызревание большевистских кадров в послереволюционное время»[187]. Но уже в № 12 журнала «Октябрь» за 1927 год было объявлено, что в 1928 году в этом журнале будет печататься «Последний из удэге» А. Фадеева и «Тихий дон» М. Шолохова. Новый роман Фадеева пошел в «Октябре» с начала 1929 года (к этому времени первая книга была написана, что подтверждается сообщением издательства «Московский рабочий» о выпуске в 1929 году романа «Последний из удэге»).
Так победила заветная тема Фадеева. «Провинция» же отошла на второй план, а потом и совсем была забыта.
С 1927 по 1941 год – 14 лет – писатель работал над своим любимым произведением, выпустил четыре книги, объединенные затем в два тома, но так и не сумел закончить его. Помешала война. Она же дала ему новую тему, на которую он, как коммунист-патриот, не мог не откликнуться. После окончания второй редакции «Молодой гвардии» его увлекла современная тема о рабочем классе. Но о «Последнем из удэге» А. Фадеев никогда не забывал и надеялся его закончить.
Делясь творческими планами с другом своей юности А. Ф. Колесниковой, в письме к ней от 28 апреля 1950 года он сообщал: «… возьмите хотя бы «Последний из удэге», незаконченный роман, который я из всех своих произведений больше всего люблю»[188].
Но только ли война повинна в том, что эпопея А. Фадеева, всеми высоко ценимая и в те годы, многими ставившаяся выше «Разгрома», не была закончена? Четырнадцать лет в творчестве писателя с таким редким трудолюбием, о котором рассказывают Ю. Либединский и П. Максимов, – срок вполне достаточный для завершения любого грандиозного замысла. М. Шолохов и А. Толстой за это же время закончили свои эпопеи и создали другие замечательные произведения.
Как мы уже говорили, Фадеев обладал не только талантом художника. Он был также прирожденным организатором и общественным деятелем. Связав с юношеских лет свою судьбу с Коммунистической партией, беззаветно отдавшись служению ее идеалам и ее великому делу, он не мог оставаться просто литератором, не мог ограничить свою жизнь писательским столом, хотя и осознавал огромную общественную роль самой художественной литературы.
На одном из диспутов на тему «С кем и за что мы будем драться в 1929 году?» Фадеев в своем выступлении сказал: «Я получил такую записку: «Почему Вы, тов. Фадеев, занимаетесь не только художественной литературой, но и политической борьбой и всякими такими выступлениями?» А потому, что мы, напостовцы, представляем такой литературный отряд, который хочет быть в современных условиях пролетарскими революционерами»[189]. Для Фадеева это заявление не было красивой фразой. Он, как коммунист, действительно не мог иначе представить свою роль в литературе. Этим он походил на Фурманова. Но, как и Фурманов, Фадеев постоянно рвался к творчеству, ненавидел организационную суету, пытался преодолеть противоречие между желанием творить и долгом заниматься «политической борьбой и всякими такими выступлениями», однако преодолеть этого противоречия ему так и не удалось. В одном из писем к Р. С. Землячке (декабрь 1929 г.) он жалуется: «В дом отдыха загнала меня неврастения в очень острой форме. Объясняется она все возраставшим и все более мучившим меня противоречием между желанием, органической потребностью писать, сознанием, что в этом состоит мой долг, и той литературно-общественной нагрузкой, которая не дает возможности писать и от которой никак нельзя избавиться. Постоянные скачки – только втянешься в творческую работу, надо бежать на одно из многочисленных заседаний, или выступать, или просматривать корректуру журналов или чужие рукописи, заваливающие меня, – избавишься от этого всего и с мучительным трудом восстанавливаешь творческое равновесие, но опять нужно в ЦК, в редакцию, в издательство и т. п. – такие скачки вконец издергали меня психически… Горький перед отъездом предупреждал меня самым серьезным образом, что если я не разгружусь и буду дальше жить так, то дело может кончиться просто гибелью дарования, ибо писатель должен работать систематически – нет писателей по одному нутру, без труда и технического совершенствования в своем деле»[190].
Так остро ставился вопрос уже в конце 1929 года, когда была наконец отработана и сдана в типографию первая книга «Последнего из удэге». Но в этом же письме он говорит, что на душе у него «все-таки неспокойно», потому что его «ищут в РАПП, ищет Халатов, ищут его редакции». «Беспокоит меня также то, что в создавшихся условиях, когда положение на литфронте довольно острое, сил наших еще мало… Может быть, нельзя совсем бросать это?»[191]. И он, конечно, не бросит, снова «впряжется в литдела» и «вновь узаконит этот поистине рабский темп своей творческой работы, который на фоне гигантского строительства, развертывающегося по всей стране, недопустимо жалок»[192]. Вот этот жалкий, рабский темп творческой работы и является главной причиной того, что «Последний из удэге» оказался незавершенным в 30-е годы.
Фадеев не мог бросить литературный фронт: при всех ошибках и заблуждениях он осуществлял большое, плодотворное партийное и государственное дело.
Вскоре по приезде в Москву на ноябрьском пленуме ВАПП в 1926 году А. Фадеев избирается в бюро и секретариат правления. В январе 1927 года избирается в совет и исполнительное бюро совета Федерации писателей. В этом же месяце входит в состав редколлегии журнала «Октябрь». В конце 1927 года стал членом Международного бюро революционной литературы. В мае 1928 года входит в состав редколлегии журнала «На литературном посту». Кажется, не было ни одного бюро, правления, секретариата, совета в пролетарской литературной организации и редколлегии ее журналов, куда бы Фадеев не входил.
Как и Фурманова, напостовцы не сразу приняли Фадеева в свой узкий круг, состоявший из членов редколлегии «На литературном посту». Туда Фадеев вошел лишь через два года, после избрания в ответственные органы литературной организации.
ГЛАВА 2
Особая роль и место А. Фадеева в рапповском движении определялись его художественным творчеством и чувством партийной ответственности за судьбы советской литературы.
Сравнительно быстрое вхождение Фадеева в литературу объясняется бесспорной талантливостью и революционной направленностью уже первых его произведений. Об этом свидетельствует Ю. Либединский: «Лето 1923 года было дождливо до крайности… Я работал тогда в редакции журнала «Молодая гвардия», два раза в неделю ездил на поезде в Москву и каждый раз привозил кипу рукописей, чтобы читать их дома. В такой вот дождливый день взялся я за чтение одной из них. Это была рукопись в буквальном смысле слова – не напечатанная на машинке, а написанная от руки очень аккуратно и старательно, разборчиво и грамотно. Называлась она «Разлив». Фамилия автора мне ничего не сказала… Читая, я все поглядывал за окно, облекающее дождливыми каплями, видел там кунцевскую довольно чахлую природу. А рукопись рисовала природу необыкновенную – с высоченными кедрами, горами-сопками, долинами-падями и буйной рекой, сокрушительный разлив которой описывался в этой маленькой повести. И люди, о которых рассказывал автор, были под стать природе – сильные и смелые, страстные и правдивые: главный герой – охотник Неретин, из рода землепроходцев, Первооткрывателей этого края, и девушка, возлюбленная его. С опасностью для жизни она отправляется на лодке, чтобы предупредить о надвигающемся бедствии. Конечно, и тогда я заметил некоторые недостатки композиции, стилистические погрешности, но все это покрывалось общим ощущением свежести и силы юного и своеобразного таланта… Кроме меня рукопись прочла Лидия Николаевна Сейфуллина, после чего повесть была принята к печати»[193].
Тот же Юрий Либединский в статье «Художник-большевик», опубликованной в летнем номере журнала «Октябрь» за 1924 год, дал восторженный отзыв о повести: «Если бы в природе существовал только «Разлив» Фадеева, мы бы исключительно на основании его утверждали начинающийся расцвет пролетарской литературы»[194].
Для наших современников, имеющих возможность обозреть всю историю советской литературы, отзыв Либединского звучит как преувеличение. Но на фоне литературной продукции тех лет, когда из лучших произведений о гражданской войне появился только «Чапаев» Д. Фурманова, первая повесть Фадеева должна была обратить на себя внимание своим большевистским пафосом. «Разлив» навсегда определил интерес его автора к самым важным событиям и проблемам жизни.
Действие повести происходит в период установления Советской власти на Дальнем Востоке. Главный герой – большевик Иван Неретин. Он организовал деревенскую бедноту, возглавил борьбу против кулачества и торговцев, созванное им собрание бедноты и трудовых слоев населения провозгласило Советскую власть в деревне.
Образ Неретина, пусть еще несовершенный, стоит в самом начале прекрасной галереи образов фадеевских большевиков, прославивших его имя как художника социалистического реализма.
Но в повести начинающего писателя немало и художественных просчетов. Сам автор впоследствии назвал ее «несерьезным и неряшливым произведением», а опыт работы над ним – отрицательным опытом: «Как не надо писать книги»[195].
В повести отсутствует главная, организующая идея, что привело к композиционной рыхлости – нагромождению малосвязанных между собой событий (борьба Неретина с классовыми врагами, повествование о жизни семьи лесника Жмыхова, описание путешествия Харитона и Антона по тайге, любовная история Кани и Дегтярева). Характеры действующих лиц схематичны, в поступках и портретах героев часто подчеркивается биологическое начало. Даже Неретин не представляет в этом смысле исключения: «У Неретина были цепкие зубы, лохматая голова и неослабная воля к действию. «Будет по-нашему», – сказал он себе и, потерпев неудачу, стал носить под рубахой вороненый наган Тульского завода»[196].
Стиль повести оказался в зависимости от распространенной в ту пору орнаментальной прозы, манеры писать цветистым слогом. Писатель признается, что он считал для себя в известной мере обязательным писать «рубленой прозой» и выдумывать что-нибудь такое «сверхъестественное». «В первой повести и получилось много ложных образов, фальшивых, таких, о которых мне стыдно сейчас вспоминать»[197]. Конечно же для зрелого Фадеева невыносимо тяжело было перечитывать страницы «Разлива», где «без сна и без слез мечется на сеновале Неретин, одинокий сизоперый голубь», где «названивая подковами о камень никому не понятную песню, побежал с горы Неретин – многоликий и живучий, синеглазый и красноперый ирис на Улахинских болотах»[198]. Однако повесть «Разлив» была встречена положительно критиками 20-х годов разных направлений. В этом нет ничего удивительного. Одни, как Ю. Либединский, обнаружив в ней большевистский пафос, подчеркивали ее идейную направленность, мало обращая внимания на художественные просчеты молодого автора. Другие – представители формалистического направления – увидели в стилевой манере повести, в романтических описаниях весеннего разлива подтверждение своим взглядам на революцию как необузданную стихию.
Но сам Фадеев отнесся к своему произведению весьма самокритично – через полгода был создан рассказ «Против течения», написанный в иной творческой манере. На долю этого произведения не выпало похвал после выхода в свет, критика обратилась к нему позже, когда нельзя было не задуматься над историей ошеломившего всех «Разгрома». Нет, не похвалы, а упреки выслушал писатель при обсуждении его рассказа в октябре 1924 года. Его осуждали за подражание классикам, упрекали в старомодности стиля. Александр Фадеев не только не отверг выдвинутых против него «обвинений», но подтвердил, что учится у классиков, что действительно в языке он «старовер» и в этом не видит ничего плохого.
«Против течения», как и «Разлив», посвящается событиям гражданской войны на Дальнем Востоке. Оба произведения прославляют революцию, ее вдохновителей и организаторов – большевиков. Но как это по-разному, непохоже решено!
«Против течения» – органически завершенная вещь: буквально все – каждый эпизод, характер – служит выяснению, развитию и обогащению большой мысли, которая звучит уже в заглавии, – мысли о всепобеждающей, разумной классовой воле, «выплавленной в жарких вагранках».
В изображении событий нет ничего надуманного, неестественного – все совершается в обыденных, суровых и трудных обстоятельствах. Семенчуковский полк, созданный из партизанских отрядов и влившийся в Народно-революционную армию под новым названием 22—го Амгуньского стрелкового, «привык к безвластию и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины». В один из критических моментов боя полк во главе со своим командиром Семенчуком самовольно снялся с позиций и решил завладеть пароходом, чтобы переправиться на левый берег Амура в свои родные места. Против партизанской анархии выступили большевики, и разумная классовая воля одержала победу: взбунтовавшийся полк был разоружен.
Герои рассказа комиссары Челноков, Селезнев и Соболь – это не «кожаные куртки» с каменными сердцами и железными челюстями, как изображали большевиков авторы многих произведений той поры, но люди, понимающие всю сложность событий, способные на самые героические и решительные действия и вместе с тем допускающие ошибки, имеющие слабости. Если Неретин из «Разлива» только действовал и за внешним действием лишь изредка угадывается его внутренняя жизнь, то теперь все герои «Против течения» – от семенчуковцев до комиссара Северного фронта Соболя – встают перед нами как живые, с раскрытыми, чистыми, добрыми или запутавшимися и даже злыми душами и сердцами. Особенно сложной оказалась судьба комиссара Челнокова, полного внутренних терзаний и мук по причине того, что он не сумел удержать семенчуковский полк на фронте и тем не исполнил долг коммуниста. «Комиссар Северного фронта не смотрел на своего подчиненного, но в его словах слышался такой же тихий, как его голос, укор. И Челноков почувствовал, что он краснеет от непреодолимого жгучего стыда, охватившего его от головы до пят. Он почувствовал, как вслед за лицом и шеей загорелась его спина, как нервный тоскливый зуд пронизал насквозь его тело. Он стоял перед комиссаром фронта, мрачно опустив голову, как преступник, хотя вся его вина состояла в том, что, измученный беспрерывными боями, походами, голодовками, он не нашел в себе силы исполнить то, что поручил ему его класс»[199].
Рассказ «Против течения» не лишен недостатков, что обнаруживается при решении морально-психологических конфликтов. В первом варианте рассказ заканчивался эпизодом разоружения семенчуковцев, и мысль о влиянии большевистских идей на массы не получила полного развития и завершения: не был дан перелом в настроении бойцов, так же как оказался незавершенным и характер комиссара Челнокова. Это понял и сам автор. Вот почему в 1934 году был опубликован второй вариант рассказа под названием «Рождение Амгуньского полка», где словом «рождение» подчеркнут дополнительный и важный смысл. В волнующем эпизоде, написанном заново и завершающем рассказ, комиссар Челноков, вернувшись в полк, пламенным словом заставляет семенчуковцев признать допущенную ими ошибку, и вот снова 22-й Амгуньский полк превращается в боевую единицу Народно-революционной армии.
При всех недостатках рассказ «Против течения» стоит значительно выше «Разлива» как по композиционной стройности, идейной ясности и целеустремленности, так и по языку, отличающемуся реалистической конкретностью. Уже видны следы плодотворной учебы у Льва Толстого – это сказалось на конструкции фразы и на приемах психологического анализа.
Рассказ «Против течения» явился подступом к роману «Разгром» – одному из шедевров советской литературы.
Первая повесть «Разлив» (1923 г.) и роман «Разгром» (1926 г.) – это ученичество и зрелость. В «Разливе» Фадеев – еще начинающий писатель, у которого нет опыта, нет умения изобразить жизнь во всей ее сложности и развитии. В «Разгроме» Фадеев выступил как мастер, овладевший художественной формой познания жизни.
Как же объяснить этот необычайно быстрый творческий рост писателя?
Как уже говорилось, весной 1924 года, не окончив Горной академии, Фадеев направляется на партийную работу. Некоторое время работает секретарем райкома партии в городе Краснодаре, а затем – в отделе печати Северокавказского крайкома партии. Его деятельность проходила под руководством старой большевички Р. С. Землячки, ставшей его наставником, первым читателем и критиком создававшихся глав «Разгрома». В Ростове-на-Дону Фадеев жил и работал до лета 1926 года. Редактировал краевую газету «Советский юг», руководил рабселькоровским движением края, часто бывал на хуторах и станицах, у шахтеров и нефтяников. Периодически выступал в печати со статьями на самые различные темы хозяйственной и культурной жизни под своим партизанским именем Ал. Булыга. «Самое важное в деревенской работе», «К предстоящим совещаниям секретарей сельячеек», «Нужно изучать торговую практику мест», «Политико-воспитательная работа среди рабселькоров», «Предварительные итоги перевыборов в сельсоветы», «Наши задачи, успехи и недостатки» – вот неполный перечень его печатных выступлений. Ряд статей, опубликованных в газете «Советский юг», посвящен вопросам печати и литературы. В качестве ответственного партийного руководителя краевой печати Фадеев разъяснял и доводил до широких масс ленинские идеи о развитии пролетарской культуры, решение XIII съезда партии «О печати» и резолюцию ЦК партии от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы». В своих докладах и статьях Фадеев отстаивал великие традиции культуры прошлого, ратовал за учебу у классиков, боролся за новаторскую литературу, поднимающую большие вопросы жизни, совершенную по своей художественной форме. Особое внимание обращал он на умение владеть словом. В речи, произнесенной 6 мая 1926 года, Фадеев говорил: «Работник печати должен уметь культурно обращаться со словом, быть политически по-ленински грамотным и держать тесную связь с широкими массами рабочих и крестьян. Писать надо просто, но сочно и живо, писать языком, понятным трудящимся массам»[200].
В эти годы Фадеев задумывался над путями развития советской литературы, особенно остро волновала его и своя собственная судьба как писателя. Созданное им его не удовлетворяло – и мало, и незначительно, и не так, как бы ему хотелось. Постоянно занятый партийной, общественной, редакторской работой, он настойчиво и упорно ищет свою дорогу, которая привела бы его в большую литературу. «В этот период я много работал. Начал писать свой теперешний роман «Последний из удэге», писал отдельные главы из «Разгрома», начал писать повесть, которая не увидела света. Все, что я писал тогда, меня не удовлетворяло. В результате раздумий и работы меня увлекла тема романа «Разгром», который я начал писать в 1925 году уже систематически»[201]. Над чем же он работал и думал?
В статье «О социалистическом реализме» он определяет несколько условий, необходимых для формирования истинного художника. Эти условия имели прямое отношение к развитию самого Фадеева. К ним он относит в первую очередь передовое, революционное мировоззрение, «которое необходимо для всякого художника», если он хочет быть «выразителем идей, чаяний, интересов, чувств, страстей нового общества». Но одного передового мировоззрения недостаточно для того, чтобы стать настоящим писателем революционной эпохи. Фадеев называет еще четыре условия: «обладание художественным дарованием или талантом»; «накопление писательского опыта, умения, мастерства»; «большой, упорный, тщательный труд»; «всестороннее знание, в особенности знание фактов, знание того, о чем пишешь».
Все пять условий, выдвинутых Фадеевым, неразрывно связаны между собой и равно необходимы. Не менее бесспорно и то, что развитие таланта Фадеева зависело от остальных условий, и прежде всего от накопления писательского опыта, умения, мастерства. Известно, как он упорно работал над «Разгромом», много раз переделывая одну и ту же главу. Материал, который лег в основу романа, был автору досконально известен. Но вот умения, мастерства недоставало. И Фадеев присматривался к работе своих современников, товарищей по перу. Перечитывал все, что ими издавалось, прислушивался к их суждениям о литературном труде и, воспринимая ценное, видел, что много в их работе его уже не удовлетворяет, не отвечает каким-то глубоким внутренним потребностям его таланта. Очень нужным для него являлся великий опыт Горького, который был близок Фадееву по духу, по идейно-эстетическим позициям. Писатель указывал на ту огромную роль, которую сыграл М. Горький по отношению к нему и вообще «к старшим кадрам нашей литературы»[202]. Не меньшее значение для формирования писательского мастерства Фадеева имело освоение художественного наследия Льва Толстого. «Толстой всегда пленял меня живостью и правдивостью своих художественных образов, большой конкретностью, чувственной осязаемостью изображаемого и очень большой простотой»[203], – признавался Фадеев в беседе с молодыми писателями в середине 30-х годов. В этом признании Фадеева много глубокого смысла.
Правдивость, простота и конкретная чувственная осязаемость художественных образов – вот те великие толстовские качества, которыми в меру своего таланта по-своему овладевал Фадеев.
Толстовское проникновение в духовный мир героев, раскрытие диалектики души и человеческих отношений – все это глубоко интересовало молодого писателя. Влияние Льва Толстого – решающий фактор в созревании Фадеева как художника, в становлении его писательского стиля, его художественной манеры.
ГЛАВА 3
А. Фадеев приехал из Ростова в Москву с законченным романом «Разгром», явившимся классическим и этапным произведением советской литературы. По нему стали равняться многие художники, стремясь по-своему достигнуть его идейно-художественного уровня. «Разгромом» Фадеев поставил много важных проблем перед всей советской литературой, особенно перед пролетарским литературным движением. Именно в связи с этим произведением возникнут плодотворные споры о творческом методе, о принципе психологизма, о «живом человеке», «о срывании масок с действительности», об учебе у классиков. Низкий уровень литературоведческой науки не позволит спорящим сторонам избежать крайностей, вульгаризации, элементарных наивных ошибок, а иногда и серьезных заблуждений. Но в конце концов эти споры окажутся действительно плодотворными. Без острой и длительной полемики 20-х годов невозможны были бы теоретические достижения 30-х, с такой научной обоснованностью прозвучавшие на Первом съезде советских писателей.
Приход Фадеева как писателя в РАПП многое определил и в ее художественной платформе. Как Фурманов на первом этапе явился бесспорным авторитетом в области художественного творчества среди активных деятелей РАПП, так Фадеев – на втором.
Борьба за передовое реалистическое искусство, отстаивание подлинной правды в нем, отказ от схематического, шаблонного, мнимогероического изображения действительности с приходом Фадеева будет постоянной линией РАПП. Откажутся напостовцы и от пренебрежительного отношения к классическому наследству. Не без рапповских причуд, но отныне каждый писатель-рапповец – А. Фадеев, Ю. Либединский, М. Чумандрин, А. Караваева, В. Киршон, А. Афиногенов, В. Вишневский, А. Безыменский, Ф. Панферов – будет выдвигать своего любимого писателя-классика на роль учителя всей пролетарской литературы.
Как руководитель пролетарского литературного движения, А. Фадеев также чем-то напоминает Фурманова. Молодой писатель-коммунист пришел бороться за пролетарскую литературу. С резолюцией ЦК «О политике партии в области художественной литературы» он сразу же и полностью согласился и многое для себя вынес. В письме к Р. С. Землячке от 13 июля 1925 года из Пятигорска, где Фадеев вместе с ростовскими писателями в это время находился в творческом отпуске, он признается: «Вообще я убедился в последнее время, насколько все мы, пролетписатели, преувеличиваем свои силы, многие из нас не умеют и не хотят учиться (это как раз то, что в резолюции ЦК названо, весьма справедливо, «комчванством»). На самом деле мы не вышли еще из ученического возраста и ничего еще не умеем. И чем скорее все осознают это, тем лучше будет для пролетарской литературы. Я пришел теперь к этому и решил работать над собой по мере сил и времени. Может, и выйдет что-нибудь путное»[204].
Лозунг «Учеба, творчество, самокритика», который напостовцы выдвинут в 1926 году, непосредственно связан с этим убеждением Фадеева.
Первые месяцы работы Фадеева на посту оргсекретаря ВАПП (с конца 1926 г.) отмечены сравнительно «тихим» его поведением. Ни речей, ни тем более докладов он не произносил. До изнурения работал над романом. Приноравливался к условиям новой деятельности, приглядывался к людям, к верхушке ВАПП. (К этому времени он хорошо знал только двоих – Ю. Либединского и В. Киршона.) Однако с обстановкой в пролетарском литературном движении и в руководстве ВАПП он уже был знаком до приезда в Москву, да и ноябрьский пленум открыл ему глаза на многое. В начале декабря 1926 года он так оценил эту обстановку: «В нашем литературном движении характерным является, во-первых, то, что во всех концах Союза, а особенно в крупных пролетарских центрах, растет прекрасный литературный молодняк (к сожалению, малокультурный, но, к счастью, сознающий свою малокультурность и стремящийся преодолеть ее) – это весьма положительный факт, который говорит о том, что надо работать на этом поприще, а во-вторых, характерно то, что в верхушке пролетарского литературного движения, за исключением нескольких хороших партийных фигур… находятся весьма и весьма неприятные лица, частью даже совсем разложенные, мало понимающие и партию, и то, что творится в нашей стране. В этом, с позволения сказать, «активе» развиты самые низкие формы сплетни, подсиживания, чванства и прочих «хороших» вещей»[205]. С возмущением он рассказывает о том, как некоторые из этого «актива» «на только что прошедшем пленуме ВАПП свой основной удар сосредоточили на двух рабочих парнях, Полосихине и Горбатове, выдвинутых в прошлом году из рабочих литкружков Москвы и Донбасса»[206]. Как руководитель литературного движения, он ставит перед собой задачи, намечает план действий, чтобы избавить организацию от нездоровых явлений: «Мой план теперь примерно таков: в первую очередь ориентироваться на крупные рабочие центры, дать им возможность расти быстрее (до сих пор совершенно одинаковое внимание уделялось, например, «Забою» (Донбасс) и какой-нибудь Самарской ассоциации); во-вторых, прощупать на местах и в первую очередь в Москве наиболее талантливых и крепких ребят из рабочих литкружков и лично связаться с ними, помочь им расти, выдвигать наиболее созревших в журналы, и, в-третьих, осуществить, наконец, тесное сотрудничество с близкими нам попутчиками (Сейфуллина, Леонов, Вс. Иванов и др.), в первую очередь с крестьянскими писателями, – тогда никакие склоки (и никакая мелочная борьба вообще) нам не будут страшны. Что касается некоторых наших уже выросших сравнительно пролетписателей, их придется как-то примирять и «согласовывать», хотя очень и очень несимпатичные люди есть среди них… Конечно, такие авторитетные писатели, как Серафимович, всегда поддержат здоровую тенденцию»[207].
Эта озабоченность делами пролетарского литературного движения сближает Фадеева как руководителя с Фурмановым. Однако той высокой принципиальности, которой обладал автор «Чапаева», не было у автора «Разгрома», и поэтому многим начинаниям не суждено было осуществиться.
Фадееву посчастливилось встречаться с Фурмановым, хотя близко, к сожалению, они не были знакомы. «Фурманов, которого я знал, был замечательной фигурой, живой человек, разносторонний»[208]. Если бы Фадееву пришлось работать вместе с Фурмановым, то он бы, несомненно, воспринял от комиссара Чапаевской дивизии высокие, бескомпромиссные благородные качества, но, к великому сожалению, ему суждено было работать под руководством Авербаха.
В письме к Н. Островскому Фадеев сравнивает «Как закалялась сталь» с произведениями Фурманова: «Роман понравился мне многими сторонами: прежде всего глубоко понятой и прочувствованной партийностью, которую я только у Фурманова (из писателей) видел так просто, искренне и правдиво выраженной»[209].
Глубокая симпатия к Фурманову, идейное родство их творчества, «так просто, искренне и правдиво» выраженное в партийности, – это свидетельствует о том, что А. Фадеев был продолжателем творческих традиций Д. Фурманова.
Но Фурманов глубже осмысливал задачи литературного развития в нашей стране, чем Фадеев на новом этапе.
Фурманов еще до резолюции ЦК ВКП(б) от 1925 года решительно выступил против серьезных пороков в организации пролетарской литературы, прежде всего против групповой узости, замкнутости движения, против отрыва пролетарской литературной организации от других отрядов передовой советской литературы. Фадеев же даже после постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года в своих, в целом очень плодотворных, статьях «Старое и новое» (в этот цикл вошло несколько статей с разными названиями) будет еще отстаивать порочный лозунг РАПП «Союзник или враг», будто бы правильно выдвинутый, но неверно реализуемый рапповцами. Фурманов глубоко понимал, что кадры советской литературы формируются и будут формироваться не только из низов, из среды рабочих и крестьян, через рабселькоровское движение и литературные кружки путем их образования и воспитания, но также из среды интеллигенции, так называемых попутчиков, путем их перевоспитания. Он не противопоставлял эти закономерные процессы, а содействовал тому, чтобы они, сливаясь, взаимно обогащали друг друга под идейным руководством коммунистических сил. Фадеев разрывал эти два процесса. Еще в 1921 году он выразил свое заветное убеждение, что «новая поэзия и литература будут созданы самим пролетариатом»[210]. Это свое убеждение он пронесет через всю историю РАПП и поймет свое заблуждение лишь в 1932 году, когда в связи с постановлением ЦК ВКП(б), подвергая критике ошибки РАПП, скажет: «…недооценка действительных процессов среди попутчиков являлась следствием общего недоучета процессов, происходящих вне РАПП, существующего у многих неосознанного представления, что только писатели РАПП (да и то не все) являются, в сущности, подлинными создателями революционной и социалистической литературы. Это и свидетельствует о левацком вульгаризаторстве, об опасности своеобразного «пролеткультизма», перед которым вплотную стояла РАПП»[211].
В 1956 году, составляя свой сборник «За тридцать лет», А. Фадеев сделал комментарий к речи, произнесенной им на Всесоюзной конференции театров рабочей молодежи в 1929 году, – «За ТРАМ и против «трамчванства»: «В понимании вопроса о развитии этих театров, как и в области литературы, здесь нашли свое отражение некоторые непреодоленные влияния «пролеткульта», а именно, – представление, что только пролетарские организации, изолированные от общего развития советской культуры, найдут искомый художественный метод и явятся создателями нового искусства… Автор этого выступления, правильно поняв плодотворность учения у такого театра, как Московский Художественный театр, однако, совершенно не понимал тогда, что так называемый «старый» профессиональный театр (Художественный и другие) и их крупнейшие деятели (Станиславский и другие) тоже способны развиваться и развиваются в новом советском духе»[212] (разрядка наша. – С. Ш.). Здесь же автор указывает, что все это «было понято и снято только после постановления ЦК ВКП(б) о ликвидации РАПП в апреле 1932 года»[213].
Эти влияния Пролеткульта приводили Фадеева, а вместе с ним и других руководителей РАПП к серьезным заблуждениям в их деятельности.
Пролеткультовские влияния помешали Фадееву понять максимализм Авербаха, вызывавший со стороны Фурманова решительное сопротивление и непримиримую борьбу. Рассмотрев «в верхушке пролетарского литературного движения» много «весьма и весьма неприятных лиц», Фадеев не отнес к их числу Авербаха. Вплоть до 1932 года, до 1—го пленума оргкомитета Союза писателей СССР, Фадеев, не соглашаясь по отдельным вопросам, в главном всегда будет поддерживать Авербаха. После апрельского постановления ЦК ВКП(б) от 1932 года на заседании фракции бюро правления РАПП А. Фадеев заявит: «Товарищи знают, что примерно с 1926–1927 гг. сложилось напостовское ядро, которое с того времени вместе выступает и привыкло работать вместе… У каждого есть ошибки, но известно, что на протяжении этого периода, среди этого ядра, за которым шло подавляющее большинство писателей и работников РАПП, умел наиболее четко выражать мысли и находить новое Л. Авербах. Ясно, что в Авербахе концентрируется то передовое, что мы в РАПП открыли»[214].
Все это необходимо иметь в виду при рассмотрении деятельности А. Фадеева как одного из авторитетных руководителей рапповского движения.
ГЛАВА 4
Первым важным шагом нового руководства пролетарской литературой явился пересмотр идеологической и художественной платформы «Октября», действовавшей до конца 1926 года. С 27 по 29 ноября этого года состоялся расширенный пленум ВАПП, где были заслушаны доклады Авербаха, Либединского и Зонина, имевшие важное значение, так как в них намечались пути развития пролетарской литературы на основе решения партии.
Л. Авербах сделал доклад «О современной литературе и очередных задачах ВАПП». Затем этот доклад был переработан им в статью, изданную в 1927 году брошюрой под заглавием «Наши литературные разногласия».
Как и в брошюре «За пролетарскую литературу», Л. Авербах пытается доказать, что в решении ЦК партии нашла выражение и одобрение линия напостовства. Но теперь он указывает на ошибки старого напостовства и решительно осуждает Лелевича, Родова, Вардина, Горбачева, Безыменского, которые не хотят видеть и признать эти ошибки. Со всей категоричностью он отмечает разногласия между старым и новым напостовством. Группа Лелевича, говорит Авербах, восприняла резолюцию ЦК как осуждение и поражение напостовства. Будучи несогласна с такой оценкой, эта группа стала в оппозицию к резолюции. Мы, мол, продолжает Авербах, увидели в постановлении ЦК победу напостовства и поражение воронщины. Будто бы весь пафос резолюции – в отстаивании пролетарской литературы, а это главное, за что боролось напостовство. Но в резолюции, рассуждает он, отмечены ошибки старого руководства, чего не хочет признать группа «левых»; «левые» во главе с Лелевичем по-прежнему выступают против каких бы то ни было контактов с попутчиками; мы за союз с революционными попутчиками; группа Лелевича по-прежнему отстаивает организационную замкнутость, она стоит за литературную организацию наподобие партийной; мы утверждаем, что литературная организация должна строиться по принципу профсоюзов с напостовским ядром.
Л. Авербах, назвав группу Лелевича «левой оппозицией» в пролетарском литературном движении, заявляет: «Партия говорила, что у нашей партийной оппозиции основная ошибка идет по линии переоценки кулака. У нашей литературной оппозиции прямая и непосредственная переоценка сил буржуазных писателей»[215].
К сожалению, это заявление не станет подлинным убеждением Л. Авербаха. На новом этапе литературного развития у него самого будет «прямая и непосредственная переоценка сил буржуазных писателей». Если в начале 20-х годов это еще можно было понять, то в конце 20-х это ничем нельзя объяснить, кроме как глубоким заблуждением.
Ю. Либединский выступил с докладом «О художественной платформе ВАПП». В информации, опубликованной в «Известиях» от 30 ноября 1926 года, сообщается: «По докладу т. Либединского пленум принял резолюцию, в которой говорится, что в старой платформе имеются пролеткультовские и комчванские уклоны. Необходимо открыть дискуссию по вопросам художественной платформы на основе заветов Маркса и Плеханова, на основе диалектического материализма».
Мы отмечали, рассматривая платформу «Октября», все эти «пролеткультовские и комчванские уклоны». Действительно, новое напостовство после дискуссии избавит свою платформу от некоторых очевидных «уклонов». Однако уже здесь следует отметить, что эта платформа будет вырабатываться на «плехановской ортодоксии» со всеми сильными и слабыми ее сторонами. О ленинском учении рапповцы заговорят лишь под конец своего существования.
Особый интерес для нас представляет доклад А. Зонина о пересмотре резолюции 1-й Всесоюзной конференции пролетписателей «Идеологический фронт и литература» (1925 г.), принятой по докладу Вардина. Ноябрьский пленум ВАПП пересмотрел идеологическую платформу «Октября» в свете резолюции ЦК.
В информации о пленуме, опубликованной 1 декабря 1926 года в «Правде», излагаются основные моменты доклада А. Зонина и резолюции, принятой по этому докладу. Зонин заявил, что «напостовство имеет два этапа своего развития. В первом этапе, благодаря полемике с Троцким и Воронским, а также вследствие примеси пролеткультовско-богдановских элементов, был допущен ряд ошибок и перегибов; второй этап идет под знаком постановления ЦК ВКП(б) о политике партии в области художественной литературы». Исправить ошибки, допущенные раньше, и определить дальнейшее свое поведение в соответствии с приобретенным опытом – вот в чем заключается задача ВАПП в настоящее время.
Дальше в «Правде» излагаются основные моменты резолюции:
1. В новой платформе ВАПП на первый план должно быть выдвинуто указание ЦК, что руководство борьбой на идеологическом фронте принадлежит рабочему классу в целом; ВАПП же должна прежде всего быть организацией творческой».
2. Резолюция 1-й конференции не учла изменения форм классовой борьбы в нашей стране, выдвигающих на первый план мирноорганизаторскую работу и руководство пролетариата промежуточными социальными группами. Неверна также и установка первой резолюции по отношению к попутчикам. В пункте 10-м резолюции указывается, что преобладающим типом попутчика является писатель, который в литературе искажает революцию, и что в основе своей попутническая художественная литература направлена против пролетарской революции. Это положение противоречит общим процессам, наблюдающимся в нашей литературе 192.3 года и особенно в последние два года».
3. «Необходимо также уделить по возможности больше внимания национальной литературе по вопросу об организации пролетарских писателей национальных республик, с учетом всех особенностей их развития».
4. «В резолюции по докладу т. Вардина ничего не сказано также по вопросу о специфическом характере крестьянской литературы. Резолюция ЦК рекомендовала переводить растущие кадры крестьянских писателей на рельсы пролетарской идеологии».
5. «Пленум отмечает также, что в резолюции по докладу тов. Вардина не было резкого отмежевания пролетарской литературы от цеховой богдановско-пролеткультовской, что и позволило в дальнейшем вапповским уклонистам солидаризироваться с Пролеткультом».
6. «В резолюции по докладу т. Вардина не поставлен также вопрос об опасности комчванства среди пролетарских писателей и необходимости борьбы с ними, в то время как резолюция ЦК считает лозунгом пролетарской литературы борьбу против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства – с другой.
Все указанные моменты заставили пленум поставить вопрос о необходимости переработки идеологической платформы ВАПП, положив в основу ее резолюцию ЦК».
Ноябрьский пленум ВАПП оказался на высоте понимания задач партии. В его резолюции совершенно правильно осмыслены важнейшие вопросы развития литературы. Так как рапповцы в дальнейшем будут постоянно нарушать ими же принятую резолюцию, мы хотим обратить внимание на те ее положения, которые подвергнутся крайним искажениям. Во-первых, пленум в соответствии с резолюцией ЦК учитывает изменения форм классовой борьбы в нашей стране, выдвигающих на первый план мирноорганизаторскую работу; во-вторых, пленум осуждает прежнее отрицательное отношение напостовцев к писателям-попутчикам и мотивирует это тем, что основная масса писателей к 1926 году уже перешла на позиции Советской власти; в-третьих, пленум поставил с должной силой вопрос об опасности комчванства и необходимости борьбы с ним среди пролетарских писателей.
ГЛАВА 5
Решение ноябрьского пленума ВАПП от 1926 года о необходимости «открыть дискуссию по вопросам художественной платформы на основе заветов Маркса и Плеханова, на основе диалектического материализма» стало претворяться в жизнь. Начало дискуссии было положено на 6-й губернской конференции МАПП в мае 1927 года. С основным докладом «Творческие пути пролетарской литературы» выступил Л. Авербах. Содокладчиками явились Ю. Либединский, А. Безыменский, А. Зонин и А. Фадеев.
В своем докладе Авербах сказал, что в работе Московской ассоциации и во всей работе ВАПП произошел перелом в сторону постановки на первое место вопросов творчества пролетарских писателей.
Это в известной степени соответствовало действительности. Доклад и все выступления по докладу были посвящены творческим вопросам. Интересно отметить, что собственно дискуссии на этой конференции не было. Все выступавшие оказались единодушными в отстаивании тех творческих принципов, которые сформулировал Авербах в своем докладе. Правда, то, что было выдвинуто Авербахом, не явилось неожиданным. Еще в феврале 1926 года на чрезвычайной конференции ВАПП Ю. Либединский в докладе «Реалистический показ личности как очередная задача пролетарской литературы» поставил ряд очень важных творческих вопросов, но сформулировал их нечетко, да и не эти вопросы явились содержанием работы конференции. Более определенно они прозвучали на ноябрьском пленуме ВАПП в докладе того же Ю. Либединского о художественной платформе. Сейчас, на 6-й конференции МАПП, эти творческие вопросы выдвигались в качестве основы будущей художественной платформы, они призваны были определить творческие пути пролетарской литературы.
Реализм признавался единственно плодотворной школой, которая, по словам Л. Авербаха, «более всего подходит к материалистическому художественному методу. Вот почему мы на пленуме ВАПП (ноябрь 1926 г.) сказали, что творческим путем для нас является реализм и реалистическая школа»[216].
Реалистическая школа, как всякая школа, потребовала учебы, прежде всего учебы у классиков. На конференции всеми выступавшими учителем пролетарских писателей был назван Лев Толстой. «Что у Толстого очень ценно, что нас влечет к Толстому? – спрашивал Ю. Либединский еще в 1926 году и отвечал: – По моему мнению, это именно то, что у него разработка личности дана очень хорошо, и он учит, какими путями это сделать»[217]. Еще до выхода «Разгрома» отдельным изданием Ю. Либединский указывает на это произведение как образец учебы у Толстого. «Вы на этой книге видите, что получается, когда сознательный крепкий большевик подходит к теме гражданской войны, обогащенный опытом Толстого»[218].
Из опыта Толстого были взяты на вооружение две особенности, две сильные стороны: метод психологического анализа и беспощадный реализм – «срывание всех и всяческих масок с действительности». Выделение этих особенностей с достаточной убедительностью мотивировалось. Пролетариат, как никакой другой класс общества, нуждается в самом трезвом и правдивом взгляде на действительность, его материалистическое мировоззрение способно раскрыть всю глубину жизни. Беспощадный реализм Толстого ближе всего соответствует «материалистическому художественному методу пролетарской литературы». Вот почему «срывание всех и всяческих масок с действительности» становится лозунгом РАПП, одним из основных принципов ее художественной платформы.
Толстовский психологический анализ отвечает на вопрос, «какими путями» великий писатель достигает осязаемой правдивости и глубины в разработке человеческих характеров. Пролетарская литература не может больше довольствоваться шаблонным, схематическим изображением людей и событий. Изменился читатель. Усложнилась жизнь. Только психологическое углубление способно поднять художественный уровень пролетарской литературы. «Почему я особенно делаю ударение на психологизме? – разъяснял Л. Авербах в своем докладе на конференции МАПП. – Я это делаю потому, что мы живем в таких условиях, когда меняется старая психология, когда мы с величайшим трудом, любовью и тщательностью обнаруживаем рост новых чувств, новых связей между людьми. И вот в этот момент, в момент поистине великой психологической революции, такой метод, как метод Толстого, наиболее подходящ для нас. Ленин говорит, что реализм Толстого есть срывание всех и всяческих масок. Это глубокие слова!»[219].
Даже А. Безыменский, представитель «левого меньшинства», которое в этот момент ненадолго примирилось с большинством ВАПП, выступил на конференции с содокладом «О проблеме психологического углубления», где полностью солидаризировался с Авербахом: «Нам, впервые приступившим к показу живого человека, не терпелось показать его немедленно. Поэтому мы слишком обще его показывали. Новый этап, который мы переживаем, обязывает нас к углубленному индивидуализированию персонажей»[220].
Именно здесь Безыменский сказал, что «…в противоположность древнему военачальнику Пирру, пролетарская литература может заявить: “У нас есть 512 членов МАПП. Дайте нам 512 «Разгромов», вернее, 512 произведений, равных по силе «Разгрому», – и вопрос о гегемонии будет снят»[221]”». Авербаху показалось, что поэт переусердствовал. И он в своем заключительном слове решил сбавить его пыл. Однако, поправляя Безыменского, он не снизил оценки «Разгрома». Авербах сказал, что «мы в этом произведении получили наш показ живого человека», что «в «Разгроме» поставлены наиболее крупные из творческих проблем, стоящих перед нами», что «достижение Фадеева есть достижение всей нашей организации»[222].
Как видим, на основании «Разгрома» в связи с объявлением борьбы штампу и схемам, за проблему психологического углубления поставлен на конференции вопрос о показе живого человека. Не только Авербах и Безыменский, но все остальные, выступавшие на конференции, говорили о показе живого человека как о центральной задаче пролетарской литературы. А. Фадеев так и заявил: «…Для нашей литературы сейчас, для достижения ее гегемонии основная центральная задача есть задача показа живого человека»[223]. В. Ермилов в докладе «Творческое лицо МАПП» всю художественную продукцию мапповцев рассмотрел именно с точки зрения этой задачи. «Какая основная тенденция характеризует всю мапповскую продукцию за истекший год? Этим основным моментом, роднящим между собою всех мапповских писателей, является то самое стремление к показу живого человека, о котором на нашей конференции говорилось, стремление к углубленному психологизму»[224].
Фадеев выступил с докладом «На каком этапе мы находимся», который вливался в общее русло суждений конференции. Это был, скорее, не доклад, а взволнованная речь. Это – первое выступление молодого, но уже признанного писателя с такой авторитетной трибуны, как конференция МАПП, в ряду прославленных деятелей литературного движения. «На каком этапе мы находимся» – первое теоретическое выступление писателя, начало его деятельности как критика и теоретика советской литературы. В докладе он дал очень высокую и справедливую оценку классической литературы: «Когда мы говорим о богатстве классической литературы, мы должны сказать, что мы тут имеем, во-первых, чрезвычайную глубину показа человеческой психологии, и, во-вторых, мы имеем необыкновенно широкий в количественном отношении показ всего многообразия характеров людей тех или иных классов общества. Вот с этим критерием разрешите поговорить теперь о пролетарской литературе»[225]. И когда он с этим критерием подошел к оценке литературы тех лет, то выводы его, очень решительные, смелые, были плачевными: «Мы в показе живых людей, типов нашего времени еще не только не достигли какого-либо сходства с классическими образцами – того высочайшего уровня изображения, какой мы имеем у классиков, – но мы еще, собственно говоря, вплотную не подошли к этому»[226]. Подвергнув резкой критике свой «Разгром», произведения Ю. Либединского, поэму «Феликс» А. Безыменского, он говорит: «Живые конкретные большевики, ходящие по улицам, работающие в партии, в профсоюзах, гораздо глубже, интереснее, типичнее в реальной жизни, чем мы их изображаем. Мы находимся еще в младшем подготовительном классе учебы и делаем только первые слабенькие попытки приблизиться к таким колоссальным обобщениям, как Пьер Безухов и Андрей Болконский»[227].
Это был трезвый анализ состояния пролетарской литературы на раннем этапе. Фадеевская оценка отличалась от крикливых и завышенных оценок напостовцев. Фадеев стоит за трезвый взгляд на каждый этап развития литературы потому, что «это будет лучшая гарантия против комчванства, глупой самоуверенности и лучший стимул к самой жесткой учебе[228].
Доклад А. Фадеева и остальные доклады 6-й конференции МАПП составили первый сборник «Творческие пути пролетарской литературы», вышедший в 1928 году. В нем еще не было глубокой разработки проблем. Эти проблемы были лишь определены и поставлены перед пролетарским да и всем литературным движением страны.
В журнале «На литературном посту» от 10 мая 1927 года подводились первые итоги работы 6-й конференции МАПП: «Главное внимание конференции было занято вопросом о творческих путях пролетарской литературы. Бесспорно то, что пролетарская литература будет развиваться по линии художественного реализма… Речь идет о новом пролетарском художественном реализме, впитавшем в себя достижения мировой литературы и развивающемся по каким-то особым путям… Путь психологического раскрытия живого человека – таков путь пролетарской литературы»[229].
Ориентация руководства ВАПП на реализм не явилась новым шагом, новаторством в определении творческого метода литературы. Группа «Октябрь» в своей художественной платформе также отстаивала реалистические принципы. Но курс на психологизм, утверждение, что только «путь психологического раскрытия живого человека» может стать путем пролетарской литературы, а отсюда призыв к учебе у Льва Толстого – все это действительно составило круг новых творческих проблем, выдвинутых авербаховским руководством.
Начиная с майской конференции МАПП костяк напостовцев – Л. Авербах, Ю. Либединский, В. Ермилов, А. Фадеев, М. Лузгин, а вскоре А. Селивановский и каким-то чудом попавший к ним, в это «ортодоксальное пролетарское ядро», бывший анархист и бергсонианец Иуда Соломонович Гроссман-Рощин станут последовательно и настойчиво разрабатывать теорию углубленного психологизма.
К первому съезду пролетарских писателей (май 1928 г.) все более и более определенно выдвигаются и отстаиваются, уже как творческие, лозунги напостовцев: «углубленный психологизм», «теория непосредственных впечатлений», «показ живого человека», «срывание всех и всяческих масок», «учеба у Толстого» и как обобщение всего этого – «диалектико-материалистический метод в литературе».
Работы напостовцев, главным образом сборники статей и выступлений на различных совещаниях: Л. Авербаха «Наши литературные разногласия» (1927 г.), Ю. Либединского «Учеба, творчество, самокритика» (1927 г.), В. Ермилова «За живого человека в литературе» (1928 г.), М. Лузгина «По литературным вопросам» (1928 г.), И. Гроссмана-Рощина «Художник и эпоха» (1928 г.) – по-разному, иногда очень путанно, трактовали все эти проблемы. Рядовые апповцы, члены местных ассоциаций, требовали разъяснений, так как мало что понимали во всех этих премудростях. Противники напостовцев, прежде всего лефовцы и перевальцы, стали атаковать основы будущей «художественной платформы ВАПП». Началась острая, затянувшаяся на долгие годы полемика.
Руководители ВАПП, идя на свой первый съезд, осознавали всю ответственность и перед партией, решение которой они торжественно обязались выполнять, и перед тремя тысячами членов пролетарских ассоциаций, которым они должны были открыть творческие пути, «столбовую дорогу пролетарской литературы».
ГЛАВА 6
Первый съезд пролетарских писателей начался 30 апреля 1928 года вступительным словом А. Серафимовича. Общий доклад «Культурная революция и современная литература» произнес Л. Авербах. О состоянии и задачах марксистской критики рассказал А. В. Луначарский. Впервые с такой высокой трибуны был заслушан доклад «Пролетарская литература и национальный вопрос». Его сделал привлеченный незадолго до съезда к руководству ВАПП молодой напостовец В. Сутырин.
На съезде по докладу А. Селивановского было решено изменить структуру пролетарской литературной организации. Вместо ВАПП – Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей – было создано ВОАПП – Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей. Уже к этому времени существовало несколько республиканских ассоциаций – Украинская, Белорусская, Закавказская. По решению съезда была основана Российская ассоциация пролетарских писателей (с этого времени и ведет свою историю РАПП). Она возьмет руководство всем движением в свои руки. МАПП, игравшая до съезда важную роль в движении, станет одной из обычных ассоциаций. ВОАПП и его руководство превратятся во что-то абстрактное, неоперативное и окажутся на втором плане. РАПП будет решать все вопросы выдвигать новые задачи перед всей пролетарской литературой страны. Ее возглавят самые авторитетные деятели движения.
Однако первый съезд пролетарских писателей оставил след в истории нашей литературы не названными выше докладами и организационными переменами, а постановкой на нем и решением творческих вопросов. С докладом о художественной платформе от имени руководства ВАПП выступили Ю. Либединский («Художественная платформа ВАПП») и А. Фадеев («Столбовая дорога пролетарской литературы»). Это не было случайным. Либединский, автор «Недели» и «Комиссаров», считался также признанным теоретиком в кругу напостовцев. Ряд лет он занимался вопросами творчества, основами художественной платформы ВАПП. Поворот в сторону углубленного психологизма связан прежде всего с именем Либединского. Его взгляды на художественное творчество нашли самое полное выражение в теории «непосредственных впечатлений», которую он попытался обосновать в своем докладе на первом съезде пролетарских писателей. Фадеев был автором всеми признанного социально-психологического произведения. «Разгром» явился как бы практическим выражением и обоснованием курса на углубленный психологизм, на показ живого человека, на беспощадный реализм – на «срывание всех и всяческих масок». Шумный и для многих неожиданный успех «Разгрома» не без основания породил надежды на молодого талантливого художника. Его первое смелое выступление «На каком этапе мы находимся» (1927 г.), опубликованное в журналах и сборниках, указывало на способности А. Фадеева к теоретической деятельности.
Доклады на съезде и полемические выступления Авербаха и Фадеева, защищавших выдвинутую ими художественную платформу, составили второй сборник напостовцев «Творческие пути пролетарской литературы» (1929 г.). В «Послесловии» к сборнику сказано: «Авторы настоящего сборника принадлежат к определенному литературно-критическому течению, именуемому напостовством… Объединенные общими взглядами в области политики, мы занимаем общую позицию и по вопросам художественной платформы, рассматривая себя как одну из формирующихся школ пролетарской литературы; мы работаем над созданием школы, ставящей себе задачу выработки последовательного диалектико-материалистического художественного метода. Мы выступаем под знаменем реалистического искусства, срывающего с действительности все и всяческие маски (Ленин о Толстом), реалистического искусства, разоблачающего там, где романтик надевает покровы, лакируя действительность»[230].
Как видим, «Послесловие» явилось своеобразной декларацией напостовцев. Они объявляют себя «одной из формирующихся школ пролетарской литературы» и выдвигают свою художественную платформу. Мы еще вернемся к этим заявлениям напостовцев, а сейчас следует внимательно рассмотреть сами материалы сборника «Творческие пути пролетарской литературы».
В письме к Либединскому от 10 апреля 1935 года Фадеев дал оценку своей теоретической деятельности и своего друга: «Я прочел в номерах 10–11 «Литературного критика» введение к эстетике Гегеля и получил истинное наслаждение. Вопросы специфики искусства во время РАПП пытались разрабатывать, к сожалению, только ты да я. Я поразился, как близко к истине мы добирались! И как жалко, что все это было искажено у нас недостатком знаний, догматизмом и групповой борьбой. Благодаря такому искажению, эти работы нельзя даже переиздать, а между тем – это пока единственные попытки применить марксистскую философию к современной практике литературного творчества»[231].
Конечно, не только Либединский и Фадеев в 20-е и в начале 30-х годов пытались разрабатывать теорию художественного творчества. А. К. Воронский, а особенно А. В. Луначарский внесли важный вклад в разработку специфики искусства. Нельзя забывать и Горького, который, может быть, больше других сделал в этой области. Что касается попыток применить марксизм к литературной практике, то их, этих попыток, в тот период было больше чем достаточно. Павел Никитич Сакулин, Валериан Полянский (Павел Иванович Лебедев), Петр Семенович Коган, Владимир Максимович Фриче, Абрам Моисеевич Деборин, Валериан Федорович Переверзев – каждый по-своему пытался это сделать. Всё это были известные ученые, имели фундаментальные труды, возглавляли научные школы (каждый имел круг своих учеников и последователей). Однако всем им были свойственны существенные недостатки – они не сумели подняться до марксистско-ленинского понимания литературного процесса, многие отдали дань вульгарному социологизму, то есть игнорировали объективно-познавательное значение литературы и искусства, придавая в художественном творчестве выражению взглядов отдельных классов и социальных групп исключительную роль. В целом это был очень важный плодотворный период – пора жарких споров по вопросам специфики искусства.
Действительно, из рапповских деятелей больше других занимались спецификой художественного творчества Либединский и Фадеев. Особенно Фадеев сделал много полезного в этой области, хотя и то правда, что «все это было искажено недостатком знаний, догматизмом и групповой борьбой».
А. Фадеев в докладе «Столбовая дорога пролетарской литературы» (1928 г.), в статьях 1929 года «Против верхоглядства (Ответ т. Семенову)» и «Долой Шиллера», а также в более поздних выступлениях поразительно близко, при всех его серьезных заблуждениях, добирался до истины в вопросах художественного творчества. Для Фадеева проблемы «показа живого человека», «углубленного психологизма», «непосредственных впечатлений», «срывания всех и всяческих масок» всего лишь слагаемые «другой, более крупной проблемы» – «проведения материалистического метода в литературе», разработки «нового метода пролетарской литературы».
«Показ живого человека» Фадеев будет защищать вплоть до 1931 года. В докладе «Столбовая дорога пролетарской литературы» эта проблема занимает центральное место и получает глубокое обоснование.
Ее определение Фадеев считает неудачным, тем более «что термин этот – «живой человек» – так часто употреблялся и кстати и некстати и так сильно его заштамповали, что уже не верится, что действительно за этим самым термином может скрываться что-либо живое»[232]. Но за этим «пресловутым «живым человеком», говорит Фадеев, на самом деле скрывается очень простая и всем доступная истина: «Мы находимся еще на такой низкой художественной ступени, что не научились показывать людей во плоти и крови, а показываем их схематически. А нужно показывать их так, чтобы читатель верил в то, что такие люди действительно существуют»[233]. Нужно преодолеть схематизм в показе людей и добиться того, чтобы писатели изображали человека во всей его сложности и многообразии: «Только такую цель мы преследовали»[234].
Нападки представителей «Кузницы», Лефа, «левого меньшинства» в том духе, что рапповский «живой человек» – это человек вообще, вне классового осмысления, вне классовой борьбы, Фадеев высмеивал во многих своих выступлениях, и достаточно убедительно. В докладе на съезде он отвечал критикам из группы «Кузница»: «Но недалеко же ушли теоретики «Кузницы», если, имея уже лет по сорок от роду каждый и лет по пятнадцати работая в литературе, восемьдесят лет спустя после открытия Маркса они продолжают твердить только эту истину.
Да, товарищи, наша постановка вопроса отнюдь не отрицает той элементарной истины, что мы должны показывать классовых, а не выдуманных людей. Нигде у Маркса не говорится, что классовые люди – не живые люди, а манекены. Именно живые люди – классовые люди»[235]. С еще большей решительностью он возражал М. Семенову в статье «Против верхоглядства»: «Дорогой товарищ Семенов! Золотую истину о том, что внеклассового искусства в классовом обществе не бывает, уже открыли. Открыли много лет тому назад небезызвестные в большевистских кругах Карл Маркс и Фридрих Энгельс»[236].
А. Фадеев отвечал и на критику «Перевала», теоретики которого не без основания заявляли, что в рапповском лозунге «живого человека» нет ничего нового, что с тех пор как существует художественная литература, возникла и проблема изображения живых людей, да и вообще истинное художественное творчество непонятно и невозможно без показа человека во всей его сложности и многообразии.
В докладе «Столбовая дорога пролетарской литературы» Фадеев признает справедливость этих упреков в той их части, что эта проблема не нова, что действительно великие реалисты прошлого, особенно Лев Толстой и Флобер, «достигли необычайных, до сих пор не превзойденных вершин в изображении живых людей своего времени»[237]. Но, говорит Фадеев, для нашего времени, для пролетарских писателей эта проблема стоит «во многом не так, как она стояла у этих классиков-реалистов». С нашей точки зрения изобразить живого человека – «это значит показать в конечном счете весь исторический процесс общественного движения и развития»[238]. А это очень сложно, сложно потому, что «последовательно и правильно показать человека как продукт известной общественной среды» еще никогда и никому не удавалось.
Как это сделать? Как показать в художественной литературе живого человека нашего времени? Вот тот главный вопрос, на который только частично могут помочь ответить реалисты прошлого, ибо уже не им, а нам отвечать на него. На этот вопрос не ответит и бесконечное повторение давно открытой истины о классовом характере искусства, потому что «для человека, стоящего на этой (совершенно бесспорной, всеми нами принятой и зафиксированной в сотнях платформ и тезисов) позиции, открываются главные трудности» как раз в тот момент, когда он приступает «к изучению специфических свойств, особенностей искусства, выделяющих эту область из всех других надстроечных областей именно как область искусства, а не чего-либо другого»[239].
Фадеев приходит к выводу, что единственный выход из этих трудностей заключается в применении последовательно-материалистического метода к области художественного творчества. Этого не мог сделать никакой класс прошлого, «потому что ни у одного класса, кроме пролетариата, его субъективные чаяния, надежды и интересы не совпадали в конечном счете с его объективной ролью и с объективным ходом общественного развития. И только пролетариат, который имеет эти данные и который владеет методом познания жизни, являющимся единственно правильным методом ее познания, в состоянии применить этот материалистический метод последовательно в своем творчестве»[240].
Таким образом, рапповцы вплотную подошли к разработке творческого метода пролетарской литературы. Этот метод был ими определен как «диалектико-материалистический метод в литературе». Уже самим названием они стимулировали применение марксизма к области творчества.
Первым из рапповцев, кто попытался, правда далеко не с марксистских позиций, раскрыть специфику художественного творчества, был Ю. Либединский. В своем докладе на съезде пролетарских писателей «Художественная платформа ВАПП» (в сборнике «Творческие пути пролетарской литературы» статья уже называлась «Художественная платформа РАПП») он выдвинул теорию «непосредственных впечатлений» и полагал, что здесь кроется суть искусства, его специфика. Ю. Либединский утверждал: «Непосредственные впечатления – это основа искусства»[241]. Этот термин он позаимствовал у Белинского из неоконченной статьи «Идея искусства» (1841 г.).
Положительным явился уже сам факт обращения к сложнейшим проблемам творчества. Либединский повел за собой других видных деятелей рапповского движения. Разгоревшиеся бурные споры вокруг поднятых проблем были плодотворными. В результате этих споров многое прояснилось в вопросах творчества. Однако своей теорией «непосредственных впечатлений действительности» пролетарский писатель внес много путаницы и поставил все рапповское руководство в очень неприятное положение: художественная платформа РАПП оказалась в прямой зависимости от взглядов на искусство «врага пролетарской литературы» А. К. Воронского. И сколько потом ни пытались «выручить», «разъяснить», «уточнить» теорию Либединского его друзья по РАПП, в конце концов они вынуждены были признать ее ошибочность.
По Либединскому, «непосредственные впечатления» – это самые истинные, самые первозданные, самые чистые представления о мире. Они не зависят от сознания человека, от его мировоззрения, от его классовых взглядов. «Человек знает о мире гораздо больше, чем он думает, что он знает. Искусство как раз и берет за строительный материал именно это знание… Воронский это «знание» называет иногда подсознательным, иногда интуитивным… Мне кажется, что лучший термин для выражения специфики этого знания дал Белинский, определяя искусство как мышление в образах или непосредственное созерцание истины»[242].
Непосредственные впечатления не лежат на поверхности. Они скрыты под шелухой обывательских суждений и общежитейских представлений. Искусство как мышление в образах создается путем освобождения непосредственных впечатлений из-под этого. «Процесс искусства, – утверждает Либединский, – состоит в преодолении общежитейских представлений, в отталкивании от них, в освобождении непосредственных впечатлений из-под шелухи обывательских пошлых суждений. Искусство, которое оперирует житейскими, поверхностными, обывательскими представлениями, – это не искусство: это кажущееся искусство, ложная форма, мимикрия. Чем непосредственнее впечатления, лежащие в основе произведения искусства, тем глубже оно по восприятию, тем длительнее его существование»[243].
В докладе Либединского, о котором у нас идет речь, есть раздел: «Ошибки Воронского в «Искусстве видеть мир». В этом разделе говорится: «Недавно товарищ Воронский читал интересный доклад «Искусство видеть мир», в основу которого он положил некоторые положения, кое в чем похожие на наши. Однако, по-моему, Воронский не только не сделал шага вперед по отношению к Белинскому, но в некоторых отношениях сделал из Белинского идеалистические выводы»[244].
Обратимся же к Воронскому. В его докладе «некоторые положения, кое в чем похожие» на мысли Либединского, не что иное, как та же самая теория «непосредственных впечатлений», только выражена она превосходно и вдохновенно: «Увидеть мир, прекрасный сам по себе, так, чтобы чувствовать «природы жаркие объятия», мир во всей его свежести и непосредственности, увидеть небо, как увидел его однажды Болконский, – очень трудно… Привычки, предрассудки, мелкие заботы, огорчения, ничтожные радости, непосильный труд, условности, болезни, наследственность, общественный гнет, смерти близких нам людей, пошлая среда, ходячие мнения и суждения, искривленные мечтания, фантазмы, фанатизм с ранних лет застилают нам глаза, притупляют остроту и свежесть восприятия, внимание, – оттесняют в глубь сознания, за его порог, самые могучие и радостные впечатления, делают неприметными самое дорогое и прекрасное в жизни… Неподдельное, подлинное искусство иногда сознательно, а еще чаще бессознательно всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти образы мира. В этом – главный смысл искусства и его назначение»[245].
Либединский и Воронский мыслят одинаково. Оба они обнаруживают суть искусства в одном и том же: «В освобождении непосредственных впечатлений из-под шелухи обывательских пошлых суждений и представлений» (Ю. Либединский). «Писатели-эмпирики добросовестно воспроизводят свои ощущения, представления, а все дело в том, чтобы найти в их массе самые живые, свежие, глубокие, непосредственные, неиспорченные, приближающие к нам мир в его могучей красе и изобилии, открывающие нам его с невиданных сторон»[246] (А. Воронский).
Либединский критикует Воронского за идеализм, за отступление от марксизма. Но эти отступления он видит не там, где они действительно существуют. Это происходит по той причине, что Либединский делает те же самые отступления от марксизма, что и Воронский.
«Мы возражаем, – говорит Либединский, – против термина первичности, потому что Воронский под первичностью, очевидно, подразумевает какую-то неизменяющуюся основу человеческих отношений к действительности, складывающуюся еще в детстве, и художник именно эту основу все время вскрывает. Он не видит, что действительность все время изменяется. Следовательно, меняются непосредственные впечатления действительности, каждый раз являясь источником обогащения искусства»[247].
Это несправедливое замечание. Воронский указывает, что «непосредственные впечатления» открываются людьми не только в детский период, хотя именно в период детства они бывают самыми чистыми и прекрасными, но человек знает о них «благодаря юности, они открываются ему в особые исключительные моменты, в период общественной жизни»[248]. Воронский обязательно учитывает изменение жизни. Он критикует «бытовизм» в литературе за то, что «в бытовых произведениях ничего не открывается, в них все запечатляется в застывшем состоянии, в них нет динамики, становления, развития, действия, за частностями не чувствуется целого, нет и настоящих эстетических эмоций»[249]. Он говорит, «что настоящее революционное, пролетарское искусство… в том, чтобы дать почувствовать читателю, что в основе произведения лежит действительно новая, действительно революционная эмоциональная доминанта, новый материал, новые открытия»[250]. Это содержится все в той же работе Воронского, которую критикует Либединский.
В разделе своего доклада «Место мировоззрения в творческом процессе» Либединский отдает должное сознанию и классовому мировоззрению художника. Однако именно в этом разделе обнаруживается основной порок теории Либединского: по его трактовке, «непосредственное впечатление» не является составной частью сознания, первой его ступенью. Они отделены, разорваны. И хотя Либединский, опираясь на Белинского, говорит, что художник «должен понимать сознательно, то есть свои непосредственные ощущения переводить на понятия и осмысливать их», и что «художественный образ – это непосредственное впечатление, обобщенное в сознании»[251] эти суждения не выручают его теорию, ибо она научно несостоятельна. Роль сознания и мировоззрения, по Либединскому, сводится лишь к тому, чтобы позволить «художнику поднять непосредственное впечатление действительности из-под той шелухи обывательских суждений, под которой это непосредственное впечатление бывает подчас скрыто»[252]. Как видим, «непосредственное впечатление» – это своеобразный «драгоценный металл», скрытый под шелухой обывательских суждений, а сознание – это своеобразная «драга», которая только то и делает, что очищает этот «драгоценный металл» от шелухи обывательских суждений. Сознание и мировоззрение не только оторваны от «непосредственных впечатлений», но играют в процессе искусства второстепенную роль.
Точно так же мыслит А. Воронский, отводя сознанию второстепенную, подсобную роль в создании искусства, в открытии «прекрасных образов мира». Воронский утверждает: «Чтобы найти в своих восприятиях наиболее ценные из них, чтобы очистить их, сгустить, надо быть острым аналитиком… Здесь интеллектуальный уровень художника сплошь и рядом имеет решающее значение»[253]. Само же искусство не нуждается в интеллекте. «Каким образом искусство превращает ученого человека в безумца, зрелого человека в ребенка? Оно заставляет умолкнуть рассудок, оно добивается того, что человек верит силе самых примитивных, самых непосредственных своих впечатлений. Лишь только у зрителя и читателя начинает работать ум, все очарование, вся сила эстетического чувства исчезает»[254].
Либединский упрекал Воронского за то, что последний «в некоторых отношениях сделал из Белинского идеалистические выводы». Этот упрек с полным основанием можно отнести и к самому Либединскому. Оба они из сложного противоречивого потока человеческих отношений к жизни вырывают «непосредственные впечатления», делают их обособленными, не связанными с «обычными», «житейскими», «повседневными», «корыстными», «обывательскими», «поверхностными» впечатлениями и суждениями, то есть со всем тем, чем живет человеческое общество, в котором плохое и хорошее, отсталое и передовое, старое и новое сложно переплетается, находится в единстве противоположностей, в состоянии бесконечной борьбы. Боевое искусство, за которое ратует Либединский, не может интересоваться только «непосредственными впечатлениями», не может строиться только на них. Его интересует вся общественная жизнь во всех ее противоречиях, его интересует борьба и победа прогрессивных сил над реакционными силами. Сфера искусства – вся жизнь, все ее стороны, все ее противоречия. И это прекрасно понимал Белинский, которого наши теоретики называют своим учителем: «Но, вполне признавая, что искусство, прежде всего, должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь разделяется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другой живым образом, и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна»[255].
Либединский и Воронский разрывают чувство и разум, уделяют, обособляют из сферы сознания «непосредственные впечатления» и на последних строят здание искусства. Ведь не чем иным, как недооценкой разума, не объяснишь наставление Ю. Либединского: «Нам надо понять, что, когда явление искусства начинает терять свою непосредственность, оно перестает быть явлением искусства. Оно может продолжать действовать, но уже силой научного или публицистического доказательства»[256]. Не потому эта мысль неверна, что искусство должно иметь свою непосредственность (оно должно ее иметь), а потому, что, кроме непосредственности, Либединский ничего больше не видит в искусстве, ибо, по его убеждению, «чем непосредственнее впечатления, лежащие в основе искусства, тем глубже оно по восприятию, тем длительнее его существование».
Белинский был иного мнения об искусстве: «Говорят: для науки нужен ум и рассудок, для творчества – фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. А для искусства не нужно ума и рассудка? А ученый может обойтись без фантазии? Неправда!.. В творениях Шекспира не знаешь, чему больше дивиться – богатству ли творческой фантазии или богатству всеобъемлющего ума»[257].
Заблуждения Либединского объясняются прежде всего недостатком знаний, как правильно отметил Фадеев, а упорство в отстаивании ошибочных положений – групповой борьбой, на что также правильно указал Фадеев, но указал, к сожалению, очень поздно. В конце же 20-х годов и сам он, и все товарищи Либединского из напостовской школы ринулись защищать теорию «непосредственных впечатлений». При этом они громили Воронского, о чем упоминалось выше, как раз за те самые ошибки, которые допустил и Либединский. Такова логика групповой борьбы. На самом деле, Авербах в статье «Долой Плеханова (куда растет школа Воронского)» гневно вопрошает: «Кому нужно противопоставление ума и чувства в эстетическом восприятии искусства? Только тем, кто хочет привести нас к выводу о необходимости борьбы с публицистикой в образах… Агитационное произведение, написанное подлинным гражданским пафосом, возбуждающее людей и направляющее их по вполне определенному пути, вычеркивается из искусства, ибо оно явно не вызывает тех эстетических эмоций, о которых пишет Воронский»[258]. И, как всегда у Авербаха, грозный прич??? говорит в конце статьи: «Назад к Канту! Назад к Скабичевскому! Назад к Сологубу! На учебу к Бергсону! – так идут они под знаменем идеалистической реакции»[259]. И, как всегда, Авербах перехлестывает, потому что Воронский в той самой статье, которую критикует Авербах, не отвергает агитационное искусство. «Прежде всего, – говорит Воронский, – значительная, может быть, преобладающая часть современных художников занята агитацией и пропагандой новых идей. Это вполне естественно и необходимо, но все же агитационное искусство больше хочет, чем видит»[260]. Следовательно, при всем своем преклонении перед истинным искусством Воронский признает существование агитационного искусства не только естественным, но и необходимым явлением. В то же время глава напостовской школы не замечает, когда Либединский вообще выключает из сферы искусства публицистику. За что же тогда ратует Авербах?
Критикуя Воронского за то, что у него будто бы «непосредственные впечатления» трактуются как вечно данные, неизменные, Л. Авербах, поучая, изрекает: «…следует говорить об исторически меняющихся классово различных непосредственных восприятиях жизни – восприятиях, преодолевающих вульгарные житейские представления и максимально приближающихся к познанию действительной сущности явлений»[261]. Как видим, Авербах не только признает «непосредственные восприятия жизни», но приписывает им силу всего человеческого сознания, в том числе и свойства абстрактного мышления. По Авербаху, «непосредственные восприятия жизни», преодолевая вульгарные представления, максимально приближаются к «познанию действительной сущности явлений». Но это и есть чистейшее бергсонианство, хотя Авербах оказался в нем по невежеству.
Преподнеся Воронскому урок классовости, Авербах указал на то, что «непосредственные восприятия жизни» всегда классово различны. И это, в общем, правильно. Но этим определением он поставил себя в затруднительное положение: из его фразы вытекает мысль, что «непосредственные восприятия» любого класса максимально приближаются «к познанию действительной сущности явлений», тогда как сам Авербах допускает такое познание лишь у одного класса – у пролетариата.
Оригинально защищал Либединского Фадеев. В своей статье «Против верхоглядства (Ответ т. Семенову)» он попытался раскрыть суть теории «непосредственных впечатлений» и доказать ее состоятельность. М. Семенов (псевдоним полемиста, настоящего имени которого установить не удалось. А. Фадеев предполагал, что это был А. Зонин) наряду с наивными и общеизвестными поучениями о «классовом характере искусства» указал на действительные ошибки Либединского, допущенные им в докладе «Художественная платформа ВАПП». Фадеев «разъясняет», «растолковывает» положения Либединского. Однако, по существу, он исправляет эти ошибочные положения, исправляет настолько основательно, что от теории «непосредственных впечатлений действительности» Либединского ничего не остается, кроме терминологической шелухи.
«На каких особенностях, составляющих основу художественного творчества, сосредоточил свое внимание т. Либединский?» – спрашивает Фадеев. И дальше начинаются его «элементарные пояснения».
«Во-первых, на той особенности (еще не делающей искусства, но являющейся его неотъемлемым свойством), что искусство воспроизводит мир в форме как бы непосредственных впечатлений от действительности»[262]. Подчеркнутые нами слова «в форме как бы» и «от» придают «непосредственным впечатлениям действительности» Либединского совершенно иной смысл и ставят его теорию с головы на ноги. Проследим за дальнейшими «пояснениями» Фадеева. «Само собой разумеется, что непосредственных впечатлений в буквальном смысле не бывает, так как человек воспринимает объективно существующий мир посредством своих органов чувств… Речь идет о той кажущейся (подчеркнуто А. Фадеевым. – С. Ш.) непосредственности образов искусства, которая вызывает в человеке, воспринимающем эти образы, «иллюзию» (подчеркнуто А. Фадеевым. – С. Ш.), будто бы он сам все это видит, осязает, слышит, переживает в жизни»[263]. Наконец, этой особенности искусства Фадеев находит более точное определение – «непосредственная форма воспроизведения искусства», хотя и это определение еще не является адекватным тому содержанию, которое имеет в виду Фадеев.
На сентябрьском пленуме РАПП 1929 года в своем выступлении Фадеев вновь поддержал Либединского, но опять истолковал его «непосредственные впечатления» по-своему, правильно: «Вопрос о непосредственных впечатлениях, разработанный Либединским, для нас чрезвычайно важный. Это Лежит в основе нашей художественной платформы… Мы мир принимаем посредством наших чувств, перерабатываем через наше сознание. Но мы, писатели, подаем это в такой конкретной форме, которая в человеке, воспринимающем искусство, создает иллюзию, будто бы он действительно осязает, переживает самую жизнь»[264].
Конечно, не Фадееву принадлежит открытие этой особенности реалистического искусства. Давным-давно она была открыта у нас в России Белинским, он дал ей и замечательное определение: «Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир…»[265]. Заслуга Фадеева заключается в том, что он первый из рапповцев «добрался до истины». Но лишь через долгие годы, перед самой уже кончиной, Фадеев будет отстаивать ту мысль, которая явится результатом всей его деятельности и познания мировой литературы и смысл которой будет состоять в том, что реалистическое искусство может постигать правду не только в формах самой жизни, но и в условных формах. «Все должно быть по существу жизненно, необязательно все должно быть жизнеподобно»[266].
В 20-е же годы А. Фадеев придавал «иллюзии непосредственных впечатлений», «жизнеподобности» искусства такое исключительное значение, что все, что не отвечало этому требованию, даже в реалистической литературе, он не признавал художественным. Так, в докладе на первом съезде пролетарских писателей он заявил: «Произведения некоторых писателей даже восходящих классов (например, «Что делать?» Чернышевского), где непосредственные впечатления от действительности в большей мере подменяются рассуждениями о ней, в такой же мере выходят за пределы искусства»[267]. Эту же мысль он повторил на октябрьском пленуме РАПП 1928 года: «Что делать?» не действует эмоционально, и потому такое произведение выходит за пределы искусства»[268]. И только под конец своей жизни он скажет истинные слова об этом гениальном произведении: «В романе великая и благородная мысль Чернышевского более является героем, чем сама жизнь, но это не лишает роман художественного очарования… Формы реализма столь многообразны, что их нельзя объять никакой догмой»[269].
Затем Фадеев в своей статье «Против верхоглядства» обращается ко второй особенности искусства: «Во-вторых, т. Либединский сосредоточил свое внимание на той особенности искусства, что оно воспроизводит не все и не всякие из тех непосредственных впечатлений от действительности, которые доступны художнику по данной его социальной природе и которые бы могли иметь отношение к избранной им теме, – а воспроизводит, главным образом, те из них, которые являются либо наиболее первичными, глубинными впечатлениями, очищенными от шлака ходячих, житейских, обывательских представлений, либо во всяком случае отталкивается от последних»[270].
Эти рассуждения дают возможность понять мысль Фадеева о способности искусства к обобщениям, к раскрытию закономерностей действительности. «Другими словами, – указывал Белинский, говоря об этой стороне искусства, – поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе». В связи с этой особенностью великий критик формулирует еще одно определение реалистического искусства (оно возникло в результате анализа произведений Гоголя) «…как воспроизведение действительности во всей ее истине»[271].
Совершенно справедливо Фадеев указывает на органическую связь этой особенности с первой особенностью искусства, и только вместе они, заключает он, «составляют существо искусства».
В каждом подлинно художественном образе, утверждал он, «есть сосредоточение черт некоего индивидуального живого конкретного человека и черт обобщенных, свойственных целой категории людей»[272].
Это правильное понимание специфики искусства ничего общего не имело с теорией «непосредственных впечатлений» Либединского, который по этим вопросам разделял позиции Воронского. Свои «непосредственные впечатления» и «прекрасные образы мира» оба они мыслили как что-то отдельно существующее. В момент прозрения, вдохновения, интуиции художник будто бы их отыскивает, а затем с помощью сознания очищает от шелухи пошлых житейских впечатлений. Эти очищенные «непосредственные впечатления» и составляют основу, сущность искусства. Классовому мировоззрению оставалось лишь эти очищенные впечатления использовать в интересах своего класса.
Если, по Фадееву, во всем творческом процессе сознанию отводилась активная роль, то, по Либединскому, основную роль в этом процессе играли подсознательные «непосредственные впечатления».
Исправляя ошибки Либединского, Фадеев, однако, сделал вид, что этих ошибок и не существовало. Он все предпринял для того, чтобы отвести справедливые нападки на Либединского и обвинить противников напостовства в невежестве, которое не позволило-де им понять всей глубины теории Либединского. «Из этого следует только то, – заканчивает Фадеев свою статью «Против верхоглядства», – что напрасно некоторые товарищи, вроде т. Семенова, думают, будто, усвоив некоторые марксистские азы, можно так уж все понимать в области искусства и поучать «малых сил»[273].
Но ошибки Либединского, как их ни пытались скрывать напостовцы, не переставали быть ошибками. А к ним прибавлялись новые и новые ошибки и заблуждения, допускавшиеся тем же Либединским и его товарищами из напостовской школы.
ГЛАВА 7
Показ «живого человека», ставший для рапповцев, по выражению В. Ермилова, «проблемой всех проблем», приобретал в трактовке некоторых руководителей пролетарской литературы идеалистический характер.
В своем докладе «Реалистический показ личности как очередная задача пролетарской литературы» (1926 г.) Ю. Либединский, разъясняя смысл конкретизации изображения, писал: «Прежде всего в том, что мы берем каждый характер не как цельную личность, ибо, по существу, цельной личности нет. И человек, который настаивает на 100 % личности, конечно, ничего не понимает. Тут нужно брать человека таким, каков он есть»[274]. Эта, в общем правильная, мысль для того периода особенно была плодотворной, потому что шла борьба со схематизмом в изображении людей, намечался поворот к правдивому, всестороннему изображению человеческих характеров. Однако уже в этих рассуждениях Либединского есть та нечеткость мысли («…по существу, цельной личности нет»), которая в последующих выступлениях Либединского и напостовцев превратится в серьезное заблуждение. Когда они усиленно стали рекламировать «углубленный психологизм» в показе «живого человека», их рецепты часто противоречили принципам реалистического искусства и задачам новой, революционной литературы. Лозунг «срывания всех и всяческих масок», механически перенесенный на изображение советской действительности, исключал возможность утверждения революционных преобразований и характеров революционеров-преобразователей. При такой постановке вопроса снималась задача изображения положительного героя эпохи. Напостовцы настойчиво повторяли, что человек по самой природе бесконечно противоречив, что в нем подсознательное начало вечно борется с сознательным и ни одно из этих начал не является определяющим, ведущим.