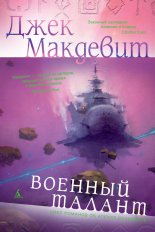Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов Шешуков Степан

В статье «Противники ли мы психологизма?» Авербах говорит о сложности изображения борьбы старого и нового в психике человека: «Для этого мало описать кожаную куртку большевика, с чем справляется и Пильняк. Для этого нужно показать под кожаной курткой не на совесть слаженную динамо-машину, а противоречивую, сложную и многостороннюю человеческую психику»[275]. Фадеевского Левинсона Авербах ценит как раз за изображение в нем противоречивой психики. Действительно, многие критики увидели в Левинсоне сложную натуру, но немногие поняли, что при всей своей сложности – это подлинно цельный, целеустремленный характер большевика.
Больше других внес путаницу в вопрос о показе «живого человека» В. Ермилов. В статье «Проблема живого человека в современной литературе и «Вор» Л. Леонова» критик, не разобравшись в сложных коллизиях романа, рассмотрел его с точки зрения «проблемы всех проблем».
«Вор» находится, пишет Ермилов, «в том центральном, узловом пункте, куда, как в Рим, ведут все дороги, где перекрещиваются все вопросы, задачи, стоящие перед современной литературой. Таким узловым пунктом является проблема живого человека в литературе – в частности, того реального, с плотью и кровью, с грузом тысячелетних страданий, с сомнениями и муками, с бешеным стремлением к счастью, живого человека, начавшего жить на перекрестке двух дорог, принесшего в новую эпоху вековое наследие отцов, дедов и прадедов, часто не выдерживающего перенагрузки эпохи, – того живого человека, которого пытается показать в своем романе Леонид Леонов»[276].
Ермиловский идеал в показе живого человека, «с грузом тысячелетних страданий», «перенесшего в новую эпоху вековое наследие отцов, дедов и даже прадедов», в какой-то мере получил реализацию в романе «Вор». Поэтому критик и назвал его «произведением, так близко подошедшим к воплощению нового человека». Но даже «Вор» Леонова полностью не удовлетворил запросы критика по причине «ложной идеи некоего абсолютного, находящегося вне времени и пространства человека». Со всей категоричностью Ермилов заявил, что вообще с той задачей, которую он поставил перед проблемой «живого человека», «попутнический сектор литературы в целом не способен справиться… так как предпосылкой для этого является способность к синтезу»[277].
Эту способность к синтезу он обнаружил в романе пролетарского писателя Сергея Семенова «Наталья Тарпова» (1927 г.). В статье «В поисках гармонического человека», опубликованной в журнале «На литературном посту» в 1927 году (после резкой критики лефовцев в сборнике своих статей Ермилов ее назвал «В поисках нового человека»), критик восторженно оценивает еще не оконченное произведение как «бесспорное достижение, несомненную победу Сергея Семенова и пролетарской литературы»[278]. Такую завышенную оценку романа критик дал по той причине, что увидел в нем применение «углубленного психологизма», увидел, как проблема «живого человека» нашла воплощение в гармонической личности. Что такое гармоническая личность, по Ермилову? Это органическое соединение подсознательного и сознательного в человеке. Таким человеком в романе является парторганизатор фабрики Рябьев. Ермилов прослеживает, как постепенно в герое соединялись подсознательное и сознательное начала. «Рябьев, сын металлиста, сам работавший в юности на производстве, вступил в партию в шестнадцатом году – вступил, логически осознав правильность путей партии. Но этот факт – головного, логического присоединения к партии – никак еще не изменил психологии Рябьева, еще не сделал из Рябьева партийца. Нужно было, чтобы оказались затронутыми и какие-то подспудные силы, дремавшие до сих пор глубоко в области подсознания, чтобы идеология не была механически присоединенным придатком, химически не слившимся со всеми элементами рябьевской личности. «И только после Октября в Рябьеве заговорил не только разум, а и что-то еще, лежавшее глубже разума»[279] – завершает Ермилов свои суждения о Рябьеве цитатой из романа С. Семенова. И с таким же серьезным видом В. Ермилов делает вывод: «Только после того, как Рябьев почувствовал в себе это необычайное расширение личности, после того, как идеология соединилась у него с тем, что вырастало «из какой-то последней в нем глубины», из-под сознания, – Рябьев достиг равновесия всех элементов своей личности»[280]. Но, рассуждает дальше критик, далеко не всем большевикам выпадает такое счастье, как Рябьеву. Директор фабрики старый большевик Алексей Иванович всю жизнь довольствуется только логическим существованием, а интеллигент Шипиусов – подсознательным. Они представляют собою «не что иное, как лишь две расколовшиеся половинки Рябьева, две стороны рябьевской личности»[281] (подчеркнуто В. Ермиловым). В таком же духе дается анализ характера главной героини Натальи Тарповой, у которой идет внутренняя борьба – борьба между идеологией и подсознанием. «Половое притягивание Тарповой к инженеру и такое же отталкивание ее от него все время идет в соответствии с моментами классово-идеологического сближения с Габрухом – и, наоборот, все моменты, когда Тарпова резко ощущает классовую чуждость инженера, она отталкивается от него и «всем, что было у нее женского», т. е. подсознательного»[282].
Из-за этих противоречий Ермилов отказывает Тарповой именоваться «гармонической личностью». В заключение статьи, похвалив Семенова за успешную учебу у Достоевского, Ермилов демонстрирует свое, извращенное понимание культурной революции в стране: «Только тогда, когда идеология войдет в психику у массы, – как вошла она в психику Рябьева в романе С. Семенова, процесс культурной революции будет завершен. А ведь «только» это нам и нужно, по Ленину, для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной!»[283].
Не знаешь, чему здесь больше удивляться: примитивному ли взгляду на художественное творчество, явно идеалистическим заблуждениям в области философии или вульгаризаторству. Но больше всего удивляет, пожалуй, то, что это поддерживал такой проницательный художник и теоретик, как Фадеев. В своем докладе на первом съезде пролетарских писателей он взял под защиту это во всех отношениях беспомощное и ошибочное выступление Ермилова. «Здесь привязали нам, воспользовавшись неудачным выражением одного из наших товарищей (в статье по совершенно другому и совершенно конкретному поводу), рассуждения о некоем «гармоническом» человеке»[284]. Оказывается, по Фадееву, все дело в «неудачном выражении». Но несмотря на то что Ермилов, послушавшись Фадеева, заменил это неудачное выражение в названии статьи, помещая ее в свой сборник «За живого человека в литературе», это нисколько не избавило ее от ошибок как раз по поводу «проблемы всех проблем». И значительно позже это открыто признает Фадеев.
Ю. Либединский трактовал проблему «живого человека», исходя из своей теории «непосредственных впечатлений», исходя из того, что сознательное и бессознательное в человеке находятся в состоянии вечных противоречий, переходят одно в другое и трудно бывает определить, какое же начало является ведущим.
Именно эти соображения Либединский изложил в докладе «Генеральная задача пролетарской литературы» на сентябрьском пленуме РАПП в 1929 году. Он сказал: «В жизни подчас бывает так, что и хороший коммунар не без ленцы и кряхтения, но все-таки на собрание партячейки идет. Чтобы в этом разобраться, нужно понимание диалектического характера, то есть того самого, что создает в одном и том же человеке в нашу пеструю эпоху иногда совершенно противоречивые, превращающиеся одно в другое, стремления, настроения и мысли»[285].
Реализацией такого «диалектического характера» и явился роман Либединского «Рождение героя» (1930 г.), вызвавший бурную полемику и поставивший под удар всю проблему «живого человека». В этом произведении автор шел не от жизни, чтобы действительно показать живых, реальных людей, а от той схемы, от тех рецептов, которые складывались в головах рапповцев и рекомендовались для творческой работы. «Рождение героя», несмотря на его кажущийся «углубленный психологизм», сугубо рационалистическое произведение. Как ни удивительно, но лозунг «живого человека», призванный преодолеть схематизм в литературе, в «Рождении героя» явился основанием для нового схематизма, более опасного, чем схематизм в искусстве первых лет Советской власти. Но тогда агитационное искусство страстно защищало и прославляло рождение нового мира, новые идеи, человеческий разум, нового человека. «Психологический» же схематизм рапповцев, по существу, выступал против разума, против показа передовых людей, обладающих цельным характером и целеустремленным мировоззрением. Все это выразилось в произведении Либединского.
Главный герой романа старый большевик Степан Григорьевич Шорохов, работник центрального аппарата партии, был призван автором доказать, что сознание даже самых передовых людей нашего общества расколото на две вечно борющиеся половины – на стихийную и логическую. Прямо как по схеме Ермилова, снятой с романа «Наталья Тарпова», стихийное инстинктивное начало Шорохова воплотилось в образе его свояченицы, а логическое начало – в Эйднунене, заместителе Шорохова. В Любе и Эйднунене нет живых реальных черт. Герои Либединского рационалистичны, схематичны, заданны. Шорохов ненавидит своего помощника за то, что Эйднунен ко всему подходит логически строго, все вопросы решает только голым рассудком, ему всегда все ясно.
Вначале Люба вызывает в Шорохове сильное чувство, он женится на ней, она становится матерью. Но после долгих раздумий Шорохов понял, что свояченица принесла ему только страдания, он возненавидел ее и покинул. Либединский хотел доказать, что плох тот человек, который живет только разумом, но не менее плох и тот, кто живет одним чувственным, инстинктивным.
Либединский пытался разоблачить эйднуненщину, то есть внешне правильное, по всем законам предусмотренное, как бы советское отношение к окружающей действительности, а по существу бездушное, бюрократическое. Он также хотел разоблачить первозданный бытовизм, желание семейным уютом отгородиться от всего мира и жить только чувствами своего маленького мирка. Однако ему это не удалось. Все дело здесь в изображении главного героя. Шорохов видит в себе оба эти начала и мучительно пытается освободиться от них, чтобы приобрести новое качество, но так и уходит со страниц романа неопределившимся, внутренне раздвоенным, жалким. Описание душевных, интимных переживаний и мучительных противоречивых мыслей старого большевика и ответственного партработника составили содержание всего романа, действие которого, все-таки можно догадаться, происходит в очень ответственный для партии и страны 1924 год.
Несмотря на очевидный для всех идейно-творческий срыв писателя, рапповцы, как только началась критика романа в печати, ринулись защищать Либединского. На первом этапе эта защита выражалась в восторженных отзывах о романе. Отмечались лишь незначительные недостатки в произведении. Руководитель ЛАПП (Ленинградской ассоциации пролетарских писателей), член правления РАПП Еф. Добин в статье «Рождение героя» оценивает роман как «вещь очень талантливую, полную внутреннего, горячего пафоса, в отношении художественного мастерства, пожалуй, наиболее яркую и зрелую из всего созданного до сих пор Либединский». Дальше определяется место этого произведения «в процессе овладения пролетарской литературой диалектико-материалистическим методом и, в особенности, его диалектической стороной»: «Рождение героя» воплощает собой определенный этап»[286]. В своей речи на ленинградской конференции «За напостовское руководство РАПП» (май 1930 г.) А. Фадеев утверждал, что «Рождение героя» не выпадает из общего русла нашей пролетарской литературы. Этот роман – свидетельство большого художественного роста Либединского»[287].
Когда же вся советская печать, партийная в том числе, дала резко отрицательную оценку роману, а противники напостовцев стали обвинять Либединского в идеализме, бергсомиайстве и правом оппортунизме, рапповцы изменили тактику защиты автора «Рождения героя». Признавая серьезные ошибки в романе, Авербах на заседании секретариата РАПП от 18 июня 1930 года сказал: «Я давно работаю с Либединский и дорожу тем, что он один из моих больших друзей. Я заявляю совершенно определенно, что то, что делается по отношению к Либединскому, есть факт величайшего безобразия, который заслуживает осуждения со стороны всякого человека, которому дорого создание новых художественных кадров. Как-никак, Либединский – автор «Недели», автор «Комиссаров», один из преданных работников литературного пролетарского движения»[288]. В обращении секретариата «Ко всем членам РАПП» от 18 июня 1930 года Либединский представлен как жертва несправедливой травли со стороны представителей «блока», которые «забывают о том, что у нас не так много пролетарских писателей-коммунистов и что партия не может допустить вредного для дела пролетарской литературы затравливания одного из основных работников последней»[289]. В журнале «На литературном посту» (№ 10, 1930 г.) В. Киршон апеллирует к совести критикующих: «…обязанность каждого из нас бережно относиться к своим писателям и не позволять превращать необходимую товарищескую критику во враждебную травлю»[290], как это делается по отношению к автору «Рождения героя».
Как видим, очень спаянной, дружной, крепкой была напостовская группа, стоявшая в руководстве РАПП. Но во имя чего? Очень часто дружба напостовцев перерастала в чисто групповые приятельские отношения, и предавалось забвению главное – принципиальность в отношениях. Вместо того чтобы сразу же признать серьезные ошибки в «Рождении героя», рапповцы любую критику этого произведения встречали в штыки, со всеми, кто критиковал роман, решительно расходились и разругивались. Лишь позднее, под давлением всеобщего мнения, они признали в конце концов «Рождение героя» ошибочным произведением. Апелляция рапповцев к справедливости, человечности, гуманности тех, кто так резко критиковал Либединского, обвиняя его в бергсонианстве и правом оппортунизме, Не имела успеха. Эти качества надо было усвоить прежде всего самим рапповцам, чья дубинка, вплоть до ее устранения в 1932 году, колотила правого и виноватого с одинаковым бессердечьем. Кто мог серьезно поверить призыву рапповцев бережно относиться к писателю, если незадолго до этого призыва журнал «На литературном посту» похвалялся в своей передовой: «Мы вовсе не поставили в дальний угол нашу, столь популярную у наших противников, напостовскую дубинку. Она, к нашему великому удовольствию, всегда с нами»[291].
ГЛАВА 8
Курс на реализм сопровождался у рапповцев отрицанием романтического искусства. Это объясняется крайностями их теоретических поисков. У них была своя логика в отрицании романтизма, которая на том этапе казалась вполне убедительной, потому что рапповцы видели, что схематизм, которому они объявили войну, появлялся на романтической основе. Абстрактная лирика поэтов «Кузницы» носила явно романтический характер, и не кто иной, как первый поэт-напостовец А. Безыменский, обратился к «кузнецам» с призывом: «Давайте землю и живых людей!», а в стихотворении «О шапке» он продемонстрировал это в конкретной форме:
- Только тот наших дней не мельче,
- Только тот на нашем пути,
- Кто умеет за каждой мелочью
- Революцию Мировую найти[292].
В 1927 году на 6-й конференции МАПП Безыменский в докладе «О проблеме психологического углубления» уже выразил неудовлетворение первым этапом «показа живого человека». Нам «не терпелось показать его немедленно. Поэтому мы слишком обще его показывали». Дело не столько в том, что не терпелось, сколько в том, что не умели, не обладали достаточным опытом молодые поэты и писатели революции. Сам Безыменский в поэме «Петр Смородин» поставил задачей «показать одного, чтобы в нем говорили тысячи». Но поэту не удалось достигнуть в образе Петра Смородина воплощения характерных черт его поколения. Вот почему прав Безыменский, когда заявил в сбоем докладе, что новый этап «обязывает нас к углубленному индивидуализированию персонажей»[293], а этого возможно достичь, утверждали все напостовцы, только реалистическим методом.
Положение, высказанное Авербахом еще в 1927 году, что «реализм является такой литературной школой, которая более всего подходит к материалистическому художественному методу», было воспринято Фадеевым и развито в довольно стройную систему взглядов. Эти взгляды нашли наиболее полное выражение в речи Фадеева на пленуме РАПП в сентябре 1929 года, опубликованной под броским названием «Долой Шиллера!».
Опираясь на Плеханова, Фадеев делит по творческому методу всю литературу прошлого на два основных русла – на реалистическое и романтическое. Реалистическое русло соответствует в философии материализму, а романтическое – идеализму. «Мы различаем методы реализма и романтики как методы более или менее последовательных материализма и идеализма в художественном творчестве»[294]. Фадеев на примере творчества французских реалистов Стендаля, Бальзака, Золя, Мопассана обосновывает положение о том, что каждый из этих писателей был материалистом по мировоззрению. Они были материалисты-метафизики, а не диалектики, говорил он, но их отношение к миру и к своей работе достойно величайшего уважения, «они сумели разоблачить многие кажущиеся, поверхностные, ложные представления о действительности, стараясь вскрыть ее объективную закономерность»[295].
И напротив, «прямо противоположный метод творчества свойствен был, например, романтику революционной немецкой буржуазии – Шиллеру»[296].
Герои Шиллера Вильгельм Тель и Карл Моор, по Фадееву, лишь «на каждом шагу декламируют о свободе». Но стоит с них снять героические одежды и вдуматься в их декламации, «и перед вами вырастает фигура революционного немецкого лавочника, крики которого о свободе прикрывают основное для лавочника желание – свободы торговли»[297].
В творчестве немецкого романтика «буржуа» возвышает «и поэтизирует себя «мистифицирующей манерой изложения». В этом состоит художественный метод Шиллера»[298], определяемый Фадеевым как «идеалистический художественный метод».
Фадеев полностью отвергает романтический метод и заявляет, что передовой художник пролетариата не пойдет «по линии мистифицирования действительности», «по линии выдумывания героической личности, «как рупора духа времени», «по линии «нас возвышающего обмана»; он не пойдет по этим линиям потому, что «пролетариат не заинтересован в том, чтобы надевать на действительность маску, изобретать несуществующих «героев». Пролетариату незачем это делать, ибо он не собирается «навеки» закреплять свое господство, создать какую-то новую форму эксплуатации и угнетения, а ведет борьбу в интересах освобождения всего человечества от всех видов эксплуатации и угнетения»[299]. Именно поэтому он заинтересован в самом трезвом взгляде на действительность, в самом глубоком раскрытии ее закономерностей.
Реализм прошлого ближе нам, говорит Фадеев, но «в отличие от великих реалистов прошлого художник пролетариата будет видеть процесс развития общества и основные силы, движущие этим процессом и определяющие его развитие, т. е. он сможет и будет изображать рождение нового в старом, завтрашнего в сегодняшнем, борьбу и победу нового над старым. Но это значит, что такой художник больше, чем какой-либо художник в прошлом, будет не только объяснять мир, но сознательно служить делу изменения мира»[300].
Фадеев вступает в полемику с критиком Секкерской, отстаивавшей романтику. Этот спор, возникший в 1929 году, имеет особое значение. Через двадцать лет Фадеев окажется на позиции Секкерской и будет защищать романтику ее же доводами. А сейчас он решительно не согласен с ней: «Мы, видите ли, стоим за реализм, за изображение людей такими, «каковы они есть», а нам следовало бы прибавить еще и «романтики», т. е. изображать людей такими, какими они «должны быть», – иронизирует Фадеев. – Секкерская, к сожалению, понимает «романтику» не по Марксу, т. е. не как опоэтизирование и мистифицирование ложной, банальной и поверхностнейшей видимости вещей, а понимает «романтику» по-школьному, как понимали ее старые профессора-литераторы: реализм, дескать, – это когда дается то, что есть; романтизм – то, что «должно быть». Она берет эти вульгарные школьные определения и сначала механически противопоставляет их друг другу, а потом механически соединяет их, и ей кажется, что она производит их «диалектическое снятие»[301]. В ту пору Фадеев мыслил «пролетарский реализм» всемогущим методом, способным, без всякой помощи романтизма, раскрывать перспективу развития жизни, показать ее завтрашний день. Он был убежден, что «этот метод не нуждается ни в каких романтических примесях, наоборот, он в корне враждебен им»[302].
И дальше дается определение творческого метода советской литературы, которое и в наши дни признается рядом писателей и литературоведов единственно правильным применительно к социалистическому реализму: «Художник, овладевший этим методом, сможет давать явления жизни и человека в их сложности, изменении, развитии, «самодвижении», в свете большой и подлинной исторической перспективы, то есть в свете и того, что «должно быть». В этом смысле художник пролетариата будет не только самым трезвым реалистом, но и самым большим мечтателем: последнее вовсе не является привилегией романтики»[303].
Сейчас для нас очевидны слабые и сильные стороны в общем цельной, стройной системы фадеевских взглядов на реализм и романтизм прошлого и «пролетарский реализм». Борясь против вульгаризаторства в вопросах специфики искусства, Фадеев сам впал в эту ошибку при оценке реализма и романтизма прошлого. Стоило ему связать не только реакционный, но и революционный романтизм с идеализмом, как суровый приговор неумолимо прозвучал вопреки исторической истине, и появились на первый взгляд убедительные доводы и даже свидетельства классиков марксизма. Потом Фадеев пересмотрит свои взгляды на романтизм и посмеется над своей наивностью. Но в те годы отрицательное отношение к романтизму и романтике – тогда эти понятия не различались – было линией напостовской школы. В «Послесловии» к сборнику 1929 года «Творческие пути пролетарской литературы» от имени этой школы провозглашалось: «Мы выступаем под знаменем… реалистического искусства, разоблачающего там, где романтик надевает покровы, лакируя действительность»[304].
Однако, допуская вульгаризаторские ошибки в трактовке романтизма, Фадеев в этот период и в тех же работах очень близко подошел к пониманию творческого метода советской литературы, который в 1932 году будет определен как социалистический реализм. Основная черта социалистического реализма – изображение жизни в ее революционном развитии – получила первое и исчерпывающее толкование в работе Фадеева «Долой Шиллера!». Собственно, дальше этого толкования мы и не пошли: «…в отличие от великих реалистов прошлого, художник пролетариата будет видеть процесс развития общества и основные силы, движущие этим процессом и определяющие его развитие, то есть он сможет и будет изображать рождение нового в старом, завтрашнего в сегодняшнем, борьбу и победу нового над старым»[305].
ГЛАВА 9
Резко отрицательное отношение рапповцев к романтизму вообще, к творчеству революционных романтиков в особенности вызвало острую полемику. Впрочем, к 1930 году так сложились отношения рапповцев со всеми другими группами и течениями в литературе и искусстве, что любое рапповское начинание, даже бесспорно плодотворное, подвергалось сомнению и критике. И прежде всего критике подвергались основы творческой платформы РАПП, хотя в ней наряду с серьезными ошибками содержались правильные положения, вошедшие в теорию социалистического реализма. Правда, художественная платформа РАПП так и не была завершена. Ее проект был составлен Ю. Либединским еще в конце 1926 года. Но напостовцы не решились его опубликовать, так как этот проект был слишком запсихологизирован «непосредственными впечатлениями». Было принято решение открыть дискуссию по творческим вопросам и на первом съезде пролетарских писателей выступить с развернутой платформой.
Однако, начиная доклад на съезде, Либединский оговорился: «Когда мы подошли к вопросу о новой платформе, мы сразу убедились, что этот вопрос настолько сложен, что ставить его на съезде в развернутой форме еще нельзя»[306].
В декабре 1928 года (через полгода после съезда) на заседании секретариата РАПП специально был поставлен вопрос «О выработке художественной платформы». Л. Авербах информировал о том, «что выработка платформы пока еще не велась, разрабатывали этот вопрос и писали о нем всего три человека: Фадеев, Либединский и Авербах»[307]. Было принято развернутое решение: «1. Рассмотреть вопрос на апрельском пленуме РАПП; 2. Обязать всех коммунистов принять участие в этом вопросе; 3. Обязать т. Гроссмана-Рощина и Ермилова написать популярную брошюру о том, зачем мы создаем платформу и что мы должны о ней сказать»[308]. Но это постановление не было выполнено. Пленум РАПП состоялся не в апреле, а в сентябре 1929 года и по другим вопросам. Популярная брошюра не была написана. Это постановление подтвердило очевидную истину, что художественная платформа не может быть создана в приказном порядке. В июне 1930 года Авербах вновь заявил на секретариате РАПП, что художественная платформа совершенно не разрабатывается. Однако это заявление не соответствовало истине. Конечно, платформа не появлялась как документ, который так хотел иметь генеральный секретарь РАПП. По существу же рапповцы, начиная с 1927 года, последовательно и настойчиво проводили определенную линию в вопросах художественного творчества. Они взяли курс на реализм, так как, по их убеждению, только реалистическая школа соответствует материалистическому мировоззрению пролетариата. Попытки применить марксизм к области искусства привели их к выводу, что творческим методом пролетарской литературы может быть только диалектико-материалистической метод, способный раскрыть всю правду жизни, все ее противоречия, что соответствует коренным интересам пролетариата. Чтобы постичь эту правду, из реализма прошлого были взяты на вооружение такие качества и принципы, которыми реалисты прошлого добивались наибольших результатов: «углубленный психологизм» и «срывание всех и всяческих масок с действительности». Учеба у Льва Толстого и у других великих реалистов была объявлена обязательной для каждого пролетарского писателя. С «углубленным психологизмом» встал вопрос о соотношении сознательного и бессознательного в творческом процессе. Появилась теория «непосредственных впечатлений». Из всего этого возникла как «проблема всех проблем» задача показать «живого человека» в художественной литературе, ибо, как правильно думали рапповцы, все теории нужны лишь для того, чтобы повышался уровень художественного творчества.
В связи с проповедью трезвого, беспощадного реализма и лозунгом «показа живого человека» был отвергнут романтический метод, по мнению рапповцев, призванный лишь «лакировать действительность», «скрывать истинную сущность вещей».
Эта система взглядов, проводившаяся и отстаивавшаяся ряд лет, была не чем иным, как художественной платформой РАПП, которая имела свои положительные результаты. Борьба за идейное, правдивое, реалистическое искусство, за высокое художественное мастерство приносила свои плоды. Творчество М Шолохова, А. Фадеева, Ф. Панферова, А. Караваевой, С. Семенова, Ю. Либединского, М. Чумандрина, В. Киршона, А. Афиногенова, Н. Погодина, В. Ставского, В. Ильенкова, В. Саянова, М. Исаковского – писателей-рапповцев – развивалось в атмосфере общего одобрения и ориентации на реализм. Вся советская литература шла вперед (хотя в основе ее прогресса имелись более глубокие причины) не без влияния основных тенденций пролетарской литературы. Теоретические проблемы, выдвигаемые рапповцами, становились предметом суждений и споров всей творческой и научной общественности страны, что уж само по себе содействовало развитию теоретической мысли. К тому же некоторые положения рапповцев оказались плодотворными, обогатили советское литературоведение и легли в основу теории социалистического реализма.
Однако именно плодотворных результатов рапповцами достигнуто мало. Сколько было шуму, сколько выпущено книг, брошюр, сколько конференций, пленумов, совещаний посвящено творческим вопросам, а в конце концов результаты оказались скромными. Чтобы это объяснить, надо указать на несколько причин.
Руководители РАПП были молодыми людьми с большими претензиями, но теоретически незрелыми, не подготовленными. Они брались за разрешение самых сложных философско-теоретических проблем и полагали, что только им дано истолковать их правильно и двинуть вперед в свете задач пролетариата, в то время как достаточной теоретической базы у них не было. Они цитировали Гегеля, Белинского, Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, но основательно не изучили ни одного из этих великих мыслителей.
Фадеев ознакомился с введением к эстетике Гегеля лишь в 1935 году и, «получив истинное наслаждение», поразился, как в 20-е годы самостоятельно они так близко добирались до истины, то есть занимались «открытием Америки». Рапповцы доказывали свои истины, опираясь на тенденциозно подобранные высказывания классиков марксизма. А их противники опровергали рапповские истины, подобрав совершенно противоположные по смыслу высказывания тех же классиков марксизма.
Из письма Фадеева Либединскому от 15 января 1930 года видно, каким «научным» методом пользовались рапповские теоретики при подготовке своих докладов: «Мне придется недели через две делать в АПО ЦК доклад о художественном методе. Ясно, что я не смогу прочесть весь тот материал, какой бы следовало, чтобы научно обосновать ряд вопросов – в частности, все, что касается «непосредственных впечатлений». Очень прошу тебя, как можно скорее, написать мне точные указания страниц из поедисловия Деборина к Гегелю, из Ленинского сборника (IX), из других проработанных тобою материалов, – где бы я мог найти наиболее интересные, хотя бы и косвенные формулировки на этот счет, чтобы их цитировать в докладе. Именно указание страниц (или просто выписанные цитаты), а не самые работы – прочесть их целиком я все равно не успею»[309] (подчеркнуто А. Фадеевым. – С. Ш.).
Теоретикам РАПП не хватало подчас элементарных знаний даже в области литературы, а судили они обо всем с апломбом. Так,
B. Ермилов в своей книге «За живого человека в литературе» со спокойной совестью называет Киплинга «американцем», «поэтом американской буржуазии»[310].
Противники использовали проявления невежества рапповских теоретиков и с удовольствием предавали их всеобщему осмеянию. Так, представитель «Перевала» А. Лежнев в рецензии на указанную нами книгу В. Ермилова пишет: «Тщетно бы вы стали доказывать Ермилову, что Киплинг – не американец, а англичанин… Кофейная гуща и собственный большой палец пребывают единственными источниками вдохновения и учености Ермилова. Вот он берется писать исследование о фельетоне. Он ошарашивает нас едва ли не с первой страницы. «Как известно, у французов понятие «фельетон» означает «шевеление пустяков» (стр. 153). Мы поставлены в тупик. «Как известно», фельетон в буквальном смысле означает «листок»… В книге Ермилова 311 страниц и на каждой попадается какой-нибудь перл»[311].
Конечно, эти и им подобные «перлы» снижали авторитет руководителей столь высокой организации.
В 20-е годы было распространенным мнение, что Плеханов является единственным марксистом, давшим цельную теорию искусства. Ленинские взгляды на искусство и литературу теоретиками РАПП, да и не только ими, недооценивались. Поэтому ленинское учение в целом еще не было положено в основу формирующегося советского литературоведения. Известный деятель литературы 20-х годов Вячеслав Полонский писал в своих «Очерках литературного движения революционной эпохи» следующее: «Правильно изложить взгляды В. И. Ленина на искусство, литературу и культуру нелегко. В. И. Ленин редко с обстоятельностью высказывался по этим вопросам. Они находились на периферии его внимания, хотя, как мы увидим, он не оставался равнодушным ни к литературе, ни к искусству. Из огромного литературного наследства В. И. Ленина художественной литературе непосредственно посвящены лишь четыре небольших статьи о Л. Н. Толстом. Косвенно касаются литературы заметка о Герцене и статья «Партийная организация и партийная литература». Даже отдельные высказывания Ленина об искусстве и литературе в его обширной переписке скудны: так захвачено было его сознание основными проблемами борьбы, что не оставалось ни времени, ни интереса для литературы и искусства»[312].
Так глубоко заблуждался не один Полонский. Рапповцы думали так же. Плеханов же был абсолютным авторитетом в кругах советских литературоведов самых различных направлений. Воронский называл его «лучшим среди марксистов искусствоведом»[313]. Рапповцы бросили лозунг: «Наша критика будет развиваться под знаменем плехановской ортодоксии в вопросах литературоведения»[314]. Это было провозглашено в 1929 году. Но все их теоретические выступления до этого и после, вплоть до 1931 года, базировались на «плехановской ортодоксии». Впервые Авербах призвал пересмотреть Плеханова «с точки зрения Ленина»[315] лишь в 1931 году.
Нет надобности здесь излагать общеизвестные истины о выдающихся заслугах г. В. Плеханова в области марксистской эстетики. Философские труды Плеханова стали достоянием вузовского обучения, что явилось исполнением одного из заветов Ленина: «…нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучать – именно изучать – все, написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма»[316].
Беда рапповцев заключалась в том, что они брали из Плеханова все, не учитывали критические высказывания В. И. Ленина о его трудах, потому что ленинское наследие считали «косвенно касающимся литературы». Не познав ленинской теории отражения, рапповцы допускали идеализм в трактовке художественного творчества и, как и Плеханов, полагали, что понятие красоты связано только с областью инстинкта. Не придав значения статье Ленина «Партийная организация и партийная литература», они по-плехановски рассуждали о классовости искусства, так же, как Плеханов, не понимая самой сути пролетарского революционного искусства – его партийности. Не изучив ленинских документов о пролетарской культуре и путях ее развития, они допускали ошибки в вопросах культурной революции и в вопросах создания новой, социалистической литературы. Наконец, невнимание к ленинскому наследию привело их к неправильной оценке Горького, которого Ленин еще задолго до Октябрьской революции назвал «крупнейшим представителем пролетарского искусства» и повторял эту мысль многократно.
Трудности в разработке художественной платформы возникали еще и оттого, что рапповцы не шли на объединение и товарищеское сотрудничество с другими коммунистическими отрядами теоретического фронта. И скорее не те, а они, рапповцы, являлись причиной разобщенности научных сил. Своих противников и врагов пролетарской литературы, посягавших на «генеральную линию РАПП», они видели всюду. В письме к Авербаху от 13 ноября 1928 года А. М. Горький с огорчением констатировал: «Ваше поколение уже – в «бытии», под вами довольно солидная почва – партия, возглавляющая лучшую часть рабочего класса, партия, в руках которой – политическая власть. Сами вы – тоже партийцы, значит – у вас есть совершенно ясная линия объединения. Но – почему же нет единения, почему мне со стороны кажется, что шум разноречий ваших вызван причинами недостаточно серьезными, мелкими.
Я понимаю, что «выпрямление идеологической линии» – чем вы все занимаетесь, – совершенно необходимо, что эта задача «стратегии», борьбы. Но мне кажется, что вы все слишком угрязли в словесности, слишком торопитесь стать «спецами», что в среде вашей на почве этой торопливости, – незаметно для вас растет профессиональный индивидуализм и что групповые разногласия ваши действуют на товарищеские отношения разрушительно…»[317].
Мудрая горьковская критика не имела успеха, не изменила нрав рапповцев. Групповые разногласия продолжали свое разрушительное действие. Правда, сам Горький оправдывает постоянное стремление рапповцев к «выправлению идеологической линии». Видимо, это имело под собой реальную почву. В советском обществе и во второй половине 20-х годов не утихала классовая борьба, особо обострившаяся в начале коллективизации, в связи с ликвидацией кулачества как класса. В самой партии шла напряженная политическая борьба со всевозможными антипартийными течениями. Рапповцы, в большинстве своем коммунисты, не могли быть безразличными к тому, что происходило в обществе и в партии. Их реакцией на политические события в стране можно объяснить и недоверчивое, а чаще враждебное отношение ко всему, что, по их мнению, искажало «генеральную линию РАПП».
Но беда состояла в том, что рапповцы, считая себя единственным и непогрешимым пролетарским отрядом в литературе, не понимали, что они руководят не политической, а творческой организацией. Несмотря на то что ЦК партии, его отделы, партийная печать неоднократно указывали руководителям РАПП на то, чтобы они не переносили формы партийной организации и методы политической борьбы на литературную писательскую организацию, и вопреки также потому, что сами рапповцы во многих резолюциях и постановлениях фиксировали это указание партии, – они до момента ликвидации РАПП так и не смогли усвоить эту простую и очень важную истину. Наоборот, в каждом конкретном случае они решительно не соглашались с этой истиной.
Так, передовая журнала «На литературном посту» (№ 11–12 за 1929 г.) поучает, выговаривая, «Правду»: «Несомненным недосмотром является в № 116 «Правды» редакционное примечание к письму Д. Горбова: «…редакция «Правды» вообще считает неправильным и недопустимым переносить характеристики из области литературных споров и на основании литературных материалов в область политическую и партийную»…Такой взгляд, конечно, не может быть принят нами как подлинный взгляд редакции центрального партийного органа»[318]. Не принимая такой взгляд и все время подчеркивая свою стопроцентную пролетарскую выдержанность и кристальную партийную чистоту, рапповцы поучали всех. Вот как зло и метко высмеивает комчванство руководителей РАПП Вяч. Полонский в журнале «Новый мир» (№ 8–9 за 1929 г.): «В свете такого непонимания предмета, о котором Авербах спорит, особенно забавны претенциозно-чванливые заявления нашего автора: «А между тем мы (Мы! – то есть, очевидно, они – Л. Авербах, М. Лузгин и В. Ермилов) переделываем сознание не только мелкобуржуазных элементов, но и самого пролетариата» (курсив мой. – Вяч. П.). Они – Авербах, Лузгин, Ермилов переделывают сознание пролетариата! Бедный пролетариат! Дожил! Доехал! Дальше некуда!…в процессе классовой борьбы пролетариат перевоспитывает сам себя, а вместе с собой и тех мелкобуржуазных интеллигентов, которые, примостившись где-нибудь «На литературном посту», принимают кокетливо-горделивые позы «перевоспитателей» пролетарских масс, не сознавая горестного комизма своей учительской позы»[319].
Нет, не осознавали. Всем непокорным, кто не соглашался с «генеральной линией РАПП», они наклеивали ярлыки «оппортунистов», «врагов пролетарской литературы», «классовых врагов», и к концу существования на счету у рапповцев оказалось столько побежденных и разгромленных противников, что за одно дыхание их трудно и перечислить. В постановлении секретариата ВОАПП (декабрь 1931 г.) констатируется: «Проводя в жизнь указания партии, ВОАПП в основное (почему «в основном», мы позже выясним. – С. Ш.) успешно боролась против троцкизма, воронщины, переверзевщины, меньшевиствующего идеализма, деборинщины, лефовщины, литфронтовщины, против правой опасности, как главной, и левого вульгаризаторства, против великодержавного шовинизма и местного национализма, против всех видов гнилого либерализма и примиренчества к буржуазным антимарксистским теориям, против искажения ленинской партийности в литературе и ленинского понимания культурной революции»[320].
В борьбе на идеологическом фронте, которую проводила партия в 20-е годы, имелись заслуги и РАПП, но куда более скромные, чем афишировали ее руководители. В 1932 году, когда была ликвидирована РАПП И началась критическая оценка всей ее деятельности, выяснилось, что «вожди» и теоретики пролетарской литературной организации повинны чуть ли не во всех грехах, перечисленных как достижения в этом постановлении секретариата ВОАПП.
Таким образом, рапповцы, возомнив себя единственно правоверными теоретиками пролетарской литературы, все пытались решить своими силами и на каждом шагу серьезно заблуждались. Они отвергали сотрудничество с другими советскими отрядами теоретического фронта, будто бы из-за коренных разногласий, в то время как «шум разногласий» между ними был «вызван причинами недостаточно серьезными, мелкими», и эти «групповые разногласия действовали на товарищеские отношения разрушительно» (М. Горький). В этом, может быть, и кроется главная причина столь скромных достижений рапповцев в разработке художественной платформы. В самом деле, кроме напостовской группы к 1930 году сложились и оформились другие плодотворно работавшие в области искусства группы советских теоретиков. Группа «Перевал» возглавлялась А. Воронским, Д. Горбовым, А. Лежневым и В. Правдухиным. При всех их заблуждениях это были честные советские люди, хотевшие добра нашей литературе и как исследователи искусства сделавшие в этом деле не меньше рапповцев. В группе Лефа (Рефа), возглавляемой Маяковским, были свои плодотворные начинания, в особенности в вопросах новаторства искусства. При всей крикливой и опасной левизне они искренне боролись за новое искусство и постепенно освобождались от крайних заблуждений. Рапповцам особенно следовало прислушиваться к голосу Маяковского. Группу конструктивистов как критик и теоретик литературы представлял Корнелий Зелинский, уже тогда сделавший ряд глубоких и плодотворных выступлений по вопросам творчества.
К 1930 году вышла на арену идеологической борьбы плеяда молодых теоретиков-марксистов, воспитанная в таких научных заведениях страны, как Комакадемия, РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук) и др. Прошедшие серьезную теоретическую подготовку, хотя и не без влияния авторитетных в 20-е годы вульгаризаторских школ В. Ф. Переверзева, А. М. Деборина, В. М. Фриче, молодые советские ученые считали своим долгом отстаивать и развивать марксизм в области искусства. Особую активность проявляли И. Беспалов, М. Гельфанд, И. Нусинов, С. Щукин, П. Рожков, а затем И. Анисимов, М. Храпченко, В. Кирпотин, П. Юдин, М. Митин, Н. Бельчиков, А. Ревякин и другие. Но рапповцы не сумели найти с ними общий язык и именовали их иронически, не иначе как «немецкими приват-доцентами», прозрачно намекая на их будто бы полную оторванность от реальной жизни.
В Ленинграде находилась активно работавшая в литературе группа во главе с Г. Горбачевым, критиком и молодым профессором университета. Г. Горбачев, А. Камегулов, А. Горелов выступали с резкой и небезосновательной критикой художественной платформы РАПП. В 1929 году выпустил в свет свою книгу «Стиль современной литературы» ленинградец В. П. Друзин. Эта книга не утратила своей свежести и для нашего времени. Но рапповцы обвинили автора в формализме и исключили его из РАПП, как впоследствии и группу Г. Горбачева.
Указанные выше причины – научно-теоретическая незрелость рапповцев, недооценка ими ленинского учения, их групповая замкнутость и оторванность от других плодотворно работавших в области искусства советских литературоведческих отрядов – все это не только отрицательно сказывалось на разработке художественной платформы РАПП, но и сильно тормозило общее развитие эстетической мысли в стране. Ведь РАПП была признана основным проводником политики партии в области литературы, объединяла тысячи молодых, из народа вышедших писателей – надежду советской литературы. Ее художественная платформа призвана была сориентировать всю советскую литературу, определить ее творческие пути. Вот почему состояние дел в РАПП не могло не вызывать постоянного и озабоченного внимания партии, ее органов, ее печати. Вот почему все честные советские исследователи, особенно те коммунисты, с которыми не считались рапповцы, видели свой долг в том, чтобы помочь партии выправить положение дел в самой массовой ведущей литературной организации страны.
1930 год явился первым серьезным годом испытаний для РАПП, прежде всего проверки ее идейно-творческих, теоретических основ. В это время в стране происходят серьезные экономические и социальные изменения. Страна становится индустриальной, сельское хозяйство переходит на коллективные, социалистические рельсы. Культурная революция получила небывалый размах. В обществе зарождается и крепнет морально-политическое единство. Социализм наступал по всему фронту. Именно на этой основе, в ходе строительства социализма произошло идейно-политическое единение всех слоев художественной интеллигенции.
Художественная интеллигенция, тонко чувствующая и быстро реагирующая на социально-экономические и политические изменения советского общества, к началу 30-х годов раз и навсегда ответила в пользу социализма на вопрос А. М. Горького: «С кем вы, мастера культуры?» В ее среде уже не было тех классовых расслоений, классовых антагонизмов, которые еще продолжали действовать в других слоях общества, и прежде всего среди крестьянства. Абсолютное большинство писателей-попутчиков доказало своим творчеством не только лояльность по отношению к Советской власти, но и полную поддержку всех ее грандиозных преобразований. И здесь надо искать главный просчет рапповцев. Они видели проявление и обострение классовой борьбы в среде художественной интеллигенции. Но из множества имен писателей, которые ими несправедливо причислялись к разряду буржуазных и третировались как классовые враги, могли быть по тем временам отнесены туда лишь такие имена, как Б. Пильняк, Е. Замятин. Но ведь против этих писателей, когда они опубликовали свои антисоветские произведения за границей, поднялись в гневном протесте все советские литераторы, в том числе и те, которых рапповцы относили в разряд буржуазных. Если упомянуть при этом тот факт, что на Первом съезде советских писателей в 1934 году Борис Пильняк был избран членом правления союза, то можно себе представить размеры того вреда и глубину тех душевных ран, которые рапповцы наносили советской литературе и честным, с открытыми сердцами шедшим к нам советским писателям.
Такое же идейное единение, как и в среде писателей, было между критиками, теоретиками литературы. А. Воронский и П. Лебедев-Полянский, В. Ермилов и К. Зелинский, И. Беспалов и В. Перцов, И. Анисимов и В. Полонский, В. Друзин и В. Переверзев, А. Ревякин и М. Храпченко – при всем различии и оттенках в их подходе к искусству – в главном, в основном, определяющем являлись единомышленниками, были по духу советскими людьми и так страстно отстаивали свои позиции только и исключительно потому, что считали их правильными и полезными для советской литературы. Многие из них честно признавали свои ошибки и продолжали плодотворную деятельность. Да, ошибок допущено много, но это было время поисков правильных путей, и мы сейчас не можем назвать ни одного деятеля литературы 20-х годов, кто бы избежал тех или иных заблуждений.
Как было сказано, в 1930 году рапповское руководство имело первое серьезное испытание. И оно его не выдержало. Со всей очевидностью это подтвердили дискуссии, бурно прошедшие в тридцатом году по основам художественной платформы РАПП. После этих дискуссий напостовская школа уже не внесла ничего нового в область теории искусства, кроме неразумных лозунгов: «За большое искусство большевизма», «За Магнитострой литературы», «Одемьянивание литературы», которые только убеждали всех в бесплодности руководителей и теоретиков этой школы. В организационно-тактическом и политическом отношении, начиная с 1930 года, руководством РАПП были допущены самые серьезные ошибки, выразившиеся в лозунгах: «Ударник – центральная фигура литературы», «Союзник или враг», «Орабочивание РАПП».
Так как выработка художественной платформы связана со всей остальной деятельностью РАПП и так как дискуссии 1930 года касались всего организма РАПП, следует вернуться к первым шагам авербаховского руководства и выяснить, что же было осуществлено этим руководством к тридцатому году в других областях. И уж затем остановиться на дискуссиях.
ГЛАВА 10
Вскоре после резолюции ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года возникла идея об объединении всех революционных писателей страны. 14 июля 1925 года в журнале «Октябрь» было оглашено воззвание от имени федерирующихся литературных организаций: Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, Всероссийского союза крестьянских писателей и Литературного центра конструктивистов о целях федерации, а 22 июля в «Известиях» опубликовано обращение «От Федерации советских писателей», в котором призывались все литературные организации и отдельные писатели, разделяющие решение ЦК РКП(б), вступить в федерацию. Однако до января 1927 года ничего сделано не было. Эта затяжка с созданием федерации объясняется следующими причинами. Непосредственная инициатива в объединении советских писателей принадлежала Отделу печати ЦК РКП(б). Осуществить эту инициативу было поручено ВАПП. Но после обращения от трех федерирующихся литературных организаций к писателям дело застопорилось. Левое меньшинство ВАПП (Г. Лелевич, Ил. Вардин, С. Родов и А. Безыменский), стоявшее еще у руководства, упорно сопротивлялось объединению. Чрезвычайная конференция ВАПП в феврале 1926 года решительно осудила позицию «левых» за «боязнь расширения организованной ВАПП Федерации советских писателей и ошибочное понимание роли ВАПП как своеобразной литературной партии»[321]. Только на ноябрьском пленуме в 1926 году была изгнана из руководства группа «левых». Но Л. Авербах, возглавивший новое правление ВАПП, в своем журнале «На литературном посту», по существу, поддерживал позицию «левых» в отношении к попутчикам. Хотя он и писал в передовой первого номера журнала: «С «левыми», вчера ликвидированными в среде пролетарских писателей, мы будем бороться так же, как и с правыми врагами пролетарской литературы»[322], – главный же огонь он открыл против Воронского и писателей, выступавших в «Красной нови». В статье «Опять о Воронском», извратив правильные положения статьи «То, чего нет в нашей литературе», Авербах призывал: «Воронский Карфаген обязательно должен быть разрушен»[323]. Чтобы обосновать нападки на Воронского, Авербах во втором номере своего журнала публикует обзор «Лицо наших журналов». Автор этого обзора профессор Н. Н. Фатов – удивительно бездарная, но обладавшая способностью лавировать личность в литературе – «глубокомысленно», с претензией на оригинальность информировал пролетарских писателей: «Красная новь» – наиболее старый и солидный из наших больших журналов – по-прежнему не дает ничего особо красного и ничего особо нового. Та же преимущественная ориентация на попутчиков и сменовеховцев: те же Б. Пильняк, В. Иванов, М. Горький, С. Клычков, П. Орешин, А. Толстой… Сильно разочаровывают отрывки из нового большого романа М. Горького «Дело Артамоновых»… – Нет «изюминки», нет умения дать тот материал, который ответил бы нашим запросам. Да и со стороны чисто художественной роман М. Горького значительно ниже его недавно столь порадовавших нас воспоминаний… Не увлекает и начало романа М. Пришвина «Юность Алпатова»… Чем-то нудным, надуманным отдает и «исторический роман» А. Чапыгина «Разин Степан»… От этих больших и не оконченных еще «эпопей» невольно отдыхаешь на рассказах, и в первую очередь – на Пант. Романове»[324].
Подобная позиция теоретического журнала напостовцев не могла способствовать объединению советских писателей и шла вразрез с резолюцией ЦК РКП(б). В связи с такой позицией Авербаха и по вопросам о создании федерации возникла дискуссия. Воронский в «Красной нови» выступил со статьями «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (№ 5 за г.), «О Федерации советских писателей» (№ 4 за г.) и «Об ужасной крокодиле, о федерации писателей и фальшивых фразах (открытое письмо тов. Гусеву)» (№ 6 за 1927 г.). В них он с предельной четкостью выразил свое отношение к Авербаху и к идее создания Федерации советских писателей.
Статья «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (так называется один из романов Г. Уэллса) – это гневный памфлет на Авербаха, извратившего статью Воронского «То, чего нет в нашей литературе». Это единственное в таком роде выступление Воронского. А. М. Горький в письме к автору от 24 июля 1926 года писал о нем: «Разрешите отметить, что Вам очень удается тон, который Вы взяли в статье «Мистер Бритлинг» и т. д. Не пренебрегайте этим тоном еще и потому, что он очень своевременен»[325]. Воронскому этот тон дался нелегко: он действительно выпил чашу до дна, чашу негодования, презрения к той нечестной, предательской тактике, которую применил Авербах в борьбе с ним. «Что же означают в таком контексте слова, мною написанные: «Писателю нужно затосковать по большим и всечеловеческим идеалам нашего века»? О чем идет речь? – с возмущением спрашивал Воронский и отвечал: – О коммунизме идет речь и ни о чем ином. Являясь идеалом рабочего класса, современный коммунизм освобождает все человеческое общество, в этом смысле коммунизм всечеловечен. Зазорно разъяснять эти общие места, но приходится, ибо, прочитав слово «общечеловечный», вы, несравненный публицист, пришли, что называется, в раж: позвольте, это же надклассовая критика, надклассовая культура и т. д…Вы – хитрый, Катон. Дай, мол, изобличу в измене коммунизму, авось сгоряча пройдет, особенно теперь, когда в жизни партии так много сложного»[326]. Да, Воронский пил чашу до дна: «Почему об Авербахе и его сочинениях? – спрашивал он и впервые со всей решительностью и вызовом заявил: – Мелкотравчаты и убоги его наскоки, скучно рыться во всех этих измышлениях и благоглупостях. Но, во-первых, Авербах – не случайность. Он из молодых да ранний. Нам примелькались уже эти фигуры вострых, преуспевающих, всюду поспешающих, неугомонных юношей, самоуверенных и самонадеянных до самозабвения, ни в чем не сомневающихся, никогда не ошибающихся. Разумеется, они клянутся ленинизмом, разумеется, они ни на йоту никогда не отступают от тезисов. В нашей сложной, пестрой жизни их вострота подчас принимает поистине зловещий оттенок… Одно они усвоили твердо: клевещи, от клеветы всегда что-нибудь да останется.
Это во-первых.
Во-вторых. Как-никак Авербахи говорят от имени пролетарской литературы»[327].
Этого выступления Авербах простить уже никак не мог.
Он действительно сделал все, чтобы «Воронский Карфаген был разрушен». Но об этом позже.
Статьи Воронского 1927 года были посвящены непосредственно принципам создания Федерации советских писателей. То, что отстаивал Воронский, соответствовало духу резолюции ЦК РКП(б) и могло в подлинном смысле объединить честных советских писателей. Он выдвинул принцип равноправия федерирующихся советских писателей и протестовал против «попыток командовать со стороны ВАПП». Эти попытки командовать могут на корню убить очень важное начинание. В федерации должна быть атмосфера товарищеского взаимопонимания и уважения. Нет, он прекрасно учитывал обстановку в литературе 1927 года. «Основные задачи федерации, надо полагать, – писал Воронский, – сводятся к тому, чтобы установить более крепкую и органическую спайку между пролетарскими писателями и наиболее революционным крылом так называемых попутчиков, привлечь колеблющихся и дать решительный отпор антисоветским настроениям, поскольку они просачиваются в нашу литературу»[328]. Он стоял за «четкую, последовательную линию поведения»[329], за руководящую роль всех объединенных в федерации коммунистических сил. Но он со всей категоричностью заявил: «Ведь нужно же понять сейчас, в 1927 году, что на культурном, тем более на художественном фронте насильно мил не будешь; надо же, в конце концов, усвоить ту элементарную истину, что на 10-й год существования Республики Советов мы, черт возьми, не так уж бессильны, чтобы прибегать к методам командования, что задача заключается в культурном, советски-общественном воздействии на писателя, в создании соответствующей дружеской и товарищеской среды, наряду, разумеется, с четкой последовательной линией поведения»[330].
Горький полностью разделял позиции Воронского и был решительным противником методов командования в литературе, выдаваемых от имени пролетариата. В одном из писем (1926 г.) Ф. Гладков спрашивал Горького, полностью ли он на стороне пролетарских писателей. Алексей Максимович ответил: «Вы спрашиваете: «Вполне ли я с вами?» Я не могу быть «вполне» с людьми, которые обращают классовую истину в кастовую, я никогда не буду «вполне» с людьми, которые говорят: «Мы, пролетарии», с тем же чувством, как, бывало, другие люди говорили: «Мы, дворяне». Я уже не вижу в России «пролетариев», а вижу – в лице рабочих – настоящих хозяев русской земли и учителей всех жителей ее. Первое пора уже понять и пора этим гордиться, а второе требует осторожного обращения со всяким человеком, дабы «всякий человек» не имел права сказать, что рабочий не организатор и руководитель новой жизни, а такой же тиран, как всякий иной диктатор, да и глуп также»[331].
Эти глубочайшие по смыслу слова, имевшие широкое значение, относились непосредственно к руководителям пролетарской литературы.
Маяковский, так же как Воронский, стоял за равноправное положение писателей в федерации. И вообще он «уже в конце 1928 г. относился к наличию всяких литературно-художественных группировок отрицательно. «Девальвация» их (выражение В. Перцова) ему была ясна»[332].
В январе 1926 года Ф. Гладков высказал соображение, которое полностью отражало убеждение Воронского. «Для меня, – писал Гладков А. М. Горькому, – наша теперешняя литература – едина. При видоизменившихся формах классовой борьбы нет ни буржуазной, ни чисто пролетарской литературы. Есть революционная литература, внутри которой совершается напряженная молекулярная творческая работа, происходит непрерывный процесс творческого взаимодействия и соревнования, создается новый писатель, ищущий новых творческих путей. Это надо, наконец, признать и громко сказать вслух»[333].
В этом же духе высказался В. Полонский в статье «На пути к единому литературному фронту», опубликованной в журнале «Печать и революция» (№ 1 за 1927 г.).
Однако разумные принципы, выдвинутые Воронским для основания федерации, не были полностью осуществлены. Позиция же Авербаха в строительстве федерации была признана в основном правильной. Эта позиция сводилась к следующему: продолжать борьбу с группой Лелевича как сектантской группой, выступившей вообще против любого объединения с попутчиками, а с другой стороны, объявить борьбу настроениям тех попутчиков, которые утверждают, что «Федерация приведет в будущем к слиянию в одну организацию всех объединений»[334]. Передовая статья журнала «На литературном посту» (№ 20 за 1927 г.) решительно отвергает подобные настроения и директивно разъясняет: «Федерация советских писателей никак не может означать установление такого мира в писательской среде, при котором будут зачеркнуты социальные знаки, характеризующие творчество отдельных писателей, писательские союзы в целом, – такого положения, при котором мог бы затушевываться объективно-политический смысл наших литературных организаций. Вот почему политика стирания разногласий, затушевывания острых углов, замазывания расхождений – не есть политика, которая нужна федерации»[335].
Такова была позиция Авербаха – типичная центристская позиция, точнее, позиция лавирования. И это в равной степени понимали как Воронский, так и Лелевич. Последний сказал не без сарказма: «Да, барометрейший тов. Авербах, мы только развивали ваши вчерашние мысли!»[336]. Но этого не понимали новые руководители ВАПП, в том числе и Фадеев. Им казалась эта позиция мудрой и правильной: она в общем отвечала резолюции ЦК и сохраняла главенствующее положение ВАПП в федерации. А это, по убеждению молодых руководителей, было очень важным, потому что, как скажет потом Фадеев, у этой молодежи существовало «неосознанное представление, что только писатели РАПП (да и то не все) являются, в сущности, подлинными создателями революционной и социалистической литературы»[337]. Имея это «неосознанное представление», они вполне убежденно будут отстаивать и распространять «революционные» идеи Авербаха: «Наше искусство – это революция в области искусства; наше искусство, большое искусство большевизма – вот это наше искусство и будет гигантским скачком, переворотом в художественном развитии человечества»[338]. Или еще определеннее: «Рабочий класс по-настоящему и действительно совершит в художественном развитии человечества шаг вперед только тогда, когда революция будет произведена и в самой литературе»[339]. Все это произносилось не в начале 20-х годов, хотя тогда это тоже произносилось, но было объяснимо, а в начале 30-х и с трибун авторитетных конференций.
В атмосфере недоверия к попутчикам, не способным, по убеждению рапповцев, создавать революционную социалистическую литературу, и начала свою деятельность федерация. Советские писатели пошли в федерацию, потому что они верили в мудрую политику партии, и многие из них поняли смысл резолюции ЦК РКП(б) более правильно, чем вожди пролетарского литературного движения.
Лишь через полтора года после обращения о создании федерации, 5 января 1927 года, в Доме Герцена состоялось е учредительное заседание. В нее вошли три писательские организации, как и первоначально. Только вместо Литературного центра конструктивистов, по каким-то причинам отошедшего от федерации, вступил Всероссийский союз писателей (ВСП). В Федерацию объединений советских писателей (ФОСП), таким образом, вошли самые крупные писательские организации: ВАПП (4000 писателей), ВСКП (Всероссийский союз крестьянских писателей – 750) и ВСП (Всероссийский союз писателей – 360). На учредительном заседании был избран совет федерации, принят проект устава и оглашены декларации федерирующихся организаций. Было также принято решение об основании издательства «Федерация» и создании для него литфонда. А через месяц на заседании совета федерации было избрано исполнительное бюро совета. Вскоре в ФОСП вступили еще три литературные группы – «Перевал», «Кузница» и «Леф», по составу немногочисленные, но придавшие объединению большую авторитетность и весомость. Федерация объединений советских писателей (ФОСП) начала свою самостоятельную деятельность. Внешне все обстояло благоприятно, было соблюдено формальное равноправие объединений, и рапповцы зафиксировали еще одну свою победу.
А. Фадеев, входивший уже в это время в руководство ВАПП, был избран в совет и исполнительное бюро федерации. Местные ассоциации пролетарских писателей, обеспокоенные слишком затянувшимся организационным периодом в создании ФОСП, а особенно неправильным отношением Авербаха и его журнала к попутчикам, направляли в свою высшую инстанцию протестующие письма и требовали разъяснений. Исполняя обязанности оргсекретаря ВАПП, Фадеев информировал места о положении дел. Приведем одно из любопытных его посланий в близкую ему Ростовскую ассоциацию. Из этого послания видно, что ростовские товарищи А. Фадеева проявляли большую нетерпимость к перегибам Авербаха, чем посланный ими в Москву представитель, и последнему не раз приходилось их пространно уговаривать и убеждать. Письмо, о котором у нас идет речь, послано в феврале 1927 года: «Ошибки по отношению к попутчикам, указанные вами, действительно были в «На лит. посту» по № 5 включительно (имеется в виду нумерация журнала за 1926 год. – С. Ш.). РАПП (Ростовская ассоциация пролетарских писателей. – С. Ш.) помнит, что на эту тему я делал доклад, и РАПП помнит также, что мы решили тогда не выносить резолюции по этому вопросу, а подождать, пока я выясню в Москве, как будет обстоять дело с линией ВАПП и с линией журнала «На лит. посту» в дальнейшем и нельзя ли выправить эти ошибки «мирным путем». Письмо РАПП явилось теперь слишком запоздалым письмом, так как, во-первых, редакция «На лит. посту» на пленуме ВАПП (имеется в виду ноябрьский пленум ВАПП в 1926 году. – С. Ш.) чистосердечно признала эти свои ошибки и обещала их исправить; во-вторых, с 7—го номера «На лит. посту» эти ошибки уже не повторяются; в-третьих, на пленуме была исправлена старая платформа ВАПП в направлении сотрудничества с попутчиками; в-четвертых, редакция «Большевика» № 23–24 признала, что тов. Авербах (редактор журн. «На лит. посту») исправил свои ошибки и подошел к линии резолюции ЦК о художественной литературе (см. статью Авербаха, письмо Ионова и примечание редакции); в-пятых, к моменту получения вашего письма были созданы уже Федерации советских писателей в Ленинграде и в Одессе; в-шестых, Федерация в масштабе РСФСР до пленума ВАПП не создавалась не по злой воле руководителей ВАПП и «На литературном посту», а потому, что не было санкции ЦК ВКП(б) на это, большой политической важности, дело. Наконец, в-седьмых, ваше письмо пришло как раз в тот момент, когда санкция на создание Федерации была получена и было приступлено к ее осуществлению… К этому письму могу добавить, что уже состоялось учредительное заседание Федерации, избран совет Федерации и бюро. В бюро вошли: от ВАПП – Авербах, Либединский, Фадеев; от Союза писателей – Кириллов, Воронский, Эфрос; от крестьянских писателей – Деев-Хомяковский, Доронин, Замойский. По утверждении Федерации Совнаркомом, нами будет послана об этом подробная информация на места.
В этих условиях опубликование вашего письма, подрывающего теперешнее, в основном правильное, руководство ВАПП, послужило бы во вред делу пролетарской литературы, и в первую очередь сорвало бы дело Федерации»[340].
Оргсекретарь сумел убедить ростовчан, и их резко критическое выступление против линии Авербаха, извращавшей резолюцию ЦК партии, не было опубликовано.
Прав был А. Фадеев, что ноябрьский пленум ВАПП исправил старую платформу в направлении сотрудничества с попутчиками. Но это было исправлено на бумаге. На практике же многое оставалось по-старому.
Противоречие, которое наблюдалось в деятельности руководителей ВАПП – РАПП, носило внешний характер. Оно состояло в следующем: с одной стороны, напостовцы понимали (об этом совершенно определенно сказано в резолюции ЦК), что попутчики могут и должны перейти на сторону коммунистической идеологии, с другой стороны, рапповцы были убеждены, что новую, социалистическую литературу может создать только сам пролетариат (себя они без всяких сомнений причисляли к идеологам пролетариата). В последнем они так были уверены и так решительно отстаивали это свое заблуждение, что уже ничего, кроме пустых фраз, не оставалось у них в решении вопроса о переходе попутчиков на коммунистические рельсы. Именно поэтому проблема попутчиков, к которым они проявляли политическое недоверие, их нисколько не волновала. Но зато во имя строительства пролетарской литературы, во имя ее революционной чистоты они ополчались на каждого, для кого проблема попутчиков являлась общенародным и государственным делом. По этой же причине они претендовали на командную роль в федерации. Добившись впоследствии этой роли, они, по существу, стали безразлично относиться к делам федерации. Самое главное, для чего было создано это объединение, отсутствовало: не было товарищеской творческой обстановки, не было дружеского взаимопонимания, не было чуткого отношения к судьбам писателей. По существу, рапповцы не знали ни настроения писателей, ни их творчества, ни их идейно-политических сдвигов. А судить – судили. Да еще как!
Противоречие, о котором мы говорили, у большинства руководителей РАПП действительно было внешним, неглубоким, потому что во всех случаях оно решалось в пользу заблуждения.
Новое руководство ВАПП (все руководство состояло из членов партии) начало свою деятельность, свои первые шаги с «Докладной записки ЦК ВКП(б)». В ней, как в зеркале, отразились взгляды и настроения напостовцев. Вначале выдвигаются «две основные задачи:
1. Учеба, творчество, самокритика, как выполнение параграфа резолюции ЦК.
2. Создание Федерации советских писателей как формы срабатывания ВАПП с попутчиками»[341].
Затем, информируя ЦК о положении дел в литературе, рапповцы переходят к характеристике литературных групп и дают им оценку. Вот какие формы «срабатывания с попутчиками» предлагает новое руководство ВАПП: «Всероссийский союз поэтов имеет неприкрыто буржуазное и нэпо-буржуазное лицо в смысле творческом. В нем, по существу, нет даже попутчиков. Он является источником богемы всей литературной Москвы… Считаем, что эта организация должна быть уничтожена путем постепенного ее стеснения, должны быть у нее отобраны курсы, отнято помещение в Доме Герцена и т. д.»[342]. Так оборачивалось это «срабатывание» к Союзу поэтов, насчитывавшему до 300 человек, среди которых было много подлинных талантов.
О «Перевале» сказано, что эта «группа создана Воронский для борьбы с ВАПП… «Перевал» издает альманахи, гнилые по содержанию, критика и библиография которых направлена против ВАПП»[343]. Альманахи, где печатались произведения М. Горького, А. Чапыгина, М. Пришвина и других замечательных художников, названы «гнилыми», и прежде всего потому, что критика и библиография их направлены против ВАПП.
Новые руководители не ограничились жалобами на «Перевал». Что для них «Перевал»! В своем стремлении к господству в литературе, как и их предшественники, они требуют от ЦК ВКП(б) прекращения всякой критики их деятельности со стороны… «Правды» и «Большевика» – ни больше ни меньше. «Мы одновременно видим никем не сдерживаемые выступления против нас, именно как против организации, иногда совершенно безответственные, иногда от имени авторитетных организаций… Совершенно недопустимая линия редакции «Большевика» в отношении обсуждения литературных вопросов. Напечатав ликвидаторскую статью Ионова без примечаний от редакции и не в дискуссионном отделе, редакция сейчас начинает дискуссию, в которой в качестве борца против нее мобилизует Лелевича, который разглагольствует от имени «левого крыла ВАПП», которого, в сущности, нету, так как четырех левых уклонистов нельзя назвать «крылом». Очевидно, редакция «Большевика» надеется нас сбить с нашего пути.
Линия «Правды» тоже нас удивляет. Мало того, что «Правда» не печатает наших статей, а печатает обзоры Осинского и Воронского, литературным кружком при «Правде» руководит Воронский…
Все это говорит о том, что определенные и довольно влиятельные учреждения партии («Большевик» и «Правда») хотят развить дискуссию с целью развалить ВАПП»[344].
Особую ненависть вызывал у новых руководителей Воронский. В «Докладной записке» они несколько раз обрушивают против него свой гнев: «И до и после ликвидации левого уклона, – пишут они, – Воронский после резолюции ЦК ведет непрекращающийся поход против ВАПП, последнее время выразившийся в гнусной статье его в № 5 «Красной нови»[345] (имеется в виду статья «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна»).
Воронский был, по мнению напостовцев, основным препятствием на пути ВАПП к господству в литературе. Хотя напостовцы неоднократно заявляли, что завоевать гегемонию пролетарской литературы можно только творчеством, качеством художественной продукции, хотя они громили группу Лелевича за сектантство, за то, что «левые» хотели строить литературную организацию по типу партийной, и указывали, что ВАПП – РАПП – это общественная организация наподобие профсоюзов, но, по существу, они добивались от партии немедленного признания гегемонии ВАПП в литературе, прежде всего в федерации.
Воронский действительно видел эти устремления, высмеивал их и доказывал, что в советской литературе не должно быть господства одного течения над другими, как совершенно ясно сказано и в резолюции ЦК.
Атаки рапповцев против Воронского в 1927 году достигли особого ожесточения и увенчались успехом.
Как известно, в этом году была разгромлена троцкистская оппозиция. Воронский еще в 1923 году поддержал идею Троцкого о невозможности построения пролетарской культуры, в том числе и литературы, в переходный период от капитализма к социализму. Кроме ошибочной идеи, которую он воспринял от Троцкого и по-своему трактовал, во всем остальном он расходился с Троцким. Самым великим авторитетом для него всегда оставался В. И. Ленин. Отрицая возможность создания пролетарской литературы, он в то же время, как никто другой, много сделал практически и теоретически для развития всей советской литературы. Но политическая борьба имеет свои суровые законы.
18 апреля 1927 года на расширенном заседании Отдела печати ЦК ВКП(б) состоялось обсуждение журнала «Красная новь». Деятельность Воронского как редактора была подвергнута резкой критике за отрыв журнала от современности, за то, что журнал не проводит политику партии в области литературы. Обвинения были суровыми. С необоснованными нападками на Воронского выступили Авербах и Зонин. Был поставлен вопрос о снятии А. К. Воронского с поста редактора «Красной нови». Произошло обновление редакции журнала.
Вапповцы праздновали победу. В письме «Ко всем организациям пролетарских писателей» в мае 1927 года сообщалось о снятии Воронского как о совершившемся факте, хотя ушел он несколько позже. «Тов. Воронский, – говорится в письме, – был противником, не только практически выступавшим против ВАПП, но он теоретически обосновал невозможность существования пролетарской литературы… Тов. Воронский объединил вокруг него всех врагов ВАПП – от правых идеологов, растущих буржуазных писателей, до мелких литературных обывателей, не брезгующих дешевой клеветой… Тов. Воронский, борясь с ВАПП, неизбежно должен был прийти к борьбе с партийной линией в вопросах литературы и выступить против нее». Снятие Воронского рассматривается в письме как «чрезвычайно важный в деле оценки литературной линии партии факт», который «знаменует собой определенный этап в развитии пролетарской литературы»[346].
А. М. Горький еще в марте 1927 года услышал о предполагавшемся снятии Воронского. Эта новость его взволновала и обеспокоила. В письме к Ф. Гладкову от 21 марта 1927 года он спрашивал: «Мне жаль, что Воронский уходит из «Красной нови», очень жаль. И странно, чем и кому он не понравился?»[347]. Отвечая Горькому, Гладков выразил свое отношение к Воронскому: «Я Воронского очень люблю и ставлю чрезвычайно высоко… Кому не понравился Воронский? ВАПП, конечно, в первую очередь. Эти интриганы и чиновники новой формации добиваются полного уничтожения Воронского как оплота «мещанской» литературы и борются за верховное руководство всей советской литературой, чтобы стать единственным ее гегемоном»[348].
В письме к Воронскому Горький выразил свое глубокое сожаление по поводу случившегося: «Если это правда, – это очень грустно и более, чем грустно. Это свидетельствует, что у нас все еще не научились ценить работников по их заслугам и работу по достоинству ее. Вами создан самый лучший журнал, какой возможно было создать в тяжелых условиях, хорошо известных мне. Не думаю, что замена вас Керженцевым будет полезна «Красной нови»[349].
Воронский в письме к Горькому сам объяснил причины создавшегося положения: «Боролся с глупостями, с непониманием, с некультурностью, боролся за литературу, которую я искренне люблю, ошибался, конечно, но ошибался честно.
Уж очень развелось много прытких и прытчайших людей… Проходу от них нет. Слушая их клятвенные и «ррреволюционнейшие» заверения, некоторые наивно, на мой взгляд, полагают, что тут-то и есть настоящее.
За последнее время положение мое обострилось оттого, что я решительно выступал против ряда глупостей, которые могли совершиться, «о не совершились, вернее, совершились в небольшой пока дозе. Имею в виду главным образом Федерацию советских писателей»[350].
Своими выступлениями и статьями о принципах построения ФОСП Воронскому удалось убедить вышестоящие инстанции в установлении равноправия федерирующихся писательских организаций. Это равенство проявилось в формировании руководящих органов, в издательских предприятиях, в распределении средств. Все это способствовало укреплению нового писательского объединения.
Начиная с 1928 года руководство РАПП интересовалось работой федерации от случая к случаю. От рапповцев выдвигался в ФОСП постоянный представитель, не столь занятый, не столь авторитетный. Он и осуществлял оперативное руководство. До октября месяца 1928 года таким представителем от РАПП был критик С. Канатчиков. (Семен Иванович Канатчиков (1879–1940) – старый большевик-ленинец, профессиональный революционер, а после 1917 года – государственный и общественный деятель. В 20-е годы выступал и как литературный критик.)
Чтобы непосредственно представить методы руководства РАПП и отношение рапповцев к федерации, к попутчикам, стоит обратиться к эпизоду, в котором все это наглядно запечатлелось. 30 октября 1928 года С. Канатчиков срочно был вызван на заседание коммунистической фракции секретариата РАПП. На заседание был вынесен единственный вопрос: «Об инциденте с тов. Канатчиковым в связи с юбилеем МХАТа». Как известно, в 1928 году отмечалось 30—летие МХАТа. Был устроен торжественный юбилейный вечер. От Федерации объединений советских писателей должен был кто-то выступить с приветственной речью. Но предоставим слово самому С. Канатчикову, информировавшему комфракцию РАПП: «На секретариате ФОСП обсуждалась кандидатура для выступления в МХАТе. Никого из делегации РАПП на секретариате не было. Остановились на кандидатуре Леонова. Выступать ему надо было две-три минуты, а что в этот короткий срок можно вообще сказать? В день выступления звонит ко мне тов. Ставский (В. Ставский уже был в это время оргсекретарем РАПП. – С. Ш.) и говорит, что РАПП отводит кандидатуру Леонова и предлагает тов. Киршона, но Эфрос (Эфрос представлял в исполнительном бюро федерации Всероссийский союз писателей. – С. Ш.) категорически возражал. Мы выдвинули беспартийного Новикова (Новиков Иван Алексеевич известен произведениями о Пушкине. – С. Ш.). В театре подвернулся Вяч. Полонский. Нет оснований предпочесть Новикова Вяч. Полонскому. Полонский – партийный, редактор 2-х журналов, – вот почему и выступил Полонский (Вяч. Полонский редактировал журналы «Новый мир» и «Печать и революция». – С. Ш.)»[351].
Затем С. Канатчиков информирует комфракцию о других событиях в федерации: «О пьесе «Бег» (пьеса «Бег» М. Булгакова, где изображается внутренний кризис белоэмигрантской среды. – С. Ш.). Я прослушал эту пьесу; ничего антисоветского в ней не вижу, произвела хорошее впечатление. Для 12—го номера «Красной нови» нет материала, и Вс. Иванов предложил отрывки из «Бега». Я считаю, что их можно напечатать, и голосовал за них… Наконец, я не вижу ничего оскорбительного в том, что Пильняк выразился про Авербаха, что он принадлежит к той категории критиков, которые руководствуются принципом «Тащить – не пущать!»[352].
Как дальше будет видно из обсуждения, позиция и поведение Канатчикова не отвечали требованиям РАПП. Канатчиков оказался «вольнодумцем», потерял бдительность, и было принято единодушное решение: «Просить ЦК освободить тов. Канатчикова от представительства РАПП в ФОСП»[353].
Киршон (он с 1928 года вместо Фадеева входил в исполнительное бюро федерации) заявил на заседании комфракции РАПП: «Леонов – писатель с «достоевщинкой», и нам следовало знать, что может сказать Леонов в течение 2-х минут, тем более, что отчет о его выступлении вряд ли не будет помещен… Тов. Канатчиков не согласовал с нами вопроса – в результате выступил Полонский с пошлой речью. Он говорил совершенно антикоммунистические вещи…
Странно, рапповский работник голосует за помещение «Бега» – явно контрреволюционной вещи.
Я не считаю для себя возможным при таких условиях продолжать дальше работу с тов. Канатчиковым в ФОСП»[354].
Ю. Либединский в своем выступлении определил федерацию как «узел классовой борьбы», и так как С. Канатчиков не понимает этого, с него «надо снять звание представителя нашей организации»[355].
Л. Авербах считает выступление Полонского на юбилее от имени всех писательских организаций огромной политической ошибкой т. Канатчикова: «…нет оснований думать, чтобы партия хотела выступления тов. Полонского и не оценивала таких выступлений политически»[356]. Он предлагает заменить Канатчикова в ФОСП.
Хочется привести одно замечание из заключительного слова Канатчикова, имеющее для нас немаловажное значение. Он сказал: «С тов. Фадеевым мы хорошо работали. А при таких условиях я не буду работать»[357].
Да, этот эпизод с двухминутным выступлением на юбилее показателен во всех отношениях. Здесь полностью обнаружился нрав рапповцев, их диктаторство в федерации, их политическое недоверие даже к таким, по их же собственному определению, революционным попутчикам, как Леонид Леонов. Здесь проявилась их грубость и бестактность к советским писателям. Когда Л. Леонов узнал, что РАПП возражает против его выступления на юбилее, он, оскорбленный, немедленно отказался от предложения бюро федерации.
Показательна оценка рапповцами самой федерации. Они понимают объединение советских писателей как «узел классовой борьбы». Узел! Где уж там до «создания дружеской и товарищеской среды», за что ратовал Воронский, или до «создания широкой базы для беспрепятственного развития и объединения всей революционной литературы СССР», как сказано в обращении федерации от 22 июля 1926 года, или, наконец, до «тактичного и бережного отношения к попутчикам, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии», как записано в резолюции ЦКРКП(б) от 18 июня 1925 года.
Как себе представляли рапповцы перспективы, сроки для полного объединения в будущем всех советских писателей, выразил Авербах в речи на пленуме правления Всероссийского союза писателей от 16 мая 1931 года. Большего комчванства, чем обнаружил в своей речи «вождь» РАПП, трудно себе представить. Но так же трудно представить более комическое положение, в котором он вскоре оказался. Авербах говорил надменно, вел разговор свысока с присутствовавшими на пленуме Л. Леоновым, К. Фединым, В. Вересаевым, Вс. Ивановым и другими советскими писателями. Он сказал буквально следующее, желая обрадовать присутствующих: «Многие из вас вместе со многими из нас через годы и годы (подчеркнуто нами. – С. Ш.) окажутся в едином объединении писателей социалистического общества»[358]. Как известно, ровно через год произошло объединение советских писателей.
Это непонимание перспективы в развитии жизни, в движении всей советской литературы, эта групповая замкнутость, оторванность от всего процесса литературного развития проявлялись на протяжении десятилетней истории РАПП.
Установилось мнение, что только в последний период своей деятельности РАПП превратилась в тормоз для развития советской литературы. Это не совсем так. В последний период ошибки РАПП становились более заметными, очевидными, ярко бросались в глаза общественности, потому что сама жизнь стала во многом иной, изменилось общество, изменилась обстановка в литературе. Деятельность РАПП вошла в противоречие с самой жизнью, и любые ошибки рапповцев резко контрастировали с общим прогрессом в стране. Рапповцы тоже не стояли на месте, они пытались успеть за жизнью, но в главном они и их организация оставались прежними. Дело заключалось в системе взглядов, в системе организации, от которых рапповцы отказаться не могли, не перестав быть рапповцами. Эта система взглядов и форма их организации до 1930 года были такими же, как и после. Но столь резкого противоречия с жизнью в ранний период еще не наметилось. А вред, который приносили рапповцы своими крайними действиями, может быть, в ранний период являлся более ощутимым, чем в начале 30-х годов, когда критика ошибок РАПП приобретала все более широкий общественный характер.
В эпизоде с юбилеем МХАТа как в капле воды отразилось общее отношение рапповцев к советским писателям. Было уже сказано, что такое отношение вытекало из основного их взгляда на развитие социалистической культуры и литературы. Чтобы показать, что это было всеобщим заблуждением, обратимся к высказываниям А. Фадеева, самого проницательного и самого одаренного художника из активных рапповцев. С одной стороны, он утверждал, что «попутнические писатели – это выходцы из демократической интеллигенции, которая добивалась образования с большими трудностями. Октябрьскую революцию эта интеллигенция встретила одобрительно» и что «наше дело для этих слоев демократической интеллигенции в основе своей должно заключаться в том, что мы их можем и должны повести за собой и что это проистекает из их реальных жизненных интересов»[359]. Казалось бы, этим все сказано: демократическая интеллигенция одобрительно встретила революцию, стремление создавать новую литературу проистекает из ее реальных жизненных интересов, и ее должно и можно повести за собой передовому отряду советской литературы. Следовательно, не только выходцы из рабочего класса, но и выходцы из демократической интеллигенции – все вместе могут и должны строить социалистическую литературу. Но, к сожалению, к такому выводу Фадеев не приходит, хотя, казалось бы, к нему прийти можно было бы очень легко, потому что он напрашивался сам собой из совершенно правильных фадеевских суждений. Однако в этой же речи на 2-м пленуме РАПП в сентябре 1929 года он высказывает мысль, которая противоречит всему перед этим сказанному о демократической интеллигенции: «Никакой серьезный большевик не может прийти на Российскую ассоциацию пролетарских писателей и сказать, что можно достичь идейной гегемонии пролетарской литературы без того, чтобы не включить в кадры пролетарской литературы основные кадры индустриального пролетариата»[360]. Эту же мысль он повторит не однажды. В 1930 году на конференции ЛАПП она получит следующее оформление: «Вредно думать, что литературу рабочего класса создадут интеллигенты… Гегемонию пролетарской литературы можно достичь и ее можно завоевать только тогда, когда в пролетарскую литературу вольются значительные кадры индустриального пролетариата»[361]. Как рапповцы пытались реализовать эти свои убеждения, видно из лозунга «Ударник производства – центральная фигура в литературе» и из «Призыва ударников в литературу».
Фраза Фадеева: «Вредно думать, что литературу рабочего класса создадут интеллигенты» – не являлась случайно брошенной фразой, а означала действительное и опасное убеждение рапповцев. Вся передовая советская литература была литературой рабочего класса, и ее могли создать и создавали только советские интеллигенты, откуда бы они ни происходили. Рапповцы эту реальную истину опровергали. Они фантазировали о перевороте, о революции в литературе путем массового прихода в нее рабочих от станка. И эту неосуществимую фантазию они пытались претворить в жизнь. Интересно отметить, что, когда данное заблуждение кем-нибудь доводилось до абсурда, до абсолютного, предельного примитивизма, это вызывало у Фадеева злую иронию. Яркой фигурой, возводившей идеи руководителей РАПП в абсолютную степень вульгаризаторства и примитивизма, являлась Лидия Тоом, критик и бойкий полемист тех лет. Так вот, на 2-м пленуме РАПП, объединившись с Александром Беком, Лидия Тоом категорически утверждала, что пролетарская идеология и пролетарская психология могут быть только у человека пролетарского происхождения. Фадеев резко отверг это абсурдное утверждение: «…вовсе не означает, что если человек по происхождению пролетарий, то он обязательно обладает пролетарской психологией. И это не означает, что для отдельных представителей других социальных слоев невозможен переход на пролетарские позиции. У тт. Бека и Тоом есть по линии этих вопросов какая-то болезненность. У них имеются моменты противопоставления рабочих и интеллигентов в сплошной форме»[362]. Удивительно, что Фадеев ту же самую болезненность по линии тех же самых вопросов не мог обнаружить ни у себя, ни у своих товарищей по руководству РАПП. А обнаружить необходимо было во что бы то ни стало. Если с Лидией Тоом мало кто считался, то с рапповцами приходилось считаться многим.
Линия недоверия к художественной интеллигенции прошла через всю историю РАПП. Она серьезно коснулась М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, М. Шолохова, А. Толстого, М. Пришвина, С. Сергеева-Ценского и многих других художников нашей страны, уже тогда прославивших советскую литературу на весь мир. На истории отношения рапповцев к некоторым из крупнейших наших писателей и следует теперь остановиться.
ГЛАВА 11
Рапповцы, вслед за их предшественниками, не сознавали величия и значения М. Горького как основоположника новой, социалистической литературы. Его не причисляли к пролетарской литературе. Горький был для рапповцев всего-навсего попутчиком или в лучшем случае полупролетарским писателем, и они в соответствии с этим пониманием оценивали его творчество. Горьковское отношение к литературе, его советы, критические выступления по вопросам литературного движения ими не брались в расчет.
С трибуны первого съезда пролетарских писателей в 1928 году, выражая мнение руководства, В. Ермилов в докладе «О творческом лице пролетарской литературы» попытался определить социальный облик великого писателя следующим образом: «Горький – пролетарский писатель в той степени и постольку, в какой степени и поскольку пролетариат осуществляет задачи буржуазно-демократической революции, которые должны были быть осуществлены русской буржуазией, если бы она у нас не была столь бездарна и бессильна. Такое определение давало бы возможность понять и горьковский индивидуализм, соответствующий процессу пробуждения в ходе буржуазно-демократической революции личности, выделению ее из сплошного окуровского быта, оно давало бы возможность по-новому взглянуть на противоречия Горького в его отношении к интеллигенции, оно объяснило бы и горьковские антикрестьянские настроения и горьковский гуманизм»[363].
Ермилов утверждает, таким образом, что Горький явился выразителем буржуазно-демократической революции. Пролетарским его назвать можно «в той степени и постольку, в какой степени и поскольку пролетариат осуществляет задачи буржуазно-демократической революции». Но пролетариат пошел дальше, на свершение социалистической революции, а Горький, по Ермилову, остался на позициях Февраля, то есть на буржуазно-демократических позициях. Горький был, видите ли, попутчиком пролетариата только в период Февральской революции, то есть в политическом отношении он неизмеримо ниже советских писателей, так как они явились попутчиками пролетариата уже в период социалистической революции.
Это определение позиции Горького помогает, по Ермилову, объяснить все «противоречия» его творчества. Рапповский критик не обнаружил в творчестве великого писателя ничего, кроме индивидуализма, противоречий в отношении к интеллигенции, антикрестьянских настроений и гуманизма. Гуманизм, как известно, рапповцы воспринимали в отрицательном значении. Если обозреть творчество Горького советского периода только до 1928 года включительно, то достаточно назвать «Мои университеты», «В. И. Ленин», «Дело Артамоновых», два тома «Жизни Клима Самгина», чтобы понять, какой жалкой явилась критика Ермилова и как вредна была позиция рапповцев в тот период: классические произведения социалистической литературы не были взяты на вооружение всесоюзной пролетарской литературной организацией.
В 1928 году, в свой шестидесятилетний юбилей, А. М. Горький вернулся на Родину. 28 мая его восторженно встречала на площади перед Белорусским вокзалом огромная, многотысячная демонстрация. Задолго до приезда Горького все организации, правительство и партия нашей страны готовились к встрече великого писателя. 30 марта Ер «Правде» было опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров, в котором были определены заслуги М. Горького перед Родиной. «Яркими образцами своего творчества подготовил он рабочий класс к первому штурму твердынь царизма и капитала, к нашей первой революции, славным Буревестником которой он был», – говорилось в этом постановлении.
Рапповцы же, вопреки общественному мнению всей страны, в противовес линии партии и правительства, начали травлю Горького.
В январе 1928 года в журнале «На литературном посту» публикуемся доклад И. Теодоровича о 35-летии творчества М. Горького, прочитанный в клубе политкаторжан. Без всяких комментариев передается основное содержание доклада: «Горький – человек, лишенный классового сознания, идеолог промежуточных слоев общества, которые пошли в Октябрьскую революцию за нами»[364].
Даже в приветствии «Максиму Горькому», опубликованном в апреле 1928 года, рапповцы не удержались, чтобы не отметить, что «широкая амплитуда колебания его творчества нашла себе окончательное выражение в творческом развитии двух отрядов современной литературы: пролетарской и попутнической»[365]. Что это за амплитуда колебания, разъяснил в своем докладе Ермилов в мае 1928 года.
Незадолго до приезда Горького в СССР Авербах начал дискуссию, оскорбительную для писателя. Первого мая 1928 года в «Известиях» была опубликована статья М. Горького «О возвеличенных и «начинающих». В ней говорилось о возмутительном, недостойном товарищей, делающих общее, коллективное дело, тоне, которым ведутся дискуссии в печати. Горький объяснил грубость тона тем, что «признанные таланты» и «литературные пастыри» вносят в дискуссию «самолюбие», «чванство» и «страшок потерять свои позиции».
Примером такой грубой критики, уничтожающей, а не исправляющей, явились статьи и сатирические стихи об Иване Молчанове в связи с его неудачным стихотворением «Свидание». В статье «Новые песни и старая пошлость», опубликованной в «Комсомольской правде» от 2 октября 1927 года, Авербах унизил поэта и перечеркнул всю его поэзию. «Молчанов, – пишет он, – поэт чрезвычайно маленький… Его поэтическая деятельность – отражение света, излучаемого Безыменский, Жаровым, Уткиным. Его пафос отдает фальшивой риторикой. Внутренняя бессодержательность молчановского творчества становилась и становится все более явной. Так рождается стихотворение «Свидание».
Горький, сообщив биографические данные о Молчанове (пастух, нищий, красноармеец, ранен на фронте гражданской войны, учился, заболел) и отметив, что «Свидание» действительно является ошибкой поэта, пишет в своей статье: «Я говорю «цензорам нравов»: к людям такого типа и «образования», каков Молчанов, должно быть установлено иное отношение, их надобно высоко ценить и заботливо учить, а не орать и не лаять на них».
Выступление Горького, призывавшего к чуткости, к созидательной, а не разрушительной критике, было принципиально правильным, и Авербаху – так называемому «вождю» пролетарского литературного движения – следовало прислушаться к разумному совету. Но Авербах, привыкший всех поучать, ответил Горькому резкой статьей «Пошлость защищать не надо!». Он обвинил Горького в непонимании или в нежелании «понять содержания дискуссии вокруг «Свидания». Горький полемизирует не с нами, а с сочиненным им «обвинителем»[366]. Стремясь оскорбить, унизить великого писателя, он причисляет его к людям, «неосновательно претендующим на учительство и панскую непогрешимость»[367]. О себе же он без всякой скромности говорит: «Рабочее движение нуждается именно в таких интеллигентах, которые на все 100 % переходят на сторону пролетариата»[368]. Здесь же содержится скрытый упрек в адрес Горького, который-де не перешел полностью на сторону пролетариата. Что касается грубого тона критики, о чем, собственно, и написана горьковская статья, то Авербах отводит это главное обвинение старым приемом Ил. Вардина и журнала «На посту»: «И разве разговор о тоне вообще не является часто формой отказа от спора по существу»[369]. Заканчивается статья в обычном авербаховском стиле: «Резкий отпор следует давать всякой попытке защищать даже Молчанова»[370], не говоря уже о молчановщине.
М. Горький, который всю сознательную жизнь боролся с пошлостью, в интерпретации Авербаха предстал поборником пошлости.
«Правда» 3 июня 1928 года выступила в защиту Горького. В. Астров в статье «Горький и комчванята» писал: «Мы должны оградить Горького от такой явно лицемерной и безграмотной «критики»… Комчванство, излишняя претенциозность, непомерное самомнение, к тому же без достаточных к тому данных, – все это худшие пороки в глазах рабочих».
Авербах не только не посчитался с мнением «Правды», но с высоты ортодоксальной принципиальности ответил центральному органу партии: «Такое «прощение ошибок» не имеет ничего общего с политикой и имеет все черты сходства с вульгарным политиканством»[371]. Что-что, а ярлыки навешивать руководитель РАПП был великим мастером.
Дискуссия о Горьком (Молчанов отошел на второй план) в журнале «На литературном посту» принимала все более оскорбительные формы, была подхвачена лефовцами и немного позже новосибирским леворапповским журналом «Настоящее».
Журнал «На литературном посту» сделал тенденциозную, одностороннюю подборку «Л. Толстой о Горьком», и рапповцы ударили по Горькому великим авторитетом Толстого. Журнал «Леф» выступил против Горького со статьей В. Шкловского «Новооткрытый Пушкин», в которой с необыкновенной легкостью утверждал, что Горький «вырос из французского бульварного романа. Связи с классиками у него нет, и в них он ничего не понимает, что совершенно не уменьшает его литературной значимости»[372].
А в это время великий писатель земли русской ездит по стране, его с восторгом и ликованием встречают все народы Советского Союза. В течение июня и июля Горький посетил многие предприятия столицы, побывал в Курске, Харькове, на Днепрострое, в Запорожье, Крыму, Таганроге, Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе, Ереване, Владикавказе, Сталинграде, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде.
А. Фадеев был возмущен отношением журнала «На литературном посту» и его редактора к Горькому. Впервые произошла серьезная размолвка между Фадеевым и Авербахом. Большинство коммунистов правления РАПП поддержало Фадеева. Разобиженный генеральный секретарь РАПП подал заявление в ЦК ВКП(б) о переводе его на партийную работу, не предупредив об этом руководство РАПП. По инициативе Фадеева 14 июля 1928 года было созвано частное совещание группы коммунистов – членов правления ВАПП. На совещании присутствовали: Ю. Либединский, Б. Иллеш, В. Ермилов, г. Айкуни, А. Исбах, г. Корабельников, Б. Волин, Ф. Раскольников, Н. Шушканов, И. Нович. Руководил совещанием А. Фадеев.
Следует остановиться на содержании выступлений, чтобы увидеть, что, по существу, эти расхождения между Фадеевым и Авербахом коснулись главным образом лишь тактических вопросов.
Во вступительном слове Фадеев сказал, что с приездом Горького в СССР наблюдается подъем в среде писателей. На собраниях и митингах советские люди повсюду восторженно встречают великого русского писателя. «Мы, вапповские работники, упустили этот подъем настроений. Правые писатели надеялись на Горького, высказывали ему некоторое недовольство нашими условиями. Промежуточные группы попутчиков, недовольные отдельными извращениями, имеющимися в литературно-издательской среде… частично идут за правыми в этом направлении. Горький же, в общем, занимает довольно левую позицию. Мы не учли всех этих настроений. Сюда же относится и то, что мы никак не реагировали до сих пор на обращение ЦК партии о самокритике. Нам нужно было широко использовать обращение ЦК, ответив на него бешеным вскрытием недостатков в литературной среде, бюрократизма в издательствах и т. д. Мы прозевали обращение, упустив момент. А что делает «На литпосту» в этих условиях? Мы раздуваем дискуссию о Горьком и Молчанове (о «Свидании»). Я целиком согласен со статьями Авербаха и о Горьком, и против Астрова. Но в журнале все эти материалы занимают не пропорционально много места, превращаясь в политическую линию. Нужен решительный перелом в линии журнала, в частности в отношении Горького. Надо вместе с Горьким пойти против правых настроений в писательской среде, широко осуществив лозунг самокритики»[373].
Ю. Либединский, А. Исбах, Б. Волий поддержали А. Фадеева. Убедительно говорил Волин: «Мы не учли того эффекта, той положительной роли, которую сыграл приезд Горького вообще в стране. Мы Толстым ударили по Горькому»[374].
В заключение Фадеев информирует собравшихся о том, что Авербах послал в ЦК партии Криницкому частное письмо с просьбой о снятии его с литработы и переброске на партработу. «Все товарищи, – записано в протоколе совещания, – выражают возмущение по поводу того, что тов. Авербах не согласовал с фракцией этого вопроса, и считают невозможным уход тов. Авербаха с работы»[375].
Фадеев предложил радикально изменить линию журнала «На литературном посту» вообще и по отношению к Горькому в частности. Он так же, как другие коммунисты, присутствовавшие на совещании, понимал, в какое глупое положение поставил РАПП ее генеральный секретарь перед всей страной, перед всей литературой, и предложил идти вместе с Горьким, а не против него. Фадеев указал и на тот нелепый факт, что обращение партии о развертывании в стране самокритики прошло мимо РАПП, в то время как основной линией развития ее признан лозунг «Учеба, творчество, самокритика». Это было трезвое и самокритическое выступление одного из руководителей организации. Здесь проявилось уважение Фадеева к Горькому, которого автор «Разгрома» всегда высоко чтил как писателя. Но, к сожалению, в этом выступлении Фадеев обнаружил себя рапповцем в узком, групповом смысле слова. Он не учел главного, что произошло в писательской среде с приездом Горького. Его насторожили жалобы, с которыми писатели обращались к Горькому, занявшему, по словам самого же Фадеева, «довольно левую позицию», то есть правильную, советскую, партийную. Но он даже не задумался над тем, что личное присутствие Горького в писательской среде, его выступления и беседы – все, что вызвало оживление, подъем, явилось огромным стимулом к взаимопониманию, к единению всех советских писателей. Этого ни Фадеев, ни другие руководители РАПП не поняли и, видимо, не хотели понять, упоенные величием своего положения единственных строителей новой литературы. Следовательно, в этот период рапповцы не осознавали Горького как учителя, наставника и объединителя всех прогрессивных литературных сил в стране. А отсюда идет признание статей Авербаха о Горьком правильными статьями. Видите ли, руководство РАПП целиком согласно со статьями Авербаха о Горьком, а Либединский убежден, что «ошибка Горького со стихотворением Молчанова имеет очень большое принципиальное значение. Пройти мимо ошибок Горького нельзя было»[376]. Пройти мимо ошибок Горького нельзя, а вот не обратить внимания на вопиющие ошибки Авербаха, указанные Горьким, вполне можно. Горький писал: статья Авербаха «может только обидеть людей, заслуживающих право на иное, товарищеское отношение к ним». Можно было также пройти мимо возмутительного тона статей Авербаха, унижающих достоинство великого писателя и человека. Пройти мимо и просить Авербаха по-прежнему оставаться руководителем РАПП. Вот любопытный документ, свидетельствующий о том, какую исключительную роль отводили в руководстве пролетарской литературой Авербаху коммунисты – члены секретариата РАПП. На заседании комфракции секретариата от 29 августа 1928 года в присутствии самого Авербаха «тов. Селивановский информирует о принятом ЦК ВКП(б) постановлении о направлении Л. Авербаха на партработу в Азербайджан. Уход тов. Авербаха усложняет всю работу РАПП. От имени комфракции подан в Секретариат ЦК протест.
Тов. Саянов считает, что уход Авербаха имеет большое политическое значение и будет расцениваться как разгром напостовства»[377].
Принято решение делегировать тт. Киршона, Фадеева, Ермилова и Караваеву в Секретариат ЦК ВКП(б). Вскоре Авербах был возвращен на «литработу».
В письме к В. П. Ставскому от 16 июля 1928 года Фадеев разъяснял ростовским товарищам позицию руководства РАПП по отношению к Горькому: «Здесь мы сделали несколько ляпсусов. Не в том дело, что статьи Авербаха по поводу Молчанова, а затем его ответ Астрову (а также «Толстой о Горьком») неправильны или неинтересны по существу и не должны были бы быть напечатаны. Нет, они правильны и интересны, и их можно было печатать, но плохо, что, кроме них, мы не поместили ни одной развернутой статьи о Горьком, выявляющей наше действительно искреннее отношение к нему как к большому писателю и ближайшему другу пролетарской литературы»[378] (подчеркнуто Фадеевым. – С. Ш.).
Твердая позиция, занятая Фадеевым и коммунистами, поддержавшими его, изменила тактическую линию журнала «На литературном посту» по отношению к Горькому. Травля прекратилась. А с начала 30-х годов рапповцы относятся к Горькому все с большим уважением и пониманием.
Но дурной пример заразителен. Линию Авербаха против Горького продолжили новосибирские рапповцы. О них следует сказать особо. Сибирская ассоциация пролетарских писателей возникла в ноябре 1927 года. Ее основателем явился известный Семен Родов, находившийся недолгое время в Новосибирске. Внутри ассоциации в марте 1928 года образовалось руководящее ядро – группа «Настоящее», по образу и подобию напостовской группы. Эта группа издавала свой журнал под названием «Настоящее». Руководителем группы и ответственным редактором журнала стал А. Курс – член Сибирского крайкома партии. А. Курс был приверженцем Авербаха, он перенял от своего учителя самые отвратительные качества. Кое-что Курс позаимствовал и от Семена Родова. Сочетание отрицательных авербаховских и родовских черт создало зловещий, может быть, единственный в своем роде тип руководителя литературы тех лет. Конечно, Курс был карикатурой на Авербаха, но, как всякая карикатура, он наглядно демонстрировал характерные линии оригинала.
В течение двух лет (1928–1929) журнал «Настоящее» подвергал жестокой и непрерывной травле честных советских писателей-сибиряков: В. Зазубрина, М. Басова, И. Ерошина, С. Макарова и других. Они были объявлены классовыми врагами, исключены из писательской организации. В их защиту в июне 1929 года в «Известиях» со статьей «Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры» выступил Горький. Даже журнал «На литературном посту» вынужден был резко одернуть своих собратьев из Сибири (см. статью А. Селивановского «Герои спасательного круга», апрель 1929 г.). Ни выступление Горького, ни критика «На литературном посту» не охладили пыл «настоященцев». Наоборот, они еще больше разъярились. Началась травля Горького. В № 5–6—7 (в одной книжке) журнал «Настоящее» публикует «Резолюцию общего собрания коммунистов – сотрудников редакций краевых газет», направленную против Горького: «Мы смеем уверить М. Горького, что за долгие годы его отсутствия пролетарская художественная литература окрепла значительно сильнее, чем он думает, что эта литература совсем не собирается сдавать свои позиции в борьбе против правых и откровенно реставрационных элементов в литературе. Эти позиции не будут сданы, хотя бы наш враг и действовал именем М. Горького»[379]. В следующем выпуске журнал публикует постановление общего собрания студентов и сотрудников Новосибирского Пролеткульта под заглавием «Сибирский Пролеткульт протестует». Вот что говорится здесь о выступлении Горького в «Известиях»: «Мы, пролеткультовцы, глубоко возмущены этим выпадом, расцениваем его как выступление изворотливого, маскирующегося врага на арене классовой борьбы в области искусства, с враждебной пролетариату, реакционной линией»[380]. В газете «Советская Сибирь» в № 218 от 22 сентября 1929 года, ответственным редактором которой, как и журнала «Настоящее», являлся все тот же А. Курс, писалось о Горьком, что он защищает «всю советскую пильняковщину во всех ее проявлениях, то есть не только на литературном фронте».
Чтобы дать представление об А. Курсе и показать, что стиль его статей и выступлений очень похож на стиль Авербаха, приведем несколько образцов. В статье «Настоящее», «На литпосту» и правая опасность» Курс дает резкую отповедь налитпостовцам за статью А. Селивановского: «На литпосту», которое считает себя призванным собирать пролетарский фронт литературы, вместо того чтобы протянуть руку «Настоящему», выпускает из подворотни какую-то анонимную, неопрятную, задиристую и Непомерно визгливую пустолайку»[381].
В речи от 12 августа 1929 года на литературном совещании при Агитпропе Сибирского крайкома ВКП(б) Курс объявил классовыми врагами Вяч. Шишкова, С. Сергеева-Ценского, И. Сельвинского и Bc. Иванова; обвинил в правом уклоне А. В. Луначарского за защиту оперного искусства; оценил руководство РАПП следующим образом: «Я не знаю, какими позорными словами назвать такое руководство» и, наконец, сделал наставление партии: «Чтобы партия могла успешно руководить литературой, осуществляя активное, непрерывное, последовательное наступление на классового врага на фронте литературы, партия должна иметь организованный фронт, состоящий из сильных коммунистически выдержанных отрядов. В ряды должны стать ВАПП, «Настоящее» и «Кузница»[382].
ЦК ВКП(б) в специальном постановлении от 25 декабря 1929 года «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против М. Горького» определил эти выступления «как грубо ошибочные и граничащие с хулиганством». По этому постановлению Курс был отстранен от обязанностей редактора «Советской Сибири», а в начале 1930 года руководители группы «Настоящее» Курс, Гальперин, Каврайский, Панкрушин были исключены из партии.
ЦК ВКП(б) своим постановлением выразил отношение партии к М. Горькому и строго предупредил всех хулиганствующих на благородном поприще литературы. Это была вынужденная, но справедливая и своевременная мера. Она заставила и рапповцев над многим задуматься. Хотя следует прямо сказать, что если они изменили отношение к Горькому, то к основной массе писателей-попутчиков у них остался прежний курс.
ГЛАВА 12
Отношение рапповцев к В. Маяковскому оставалось отрицательным даже и после того, как поэт в 1930 году вступил в РАПП. Справедливо критикуя формалистические и левацкие положения лефовской платформы, рапповцы переносили эту критику и на творчество всех поэтов Лефа. Маяковский в их глазах являлся попутчиком, и этим уже было все сказано. Даже самые выдающиеся произведения поэта оказались непонятыми критиками РАПП.
И. Гроссман-Рощин, которого Маяковский именовал не иначе, как «безработным анархистом, перебегающим из одной литературной передней в другую»[383] (И. Гроссман-Рощин из буржуазной прессы в 1923 году перешел в журнал «Леф», а затем оказался самым почтенным теоретиком-критиком «На литературном посту»), больше других занимался Лефом. В большой статье «Преступление и наказание (ликвидация ликвидаторов)», опубликованной в № 22 «На литературном посту» за 1928 год и вошедшей затем в его книгу «Искусство изменять мир», он писал в рапповском стиле, легко им усвоенном: «Кажется, Прудону принадлежат слова: «Наложничество нельзя реформировать – его надо уничтожить». Леф нельзя реформировать – его надо уничтожить»[384]. И дальше: «Мы предостерегаем… от легкомысленных надежд, что вот Маяковский выправился и выправил свою линию. Ничего подобного»[385]. Он же оценил поэму «Владимир Ильич Ленин» как «блестяще зарифмованное изложение истории ВКП(б) по Зиновьеву»[386].
Вообще рапповцы все произведения поэта о революции и революционном движении подвергали сомнению, не верили в их искренность, а когда Маяковский, отталкиваясь от современности, предсказывал будущее, его упрекали в схематизме, в ходульности и опять же в неискренности.
М. Беккер (Михаил Иосифович Беккер – один из рапповских критиков) в статье «Хорошо ли «Хорошо!»?» («На литературном посту» № 2 за 1928 г.) сразу же после выхода знаменитой поэмы на поставленный вопрос отвечал отрицательно и обобщал: «Октябрь не раз привлекал внимание Маяковского. В честь Октября им сложены песни, гимны, целые эпопеи. Но во всех этих произведениях Маяковский был далек от понимания Октября, его содержания, его сущности»[387]. Борясь за «психологический реализм», рапповцы отвергали поэтическую манеру Маяковского. Наглядно это выразилось в докладе «Столбовая дорога пролетарской литературы» A. Фадеева, где он говорил: «Маяковский, например, вместе с лефами ратующий против «психологизма», не смог в поэме «Хорошо!» дать борьбу противоречивых тенденций у крестьян, потому что не заглянул в психику крестьянина, и его красноармейцы, лихо сбрасывающие в море Врангеля, получились фальшивыми, напыщенно-плакатными красноармейцами, в которых никто не верит»[388].
Замечательные сатирические пьесы Маяковского «Клоп» и «Баня» воспринимались как чуть ли не клевета на советскую действительность. В художественном и сценическом отношении они не признавались. В докладе о работе журнала «Октябрь» на расширенном заседании РАПП от 26 марта 1930 года Г. Корабельников, указывая на ошибки журнала, относит к ним и публикацию «Бани»
B. Маяковского. Как и в рассказе «Усомнившийся Макар» Андрея Платонова, в «Бане», говорит он, вместо «борьбы с бюрократизмом появилась борьба с пролетарским государством». «Это произведение разрешило не в пролетарском плане эту задачу»[389]. В статье «О настроениях мелкобуржуазной «левизны» в художественной литературе» («На литературном посту» № 4 за 1930 г.) В. Ермилов так оценивает центральный сатирический персонаж «Бани»: «Вся фигура Победоносикова вообще является нестерпимо фальшивой. Такой «безукоризненный» бюрократ – вообще невероятно схематичен и неправдоподобен»[390]. Гроссман-Рощин со злорадством сообщал Либединскому: «Клоп» провалился, невзирая на штуки Мейерхольда»[391].
Известный ныне литературовед и критик К. Л. Зелинский, порадовавший нас новой книгой[392], в которой он с восторгом пишет о великом поэте, в те годы относился к поэзии Маяковского так же отрицательно, как и рапповцы. Редакция «На литературном посту», солидаризируясь с главой конструктивистов, опубликовала в своем журнале его статью под броским названием «Итти ли нам с Маяковским!» (№ 2 за 1928 г.). Ответ был дан в категорической форме: нет, не идти! «Безвкусным, опустошенным и утомительным выходит мир из-под пера Маяковского. Гиперболизм Маяковского стоит рядом с минимализмом, с выхолащивающим упрощенчеством. Прочитайте его записки о заграничных путешествиях. Как поверхностно, как неволнующе скользит Маяковский по зеленым меридианам! Как обидно ничтожны люди, как балаганно выглядят Коралловые соборы человеческого труда и культуры других стран!.. В сущности, человека-то никогда не было у Маяковского»[393]. Все эти и им подобные несправедливые суждения о Маяковском повторялись в рапповских журналах из года в год. Маяковский волновался, возмущался, негодовал.
- Мы, мол, единственные,
- мы пролетарские…
- А я, по-вашему, что —
- валютчик?[394] —
с вызовом обращался поэт к писателям, именовавшим себя пролетарскими. Неоднократно он доказывал, что определение «попутчик» не имеет к нему никакого отношения, наоборот: «Кому я, к черту, попутчик: ни души не шагает рядом».
Маяковский всегда считал себя строителем пролетарского, социалистического искусства. С тех пор как возникло в стране пролетарское литературное движение, он поддерживал его. На 2-м пленуме РАПП 23 сентября 1929 года поэт заявил, что «мы считаем РАПП единственной для нас организацией, с которой мы солидаризуемся по большинству вопросов, – …что кадры это – пролетарские, на которые опирается будущая советская литература. Это основа наших отношений к РАПП. Она остается неизменной на протяжении семивосьмилетнего содружества, – иногда ругательного, иногда более тесного, но она до конца наших дней такой остается»[395].
Уже в 1928 году, выступая на собрании Федерации объединений советских писателей, Маяковский доказывал, что «нужно свои дряхлые отрепья литературных группировок сбросить с самой большой решительностью, с какой мы способны»[396]. И он это сделал. Он сбросил с себя «дряхлые отрепья» литературной группы Реф, чтобы вступить в самую массовую литературную организацию. Поэт так мотивировал свой поступок в заявлении от 3 января 1930 года: «В осуществление лозунга консолидации всех сил пролетарской литературы – прошу принять меня в РАПП.
1. Никаких разногласий по основной литературно-политической линии партии, проводимой РАПП, у меня нет и не было.
2. Художественно-методологические разногласия могут быть разрешены с пользой для дела пролетарской литературы в пределах ассоциации»[397].
В целях консолидации всех революционных сил литературы он предложил поступить так же остальным рефовцам. Но друзья Маяковского не поняли его поступка и, обидевшись, отвернулись от него. Зато рапповцы торжествовали победу. Однако это торжество, к сожалению, не было проявлением открытой и чистосердечной радости. Оно носило чванливый оттенок, свойственный недальновидным победителям. И сама процедура приема приобрела Оскорбительный характер для Маяковского. Вот как обо всем этом рассказывает Н. Асеев: «Нам казалось это (уход Маяковского в РАПП. – С. Ш.) недемократичным, самовольным: по правде сказать, мы сочли себя как бы брошенными в лесу противоречий. Куда же итти? Что делать дальше? И ответственность Маяковского за неразрешенность для себя этих вопросов огорчала и раздражала. Итти тоже в РАПП? Но ведь там недружелюбие и подозрительность к непролетарскому происхождению. Ведь даже самому Маяковскому пришлось выслушать при приеме очень скучные нравоучения о «необходимости порвать с прошлым», с «грузом привычек и ошибочных воззрений» на поэзию, которая была, по понятиям тогдашних рапповцев, свойственна только людям их пролетарского происхождения. Помню, как Маяковский, прислонясь к рампе на эстраде, хмуро взирал на пояснявшего ему условия его приема в РАПП, перекатывая из угла в угол рта папиросу»[398].
6 февраля 1930 года конференция МАПП рассмотрела заявление В. Маяковского, и поэт был единогласно принят в члены РАПП. Рядовые писатели пролетарской литературной организации были по-настоящему рады приходу в их ряды поэта революции. Но руководители организации все еще не считали Маяковского чисто пролетарским поэтом. Он еще должен был пройти испытательный срок, чтобы освободиться от «груза привычек и ошибочных воззрений» на поэзию. Трагическая смерть поэта была расценена рапповцами как доказательство их правоты в оценке Маяковского. На поэтическом производственном совещании (январь 1931 г.) в докладе «За художественное качество» Авербах заявил, что в период наступления социализма от Маяковского потребовалось «подлинное и окончательное выкорчевывание корней капитализма во всем его личном существе. Тяжесть самопеределки увеличилась: пролетарское искусство требовало не плакатного воспевания революции, но органического участия в ее практике, творчески органического служения… Не случайно Маяковский покончил счеты с жизнью именно тогда, когда в нашей стране произошло обострение классовой борьбы, когда мы подошли к завершению фундамента социализма»[399] (везде подчеркнуто Авербахом. – С. Ш.). Критикуя Троцкого за то, что тот утверждал, будто Маяковский не мог слиться с пролетарской поэзией, Авербах сам пришел к тем же выводам.
Подобное отношение к Маяковскому и привело комфракцию секретариата РАПП к принятию на своем заседании от 17 апреля 1930 года, через три дня после смерти поэта, решения, в которое нашему современнику трудно поверить и которое еще труднее понять. Вот выписка из протокола о статье Зонина в «Правде»:
«Поставить т. Зонину на вид за то, что его статья, пытающаяся противопоставить Маяковского основной группе писателей-коммунистов и объявить творческий метод Маяковского образцовым для пролетарской литературы, является политически ошибочной»[400] (подчеркнуто нами. – С. Ш.).
За два дня до этого решения в редакционной статье «Правды» было сказано примерно то же самое о творческом методе Маяковского, что и в статье Зонина. «Умер большой революционный поэт, умер мастер писательского цеха, неутомимый каменщик социалистической стройки.
Его жизнь, его литературная деятельность были посвящены выполнению этой трудной задачи, большевистскому «оборудованию» нашей планеты. Его книги – «все сто томов моих партийных книжек» – еще послужат пролетариату и Коммунистической партии в той борьбе, которую мы ведем. И пусть памятником ему будет «построенный в боях социализм»[401].
Пройдут годы. Смешными и непонятными окажутся попытки рапповцев отгородить Маяковского от народа. А. В. Луначарский, всегда высоко ценивший Маяковского и в меру сил защищавший его, сказал в годовщину смерти поэта: «Не все мы похожи на Маркса, который говорил, что поэты нуждаются в большой ласке. Не все мы это понимаем и не все мы понимали, что Маяковский нуждается в огромной ласке, что иногда ничего так не нужно, как душевное слово»[402].
Не ласку, а глухое непонимание и вражду встречал Маяковский со стороны руководителей РАПП, И это крайне болезненно воспринималось великим поэтом и отрицательно сказывалось на его работоспособности.
А. Фадеев разделял взгляды рапповцев на поэзию Маяковского. Тому есть много подтверждений. Фадеев присутствовал на злополучном заседании комфракции секретариата РАПП и поддержал ее решение. Ю. Либединский в своих воспоминаниях о Маяковском писал: «Нам, – об этом мы впоследствии не раз вспоминали с Фадеевым, – агитационные стихи Маяковского казались однодневками, которые, исполнив свою непосредственную политическую задачу, тут же умрут… Нам казалось тогда, что Маяковский, подчеркивая в пьесе «Клоп» проблемы разоблачения сегодняшнего мещанства, преувеличивал и что с мещанством навсегда покончено»[403]. Через много лет сам Фадеев признает свои заблуждения в оценке одного из самых знаменитых произведений поэта: «Я помню, как в десятую годовщину Октябрьской революции (а сейчас нам предстоит тридцатая!) Маяковский пригласил небольшую группу литераторов к себе на дом и впервые читал поэму «Хорошо!». Надо сознаться, что даже мы, выходцы из демократических низов, в известной мере тоже зачинатели советской литературы, не сразу поняли все величие и значение этой поэмы. Мы подошли к ней с узко литературной точки зрения. Нам не понравилась ее декларативность. В этой поэме, перед десятой годовщиной Октября, когда страна жила еще тяжело, когда стране было трудно, Маяковский говорил о ней, как о стране, уже утвердившей новый строй жизни. Он говорил о своей связи с Советской родиной. Теперь, спустя двадцать лет, эта поэма звучит во весь голос, и много из того, что было в ней только предвосхищено, осуществилось. Поэма «Хорошо!» была поистине пророческой»[404].
Таким образом, любое выступление Маяковского – и сатирическое и патетическое – отвергалось рапповцами. В самом деле, если Либединский признается, а это так и было, что им тогда казалось, будто Маяковский, «подчеркивая в пьесе «Клоп» проблему разоблачения сегодняшнего мещанства, преувеличивал и что с мещанством навсегда покончено», то Фадеев утверждал как раз обратное. Им не понравилась поэма «Хорошо!» за то, что Маяковский говорил в ней о стране, где уже будто бы утвердился новый строй жизни, в то время как «страна жила еще тяжело, когда стране было очень трудно». В первом случае Маяковского разносили за «клевету» на действительность; во втором случае за «декларативность» прославления все той же нашей советской действительности 20-х годов.
Рапповцы не понимали того, что Маяковский за годы Советской власти поднялся до высот мировой поэзии и стал основоположником социалистической лирики.
В воспоминаниях Ю. Либединского о Маяковском есть справедливый и глубокий вывод: «то, что налитпостовское руководство РАПП этого принципиального развития Маяковского не поняло, было одним из симптомов вырождения РАПП»[405].
ГЛАВА 13
Алексей Николаевич Толстой, как никто из советских писателей, испытал на себе тяжелое бремя рапповщины. Ни по кому так больно, продолжительно и несправедливо не колотила рапповская дубинка, как по бывшему графу Толстому. Начиная с момента его возвращения на Родину до ликвидации РАПП он для них оставался буржуазным писателем, выразителем сменовеховщины, главой реакционного крыла литературы. Даже Б. Пильняк вызывал у них надежды на перевоспитание. Алексей же Толстой, создавший уже вторую часть «Хождения по мукам», первую книгу «Петра Первого», никаких надежд у рапповцев не пробуждал. Отношение к А. Толстому – тоже один из самых убедительных «симптомов вырождения РАПП».
Рапповские критики не занимались серьезно и объективно творчеством Толстого. Они отделывались резкой бранью при появлении очередного произведения этого писателя, не хотели его знать и не знали. Толстого они игнорировали, потому что не верили ему, не верили в возможность его перехода на позиции Советской власти. Поразительная нечуткость и безразличие к большому своеобразному дарованию!
М. Горький еще в 1910 году, по первым рассказам А. Толстого, высоко оценил его талант, определил особенность и направленность этого дарования. Горький обрадовался появлению «нового Толстого». А рапповцы, даже после выхода таких произведений писателя, где прославлялась Октябрьская революция, не признавали его. Горький уже по начальным главам оценил «Петра» как «первый в нашей литературе настоящий исторический роман», а прочитав «18-й год», воскликнул: «Какое уменье видеть, изображать!»1. Рапповцы видели в лице Толстого лишь «классового врага» и в своих оценках его творчества исходили из этого ложного, оскорбительного для писателя ярлыка (их лозунги об усилении в литературе классовой борьбы и обосновывались главным образом творчеством и поведением Толстого).
Воронский стоял неизмеримо выше рапповцев в понимании роли и значения А. Толстого в советской литературе. Причисляя его к старшему поколению – Пришвину, Чапыгину, Вересаеву – и довольно строго оценивая этих писателей (они еще далеко не заняли «определенных и ясных позиций по отношению к современной практике коммунизма»), он совершенно четко заявил в 1927 году, что эта группа литераторов «в высшей степени нужная, полезная и культурная», «наиболее опытная в литературном мастерстве»[406].
Вяч. Полонский дал объективный и квалифицированный анализ первой части трилогии «Хождения по мукам» – романа «Сестры». В 1928 году, перепечатывая статью «Хождение по мукам» А. Толстого» в своем сборнике «Очерки современной литературы», критик написал к ней «Послесловие». Вот что в нем было сказано: «Настоящая статья была написана несколько лет назад. Алексей Толстой пережил с той поры значительную эволюцию: из писателя-эмигранта он превратился в советского писателя. Время и опыт внесли существенные поправки в мировоззрение автора. Эволюция эта, разумеется, не могла не отразиться в его произведениях. Многое, что видел он под углом зрения эмиграции, ныне получило в его глазах иное освещение…
В настоящие дни, когда пишется это послесловие, Алексей Толстой публикует вторую часть трилогии «Хождения по мукам». Роман, задуманный на «том берегу» и отразивший в первой части точку зрения «того берега», получает дальнейшее оформление на «нашем берегу». Нельзя сомневаться, что узлы, завязанные в первой части трилогии, получат, разумеется, разрешение, отличное от того, какое намечал вначале автор. Потому-то дальнейшие части трилогии «Хождения по мукам» должны вызвать к себе большой интерес. Алексей Толстой обладает выдающимся художественным талантом. Но одного таланта, даже очень большого, недостаточно, чтобы дать художественную, т. е. правдивую, объективную, лишенную классовых пристрастий, картину великой революции. Окажется ли Алексей Толстой на высоте, какой требует взятая им огромная тема? Ответ на этот вопрос дадут последние две части его трилогии, о которых будем говорить, когда они будут закончены»[407].
Точка зрения Полонского, которого рапповцы третировали как «либерала», «воронщика» и «троцкиста», была проявлением подлинной заботы о судьбе писателя, обладающего «выдающимся художественным талантом». Это была и объективная оценка эволюции Толстого, «превратившегося в советского писателя». Здесь же поставлены перед художником новые рубежи, которые он должен преодолеть в своем дальнейшем развитии. И он их преодолел благодаря мудрой справедливой политике нашей партии по отношению к таким, как он. На этом фоне объективности, требовательности и доброжелательства рапповская критика выглядит как совершенно чужеродное, противоречащее всему советскому духу явление.
В журнале «На литературном посту» (№ 2 за 1928 г.) в разделе «Библиография» помещен обзор некоего Ф. К. «По журналам». В нем подвергается резкой критике второй том «Хождения по мукам». В заключение автор вопрошает: «Почему так нестерпимо тоскливо читать эти страницы? Да потому, что писатель показывает только исторические марионетки, гораздо более интересно освещенные в мемуарной литературе»[408]. С таким пренебрежением журнал откликнулся на появление романа «18-й год».
Когда в 1929 году ГИЗом был издан роман А. Толстого «Хромой барин», к тому же без всякого критического предисловия, рапповцы откликнулись на это событие статьей «Необыкновенные успехи «Хромого барина». После разносного анализа романа автор, некий А. М., прочитал нравоучения Государственному издательству: «Необходимо самым резким образом протестовать против подобного продвижения литературы в массы, против массового распространения реакционных произведений, занимающихся апологией помещичье-дворянского уклада, – «Хромые баре» должны быть изгнаны из советской литературы»[409].
В 1930 году намечено было ОГИЗом издание сочинений А. Толстого. Журнал «На литературном посту» в редакционном предупреждении «Вниманию легкой кавалерии ОГИЗа» сигнализирует: «А. Толстой издает собрание сочинений в 15 томах сразу в двух издательствах: в ГИХЛе и в «Недрах». Этот писатель занимает к тому же место на реакционном фланге советской литературы»[410]. Как только вышла первая книга «Петра Первого», «На литературном посту» откликнулся статьей Н. Иезуитова «Петр – «европеизатор Руси». В ней автор претендует на историко-социальный анализ. Он утверждает, что «буржуазно-меньшевистскую теорию положил А. Толстой в основу романа «Петр Первый»… Итак, – глубокомысленно замечает критик, – в итоге длительной работы А. Толстого над эпохой Петра Первого автор не пошел дальше буржуазной концепции русского исторического процесса». Свою главную задачу Н. Иезуитов видит в том, чтобы «вскрыть буржуазно-историческую теорию»[411], легшую в основу романа.
Один из видных деятелей РАПП, специализировавшийся по вопросам попутничества, А. Селивановский, выступил на майском пленуме ВОАПП в 1931 году с докладом «Попутничество и союзничество». Следует отметить, что перед этим выступлением Селивановского комфракция секретариата РАПП 18 мая 1931 года вынесла постановление: «Поручить тт. Фадееву и Селивановскому составить документ от имени РАПП о положении среди попутчиков, в котором дать развернутую новую постановку проблемы попутничества на новом этапе и определить политическую линию РАПП по отношению к попутничеству»[412]. Таким образом, доклад Селивановского «Попутничество и союзничество» согласован был с А. Фадеевым и выражал политическую линию РАПП по отношению к «попутничеству на новом этапе». Именно на этом новом этапе и будет выброшен лозунг «Союзник или враг», также разделявшийся Фадеевым.
В каком непроходимом противоречии находились рапповцы в решении проблемы попутничества, видно из этого доклада. С одной стороны, А. Селивановский говорит: «Мы не заинтересованы в том, чтобы любого писателя, сколько-нибудь для нас ценного, отталкивать в лагерь классовых врагов. Мы заинтересованы в другом: в том, чтобы каждый сколько-нибудь творчески ценный писатель был сохранен для нашей литературы», «даже Пильняк»[413]. С другой стороны, докладчик безжалостно отталкивает А. Толстого в лагерь буржуазной литературы: «И пьеса «Это будет», и «Черное золото», и «Записки Мосолова» представляют собой образец «красной халтуры»[414]. «Те писатели, которые в наибольшей степени связаны с буржуазной литературой, входят в литературную агентуру буржуазии, – именно эти писатели (Буданцев, Шкловский, Ал. Толстой, Замятин и др.) раскрывают перед нами картину художественного оскудения и обнищания»[415]. Впрочем, у Селивановского как раз противоречия нет. У него строго выдержанная логика: А. Толстой «входит в литературную агентуру буржуазии» – и потому он бездарен. Противоречие в оценке Толстого проявилось в докладе Авербаха «Очередные задачи ВОАПП» (на том же, майском, пленуме). В разделе «О попутчиках, о союзниках, об Алексее Толстом» Авербах высоко оценивает талант художника, именуя его «большим писательским дарованием». Но это не мешает Авербаху противопоставить А. Толстого всей советской литературе. «Тех писателей, – говорит Авербах, – которые идут к нам, мы должны каждый день заставлять выбирать, – нет единой грузинской, армянской, украинской национальной литературы, выбирайте, с кем вы? Вот вам даны пролетарские писатели и даны такие писатели, как Алексей Толстой, выбирайте – с кем вы? – и дальше он утверждает. – Роман «Черное золото» – бульварная авантюрщина, с искусством имеющая мало общего. Там дан стандартный сюжет из любого второсортного авантюрного романа, для интереса добавлены некоторые исторические фамилии, Денисов, Милюков, для обывательского интереса показано, как они пьют чай и т. д., и затем определенное количество эротики для того, чтобы можно было пережить те «идеи», которые в порядке принудительного ассортимента от большевизма вкладывает Алексей Толстой в свое произведение. Такого рода произведения очень легко делать, в особенности имея писательское дарование Алексея Толстого – а это большое писательское дарование сказывается даже и в «Черном золоте»…