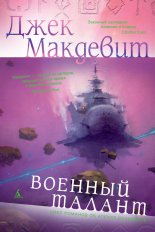Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов Шешуков Степан

Алексеи Толстые любят говорить, что идет новая литература, но что она дает? Мы можем ответить, что бы она ни дала, это будет все-таки лучше, чем роман «Черное золото». Но это не критерий. Какой критерий «Черное золото»? Конечно, мы напишем и уже пишем лучше, чем написал Толстой это «Черное золото». Это даже не материал для сравнения, для отталкивания, а это материал для отбрасывания (аплодисменты). Когда я говорю о «Черном золоте», я хочу указать на мимикрию писателя»[416].
В брошюре, где опубликован доклад Авербаха, дана сноска: «Это, конечно, предварительная оценка, так как роман еще только печатается»[417].
Своим «анализом» романа «Черное золото» Авербах подтвердил справедливость слов А. Толстого, что «рапповцы не научились разбираться в искусстве». Но это не главное из того, что мы обнаруживаем у «вождя» РАПП в его рассуждениях о Толстом. Можно пройти также мимо бессовестного замечания Авербаха о предварительной оценке романа, так как большая часть его к тому времени еще не была опубликована. Главное состоит вот в чем.
Доклад Авербаха слушался на пленуме Всесоюзного объединения ассоциации пролетарских писателей, где присутствовали представители России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, представители Международного объединения революционных писателей. С этой высокой трибуны Авербах потребовал от всех советских писателей ответить на вопрос: «Вот вам даны пролетарские писатели, и даны такие писатели, как Алексей Толстой, выбирайте – с кем вы?» В мае 1931 года А. Толстой был противопоставлен всей передовой советской литературе в качестве ее врага, в качестве главы всей буржуазной литературы, или, по выражению А. Селивановского, в качестве «литературной агентуры буржуазии». Слова Авербаха не бросались на ветер, к ним делегаты пленума относились с полной серьезностью, как к директиве, как к основной литературно-политической линии РАПП. Это одурманивало головы прежде всего писательской молодежи. Недаром, когда Авербах заявил, что «Черное золото» – «это материал для отбрасывания», в зале заседания раздались аплодисменты. В этом и заключается особый вред выступления генерального секретаря РАПП. Тем более что доклад Л. Авербаха был опубликован в журнале «На литературном посту», издан отдельной брошюрой в 20 тысяч экземпляров и озаглавлен «За гегемонию пролетарской литературы».
Нас сейчас поражает узость и ограниченность рапповцев в подходе к творчеству большого советского художника. Но к этому времени их позиция уже не была так опасна. Тем более что М. Горький, оберегавший писателя, уже в январе 1930 года добился согласия И. В. Сталина привлечь Толстого к делу большой государственной и партийной важности – к созданию «Истории гражданской войны». Как известно, к такого рода изданиям привлекались писатели, не только всесторонне и основательно знающие историю гражданской войны, но и глубоко, по-марксистски ее понимающие. Все это проявилось в деятельности Алексея Толстого, и он с честью оправдал оказанное ему доверие.
Как ни тяжело было А. Н. Толстому, он прекрасно понимал, что не рапповцы определяют его судьбу. В январе 1933 года, когда отмечалось 25—летие его творчества, с глубокой убежденностью писатель заявил: «Если бы не было революции, в лучшем случае меня бы ожидала участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октябрьская революция как художнику дала мне все»[418].
ГЛАВА 14
К старшему поколению советских писателей – М. Пришвину, С. Сергееву-Ценскому, В. Вересаеву, А. Чапыгину, В. Шишкову, О. Форш, С. Есенину и другим так называемым попутчикам, создавшим нашу большую литературу, проявилось со стороны руководителей и критиков РАПП в общем ровное, но упорное недоверие. Каждый из этих писателей прошел свой сложный путь к революции, через эпоху революции, к полному признанию Советской власти как своей родной власти. В 20-е и 30-е годы каждый из них создал произведения, которыми мы сейчас гордимся: «Анна Снегина», «Одеты камнем», «Угрюм река», «Кащеева цепь», «Разин Степан», «Севастопольская страда» и др. Ни личные судьбы этих писателей, ни их творческие пути, ни их художественные достижения, ставшие достижениями всей нашей литературы, не интересовали рапповцев и не были им по-настоящему известны. Судили они о попутчиках с точки зрения политической и только тем и занимались, что сортировали их по рапповским полочкам. То же самое производили они с попутчиками младшего поколения: Л. Леоновым, К. Фединым, А. Малышкиным, Вс. Ивановым, М. Шагинян и многими другими, на чьих плечах и поднялась наша современная литература.
В докладе А. Селивановского «Попутничество и союзничество», о котором у нас уже шла речь, для советских писателей установлено пять разрядов: буржуазные писатели, правые попутчики, левые попутчики, союзники и пролетарские писатели. Попасть попутчику в разряд «пролетарский писатель» было делом страшно трудным, почти невозможным. Надо было иметь слишком много достоинств. До каких, например, курьезов доходили рапповцы в сортировании попутчиков по разрядам, видно по оценке творческой судьбы Вс. Иванова. Об этой писательской судьбе Селивановский «глубокомысленно» рассуждает: «Рассмотрим творчество Вс. Иванова, его книги «Повесть бригадира Синицына» и «Путешествие в страну, которой еще нет». Можем ли мы назвать эти произведения «буржуазной литературой»? Конечно, нет. Можем ли мы сказать, что Вс. Иванов выступает уже как союзник пролетариата? Нет… Вс. Иванов на сегодняшний день остается попутчиком»[419]. Остается, и все тут! Так и ходил Вс. Иванов в попутчиках, пока в 1932 году благодаря вмешательству ЦК ВКП(б) не стал членом правления Союза советских писателей СССР и не сел как равный рядом с А. Фадеевым, В. Киршоном и В. Ставским за один стол президиума.
Если рапповцы не интересовались судьбами попутчиков и не знали их творчества, хотя, как видим, распоряжались ими и судили их со всей категоричностью, то любое произведение пролетарского писателя, особенно руководителя, даже слабое, вроде «Рождения героя» Ю. Либединского, становилось предметом дискуссии целой организации, всей рапповской, да и не только рапповской, прессы. Так как рапповцы не умели вести диспут на должном уровне, их спор превращался в групповые дрязги, в ругань и затягивался на месяцы, что отвлекало их от работы, связанной с вопросами развития большой нашей литературы, и они замыкались в узком кругу, тратили силы попусту. Об этом очень правильно и хорошо писал Фадеев в своих статьях «Старое и новое». Рапповцы-руководители, говорит он, пользовались особой привилегией, вокруг их произведений, даже малохудожественных, поднимались дискуссии во всесоюзном масштабе. Так было с «Ведущей осью» Ильенкова. «В этом было нарушение всех пропорций. В стране, где работают революционные писатели таких своеобразных дарований, как Бабель, Вс. Иванов, Олеша, Шолохов, Слонимский, Луговской, Тихонов, Демьян Бедный, Огнев, Сельвинский, Форш, Леонов, Шагинян, М. Кольцов, Либединский, Семенов, Сейфуллина, Федин, Афиногенов, В. Катаев, Гидаш, Малышкин, Светлов, Багрицкий, Габрилович и др., в стране, где творил Маяковский и остались его произведения, в стране, где создается такое мощное произведение мировой литературы, как «Клим Самгин», автор которого имеет за плечами сорок лет литературной работы, воспитавшей и воспитывающей целые поколения рабочих и крестьян, – в этой стране есть кое о чем подискуссировать и кроме «Ведущей оси» Ильенкова»[420].
Многое Фадеев передумал, переоценил, понял через полгода после решения ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Однако не все, далеко не все. В своих статьях «Старое и новое» к заслугам РАПП Фадеев отнес борьбу с враждебной литературой – «стоит упомянуть критику романов «Красное дерево» и «Волга впадает в Каспийское море» Пильняка, «Мы» Замятина, очерков группы писателей «Балахна», «Впрок» Платонова, рассказов Буданцева и т. п.».
Произведения Б. Пильняка и Е. Замятина заслуживали резкого осуждения. Но и только. Сборник очерков о Балахне и рассказы Буданцева несправедливо отнесены к враждебной литературе. Что касается Андрея Платонова, то он достоин особого внимания.
Андрей Платонов явился в литературе 20-х годов дарованием необычайно своеобразным. В одном и том же его произведении органически сочетались, казалось бы, несочетаемые черты: реализм и фантастика, сатира и лирика, психологизм и публицистика. Его герои, даже те из них, которым писатель открыто симпатизировал, несли в себе самые неожиданные начала: стремление к светлому будущему совмещалось с наивным чудачеством, ненависть к бюрократизму – с анархическим отрицанием всякой государственности, народность – с первозданным невежеством, гуманизм – с толстовским непротивленчеством. Все это сразу же уловил М. Горький, как только ознакомился с романом «Чевенгур» в 1929 году. «Но, – пишет он А. Платонову, – при неоспоримых достоинствах работы вашей, я не думаю, что ее напечатают, издадут. Этому помешает анархическое ваше умонастроение, видимо, свойственное природе вашего «духа». При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являются перед читателем не столько революционерами, как «чудаками» и «полоумными»… Добавлю: среди современных редакторов я не вижу никого, кто бы мог оценить ваш роман по его достоинствам. Это мог бы сделать А. К. Воронский, но, как вы знаете, он «не у дел»[421].
Будучи еще «у дел», Воронский сумел оценить «по достоинствам» рассказы Андрея Платонова. В августе 1927 года, ознакомившись с повестью «Сокровенный человек», Воронский сообщал Горькому: «Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя еще и неуклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове – этакий русский Уленшпигель, – занятно»[422].
Горький не только увидел особенности дарования Платонова, он понял, что эти особенности помешают рассмотреть «неоспоримые достоинства» писателя и, самое главное, разглядеть, как выразился Воронский, что Андрей Платонов «честен в письме».
С 1927 года рассказы и повести Платонова часто появлялись в журналах, в 1929 году в издательстве «Федерация» вышел третий сборник его произведений «Происхождение мастера» (так называлась первая часть романа «Чевенгур», опубликованная здесь).
В девятом номере журнала «Октябрь» за 1929 год был помещен рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар». Герой рассказа – народный правдоискатель. Прибыв из деревни в столицу, он ищет человека, который объяснил бы ему, почему в нашем государстве так много беспорядков и бюрократизма, и научил бы его, как с ними бороться. Наконец Макар встречается с рабочим коммунистом Петром. Вместе они добиваются руководящих должностей в государственном учреждении и начинают править по-новому. Их руководство сводилось к тому, чтобы самих граждан научить решать все вопросы, без помощи государственного аппарата. «Скоро, – пишет Платонов, – и народ перестал ходить в учреждения Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах»[423].
Рассказ «Усомнившийся Макар» явился откликом на статьи В. И. Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше», написанные и опубликованные в 1923 году. В самом тексте рассказа есть указания на содержание этих статей. В. И. Ленин с большой обеспокоенностью и, что всегда было присуще великому учителю, с беспощадной правдивостью писал: наш госаппарат «только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым типичным старым из нашего старого госаппарата»[424]. «Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность или даже свою бесполезность, или даже свою вредность. Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги.
Надо, наконец, чтобы это стало иначе»[425]. В. И. Ленин предлагает пути улучшения госаппарата: «Как мы действовали в более опасные моменты гражданской войны?
Мы сосредоточивали лучшие наши партийные силы в Красной армии; мы прибегали к мобилизации лучших из наших рабочих; мы обращались за поисками новых сил туда, где лежит наиболее глубокий корень нашей диктатуры.
В этом же направлении нам следует, по моему убеждению, искать источник реорганизации Рабкрина»[426].
Нарисовав в рассказе «Усомнившийся Макар» сатирическую картину деятельности работников советского госаппарата, Андрей Платонов предложил свой путь исправления их недугов: путь полной демократизации и самоустранения, самоликвидации – «и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах».
Разумеется, вывод, к которому пришел писатель, был утопическим. В 1929 году, когда внутренняя и внешняя обстановка диктовала усиление и укрепление нашего госаппарата, платоновская постановка выглядела невероятной, потому что она была ошибочной. Но, с другой стороны, критикам надо было учитывать, что это – сатирико-фантастическое произведение, сам жанр которого допускает смещения, преувеличения и т. п. Главное же, им следовало выяснить, во имя чего был так поставлен вопрос А. Платоновым, какие он преследовал цели? Направляя свой роман «Чевенгур» М. Горькому, писатель с удивлением и растерянностью сообщал: «Ее не печатают (в «Федерации» отказали), говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все произведение поймут даже как контрреволюционное. Я же работал совсем с другими чувствами и теперь не знаю, что делать»[427].
Наши современники не сомневаются, верят признанию писателя, что он «работал совсем с другими чувствами» – не с теми, которые ему приписывали тогда. Но в ту пору, как и предполагал Горький, редко кто мог понять это и поверить Платонову.
Но не только писателей волновало состояние литературного движения в стране. Это было предметом заботы руководителей партии и правительства. Известно, как И. В. Сталин, понимая огромное общественное значение литературы, был хорошо знаком с литературным движением и внимательно следил за литературной борьбой и за выпускаемой художественной продукцией.
Прочитывая сентябрьскую книжку журнала «Октябрь» за 1929 год, он обратил внимание на рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар».
Время было напряженное, в стране началась коллективизация, шла ликвидация кулачества как класса. В этой обстановке Сталин расценил произведение А. Платонова с политической точки зрения и признал его вредным. Редактору журнала «Октябрь» было сделано серьезное внушение за публикацию «Усомнившегося Макара». По стечению обстоятельств исполняющим обязанности ответственного редактора журнала в тот период оказался А. Фадеев. В письме к Р. С. Землячке (декабрь 1929 г.) Фадеев сообщает: в «Октябре» «я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина, – рассказ анархистский; в редакции боятся теперь шаг ступить без меня»[428].
Вскоре Авербах выступил с разгромной статьей, где рассказ квалифицировался как «враждебный нам», а его автор как классовый враг. Допустимо, что Фадеев мог согласиться с тем, что публикация этого «анархистского» по содержанию произведения явилась несвоевременной, но в то же время он должен был со всей решительностью возразить Авербаху и всем, кто его поддерживал, что Платонов – не классовый враг, а честный советский писатель, который по-своему хотел добра своему народу, своей стране, но впал в ошибку. Фадеев же этого не сделал. Наоборот, он согласился с оценкой Авербаха и в примечании редакции «Октября» заявил вместе с другими: «Редакция разделяет точку зрения т. Авербаха на рассказ «Усомнившийся Макар» А. Платонова и напечатание рассказа в журнале считает ошибкой. А. Серафимович, А. Фадеев, М. Шолохов»[429]. Как видим, имена-то все очень дорогие нашему сердцу, а разделили они точку зрения Авербаха, который в своей статье «О целостных масштабах и частных Макарах» писал: «Рассказ Платонова – идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. В нем есть двусмысленность… Но наше время не терпит двусмысленности: к тому же рассказ в целом вовсе недвусмысленно враждебен нам». Авербах, как всегда, определенен: «А. Платонов – писатель из рабочих… тем яснее должны быть линии нашего размежевания с ним, тем полнее должно быть разъяснение ошибки «Октября»!»[430].
Через два года Фадеев вновь оказался в опале из-за Андрея Платонова. В «Красной нови», как раз в тот момент, когда Фадеев был назначен ответственным редактором этого журнала, появился рассказ А. Платонова «Впрок (бедняцкая хроника)» (№ 3 за 1931 г.). По поводу публикации этого произведения состоялось специальное решение комфракции секретариата РАПП от 26 июня 1931 года, в котором записано: «Отметить грубую политическую ошибку т. Фадеева, пропустившего в «Красной нови» «Впрок» Платонова, получивший достаточную оценку на страницах партийной печати;…отметить, что причины фактов подобного рода могут лежать только в ослаблении классовой и партийной настороженности наших редакций»[431].
Обратимся к «Бедняцкой хронике» А. Платонова, к ее содержанию.
Электромонтер (от его имени ведется рассказ) приглашен председателем колхоза «Доброе начало» Кондровым исправить потухшее «колхозное солнце» – рефлектор большой силы, освещавший всю деревню и места работы. Поднявшись на вышку, где был помещен рефлектор, и прочитав висевший там «Устав для действия электросолнца», рассказчик задумался: «Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого – сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого»[432]. Это философско-лирическое отступление, очень емкое, многозначительное, в идейном отношении совершенно определенно. Автор тонко осмеивает «душевных бедняков», то есть тех интеллигентов, которые даже сочувствуют новому человеку, преобразующему мир. Но вместе с тем «душевные бедняки», ничего, кроме сомнения, не имеющие, боятся преобразований нового человека, боятся, что этот новый человек уйдет вперед, в будущее, оставив их одних умирать в прошлом, и они хотели бы, чтобы преобразователь отказался от своих начинаний и вернулся к ним. Как суровый приговор всем безнадежным скептикам звучит последняя фраза: «Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого – сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого».
Можно ли по-другому истолковать идейное содержание рассказа «Впрок», если, как мы убеждены, действительно наше толкование правильное? Можно – при том условии, если не разберешься в сложности идейного содержания произведения, в своеобразии манеры писателя-сатирика.
Не поняв «Бедняцкой хроники» А. Платонова и не стремясь ее понять, рапповцы сразу же отнесли повесть к «явно-буржуазным уклонениям» и подвергли разносной критике. Конечно, «Впрок» Платонова – произведение очень своеобразное и сложное, как почти все произведения этого писателя. В нем все окрашено юмором, местами переходящим в иронию. Мастер детали, Платонов порой использовал ее так неожиданно, что возникала двусмысленность при восприятии. Например: «Отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм»[433]. Автору, видимо, следовало избегать этого, освобождать произведение от нагромождения подобных двусмысленностей, чтобы сохранить и донести до читателя большую и важную мысль. Но кто знает: очисти он от подобных деталей вещь, и она потеряет свою неповторимость и свое очарование.
Журнал «На литературном посту» выступил со статьей И. Макарьева. Уже само заглавие ее определяло отношение критика к «Бедняцкой хронике», – «Клевета». Незадолго до этой статьи И. Макарьев здесь же ратовал за художественное творчество, которое «требует проявления величайшей терпимости, такта, чутья», что «без этого мы вперед не пойдем»[434]. Через два же месяца критик пишет в статье о Платонове так: «Вы чувствуете, что это клевета классового врага на колхозы, на колхозные кадры, на всю нашу работу», «…вылазка произведена хитрым, но мало талантливым представителем кулачества». «Трудно найти оправдание для редакции «Красной нови», сделавшей совершенно недопустимую политическую ошибку, позволившей классовому врагу использовать для клеветы на нас нашу же печать»[435].
В тяжелое положение попал Фадеев. Он допустил, как говорилось в решении комфракции, «грубую политическую ошибку», это произошло у него из-за «ослабления классовой и партийной настороженности». Печать подвергла журнал, им редактируемый, суровому осуждению.
Фадеев был воспитанник Коммунистической партии с юношеских лет. Он всегда оставался идейно убежденным и дисциплинированным коммунистом. Указания ЦК партии, тем более его решения никогда не подвергались Фадеевым сомнению. Когда было опубликовано постановление ЦК ВКП(б), по которому ликвидировалась РАПП, Фадеев заявил, что эта «резолюция гениально проста» и «не нуждается ни в каком истолковании»[436]. Так он вел себя всегда по отношению к нашей партии.
Допуская собственные ошибки и убедившись, что это действительно ошибки, Фадеев никогда не упорствовал, признавал их и исправлял. Признал политической ошибкой Фадеев и публикацию рассказа «Впрок».
Трагическое положение, в котором оказался Фадеев и которого тогда не осознавал, заключалось в том, что никакой политической ошибки он не допускал; но, подвергшись резкой критике и признав ее правильной, он сам обрушился на честного советского писателя с такими серьезными политическими обвинениями, которые поставили Андрея Платонова вне литературы на целое десятилетие. С 1931 по 1941 год – в период своего расцвета – он смог опубликовать только один небольшой сборник рассказов «Река Потудань». Оскорбленный несправедливостью А. Платонов в письме к М. Горькому от 24 июля 1931 года с гордостью сказал о себе: «Рабочий класс – это моя родина, и мое будущее связно с пролетариатом…»[437].
Так, наряду с тем большим плодотворным делом, которое Фадеев осуществлял и будет с годами осуществлять на благо нашей литературы, станут от года к году накапливаться трагические страницы истории его деятельности, которые он с глубочайшим потрясением прочтет и осознает перед концом своей жизни.
В журнале «Красная новь» (№ 5–6 за 1931 г.) Фадеев выступил со статьей «Об одной кулацкой хронике». В начале статьи автор намечает возможные типы кулацких агентов, а затем пишет: «Одним из кулацких агентов указанного типа является писатель Андрей Платонов, уже несколько лет разгуливающий по страницам советских журналов в маске «душевного бедняка», простоватого, беззлобного, юродивого, безобидного «усомнившегося Макара»… Но, как и у всех его собратьев по классу, по идеологии, под маской простоватого, «усомнившегося Макара» дышит звериная, кулацкая злоба, тем более яростная, чем более она бессильна и бесплодна… Повесть Платонова «Впрок» с чрезвычайной наглядностью демонстрирует все наиболее типичные свойства кулацкого агента самой последней формации – периода ликвидации кулачества как класса и является контрреволюционной по содержанию»[438].
Высмеяв Платонова за выдуманное им «колхозное солнце», Фадеев делает вывод: «Враг знает, куда он метит: он высмеивает то массовое движение за овладение техникой, которое является одним из вернейших орудий в классовой борьбе пролетариата и руководимых им масс крестьянства»[439]. Все в повести Фадееву кажется фальшивым. «И каким отвратительным лицемерием звучит «жалостливая» сентенция Платонова об одном из колхозных руководителей: «Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдает что угодно. А с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику». Омерзительный фальшивый кулацкий Иудушка Головлев». В заключение статьи Фадеев беспощадно бичует свой промах: «…коммунисты, не умеющие разобраться в кулацкой тактике таких «художников», как Платонов, обнаруживают классовую слепоту, непростительную для пролетарских революционеров, и потому нас, коммунистов, работающих в «Красной нови», прозевавших конкретную вылазку агента классового врага, следовало бы примерно наказать, чтобы наука пошла впрок»[440].
Невозможно сомневаться в искренности заблуждений Фадеева. Мы постоянно подчеркивали, что на протяжении всей своей деятельности он – касалось ли это человеческих отношений или относилось к битвам на литфронте – всегда был предельно честным, искренним и благородным. Но при всем нашем глубочайшем уважении к памяти Фадеева и к его заслугам перед литературой, а точнее – благодаря этому уважению мы обязаны сказать о нем всю правду; тем более сказать об этом следует, потому что ошибки такого рода были присущи всей ведущей литературной организации страны, влиявшей на развитие советской литературы в целом, – РАПП.
ГЛАВА 15
Рапповцы с недоверием относились даже ко многим писателям, которые состояли в их организации. Особо это проявилось в отношении к М. А. Шолохову.
Михаил Шолохов числился постоянным членом редколлегии журнала «Октябрь». Большего рапповцы ему не доверяли. Он не входил в напостовскую группу, ни разу не избирался в секретариат РАПП и не принимал участия в тех баталиях, которые беспрерывно затевались рапповцами. Он писал.
Как ни покажется странным, но этот период пребывания в РАПП и был самым плодотворным в творческой работе М. Шолохова. К 1933 году кроме рассказов им были опубликованы три книги «Тихого Дона» и первая часть «Поднятой целины», то есть за первое десятилетие сделано значительно больше, чем за последующие почти сорок лет творчества.
Для рапповцев Шолохов был тоже сложной фигурой. Пролетарский писатель из зажиточной казачьей среды, прославляющий свой Тихий Дон, вызывал у них настороженность. Только А. Серафимович поверил в него сразу и на всю жизнь. В разные моменты по-разному складывалось отношение рапповцев к Шолохову, но общая тенденция их оценок сводилась к тому, что писатель, мол, постепенно переходит на позиции пролетариата, хотя ему далеко еще до Ю. Либединского. Крайне левые рапповские течения относили Шолохова к идеологам кулачества.
В 1927 году на губернской конференции МАПП В. Ермилов, обозревая в своем докладе «Творческое лицо МАПП», оценил «Донские рассказы» и «Лазоревую степь» как отклонение «от стиля пролетарской литературы». Назвав Шолохова «начинающим», но «бесспорно талантливым писателем», критик устанавливает в его произведениях «некоторую искусственность языка, вызванную тем, что он иногда склонен механически взять приемы Бабеля. Но, кроме того, у него имеется некоторый скат к натурализму, известное смакование чисто физиологических подробностей смерти, подробностей ранения; он любит показать какую-нибудь рваную рану, любит показать, как из отрубленной ноги течет кровь, любит останавливаться на таких чисто натуралистических подробностях»[441]. Такая оценка рассказов М. Шолохова была крайне односторонней. Ермилов не обнаружил в них самого главного, что сразу же отметил в своем предисловии к первому изданию «Донских рассказов» Серафимович: «Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко и рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды. Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз, умение выбирать из многих признаков наихарактернейшие»[442].
Как видим, у большого мастера пролетарской литературы совершенно противоположное мнение о рассказах Шолохова: не натурализм, а правда жизни; не «смакование чисто физиологических подробностей», а чувство меры и умение выбирать из многих признаков наихарактернейшие; не искусственность языка, идущая от механического подражания Бабелю, а тот образный, цветной язык, «которым говорит казачество».
На съезде пролетарских писателей (май 1928 г.), когда уже первый том «Тихого Дона» вышел в свет и получил всеобщее одобрение, тот же Ермилов высоко оценил Шолохова в своем докладе «О творческом лице пролетарской литературы». Теперь уже Шолохов поставлен в ряд с лучшими, по мнению критика (да и по мнению руководства РАПП, ибо все доклады на съезде утверждались секретариатом), пролетарскими писателями. «Всем отклонениям, – заявил докладчик, – от нашего стиля противостоит в пролетарской литературе основное реалистическое ядро, связанное с именами Серафимовича, Фадеева, Либединского, Сергея Семенова, М. Шолохова, Ф. Панферова»[443].
Первый том «Тихого Дона» получил восторженный отзыв А. Серафимовича в «Правде», тепло был встречен роман и в журнале «На литературном посту». Однако некоторые местные рапповцы высказали критическое соображение в том духе, что в романе неясно проглядывает «пролетарская линия» (ростовский журнал «На подъеме» № 11 за 1928 г., статья «О чем не рассказывается в романе «Тихий Дон»).
В октябре 1928 года состоялся 1-й пленум РАПП. Все его заседания были посвящены творческим вопросам, даже обсуждению отдельных произведений. Выступил с особым докладом о «Тихом Доне» В. Ермилов. Главная проблема, интересовавшая критика, сводилась к тому, чтобы выяснить, как писатель относится к своему главному герою, смотрит ли он на все им изображаемые события глазами Григория Мелехова или нет? От того или иного ответа на этот вопрос в дальнейшем делался окончательный вывод о писателе. По опубликованному тому трудно было еще сказать что-либо определенное о перспективе развития героя, и Ермилов высказывает свои предположения и делает выводы, в общем благоприятные для Шолохова. «Мы имеем такое положение, когда все, что относится к большевикам, гораздо слабее и меньше, чем то, что относится к казачеству. Если это так, если автор смотрит глазами Мелехова, то все же пролетарский он писатель или нет? Все, что относится к Мелехову, можно сформулировать одной фразой – это постепенный путь человека к большевизму»[444]. В связи с таким предположением Ермилов опровергает утверждение отдельных критиков, будто Шолохов кулацкий писатель. Критик ошибся в своих прогнозах: Григорий Мелехов не придет к большевизму в том облегченном схематичном плане, как представляли себе рапповцы. Путь героя будет бесконечно сложным и трагическим. Но уже и то хорошо в заблуждениях рапповцев, что они на этом этапе признавали за Шолоховым движение к большевизму и не мешали ему работать.
С выходом второй книги «Тихого Дона» (1929 г.) отношение к Шолохову резко изменилось. Обстановка стала напряженной. Возникла острая дискуссия, крайне волновавшая писателя. Стали распространяться клеветнические слухи, по которым подвергалась сомнению оригинальность рукописи «Тихого Дона».
Кстати, у нас до сих пор бытует мнение, будто «рапповские вожди состряпали чудовищное обвинение Шолохова в плагиате»[445].
Это не совсем так. Авторы книги, из которой мы цитируем, знают, что, как только распространились слухи о плагиате, рапповские вожди вынуждены были выступить со следующим «Письмом в редакцию», опубликованным в «Правде» 29 марта 1929 года: «В связи с тем заслуженным успехом, который получил роман пролетарского писателя Шолохова «Тихий Дон», врагами пролетарской диктатуры распространяется злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи, что материалы об этом имеются якобы в ЦК ВКП(б) или в прокуратуре (называются также редакции газет и журналов). Мелкая клевета эта сама по себе не нуждается в опровержении. Всякий, даже неискушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей.
Пролетарские писатели, работающие не один год вместе ст. Шолоховым, знали весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над «Тихим Доном», материалы, которые он собирал и изучал, работая над романом, черновики его рукописей…
Чтобы не повадно было клеветникам и сплетникам, мы просим литературную и советскую общественность помочь нам в выявлении «конкретных носителей зла» для привлечения их к судебной ответственности.
По поручению секретариата РАПП: А. Серафимович, Л. Авербах, В. Киршон, А. Фадеев, В. Ставский».
Таким образом, рапповское руководство оборонило от клеветы М. Шолохова, хотя именно в рапповской обстановке зародилась эта клевета. Дискуссия, волновавшая писателя, продолжалась. К ней подключились местные рапповские журналы. Нашумевшее в 1929 году «Настоящее» отдало скандальную дань травле и Шолохова. В статье «Почему Шолохов понравился белогвардейцам?» сообщается о том, что «Тихий Дон» был издан в берлинском издательстве «Петрополис», где и роман Б. Пильняка «Красное дерево». Это дает повод рецензенту для следующих заключений: в «Тихом Доне», «имея самые лучшие субъективные намерения, Шолохов объективно выполнил задание кулака… В результате вещь Шолохова стала приемлемой даже для белогвардейцев»[446].
Земляки М. Шолохова не уступали «настоященцам» в клевете на писателя. Вместо того чтобы радоваться появлению на их родной земле такого таланта и защитить его, они в северо-кавказской печати стремились опорочить писателя, обвиняя его во всех грехах.
Чем сложнее и глубже от книги к книге решались проблемы в «Тихом Доне», чем меньше оставалось у рапповцев надежд на желанный и скорый переход Григория Мелехова к большевикам, тем резче и???? становились оценки Шолохова. На 2-м пленуме РАПП (сентябрь 1929 г.) разгорелись с новой силой споры о «Тихом Доне». Лидия Тоом и Александр Бек, представители «левого» напостовства, доказывали, что Шолохов никак не может быть пролетарским писателем, что он с любовью изображает старый казачий быт и что в «Тихом Доне» проповедуется кулацкая идеология. Ответственные руководители РАПП А. Фадеев, А. Селивановский, В. Еомилов по-прежнему отстаивали ту точку зрения, что М. Шолохов идет к пролетариату. Селивановский утверждал, что «в Шолохове писатель пролетарский перерастает писателя крестьянского. Но этот процесс перерастания отнюдь не законченный»[447].
Твердую и правильную позицию занял Фадеев. Он сказал: «Шолохова ни в коем случае не нужно расценивать как писателя враждебного и ни в коем случае нельзя относиться враждебно. Это было бы преступно. Но… надо стараться, чтобы он органичным путем все более и более приближался к пролетариату»[448]. Большинство из принимавших участие в дискуссии по Шолохову высказались в духе Фадеева. Правда, эта позиция базировалась на том предположении, что Григорий Мелехов все еще идет к признанию революции. Советские литературоведы и критики, выступавшие в рапповских журналах, А. Ревякин, И. Машбиц-Веров, И. Нович давали положительную оценку «Тихому Дону», исходя из этого же предположения. «Всякий другой путь, – заявил И. Нович, – пожалуй, окажется насильственным и отменит опубликованные части романа в их значении для пролетарской литературы»[449].
Журнал «На литературном посту» перестал именовать М. Шолохова «пролетарским писателем». Он предоставил трибуну Лидии Тоом, которая выступила со статьей «Ольховая гегемония или… липовая», направленной против ответственного редактора «Литературной газеты» Б. Ольхового (в то время эта газета подчинялась правлению Федерации советских писателей. – С. Ш.). «Журнал «На литпосту», – утверждает Л. Тоом, – допускал ошибки в оценке творчества Шолохова – ошибки выправлены на пленуме РАПП… Безоговорочно объявляя Шолохова и Светлова (имеется в виду поэт Светлов Михаил Аркадьевич. – С. Ш.) достижениями пролетарской литературы, т. Ольховый по сути дела отрицает пролетарскую литературу»[450]. Б. Ольховый перед этим выступил в «Правде». Рапповцы критиковали его за утверждение, что пролетарская литература в ближайшее время завоюет гегемонию. Как видим, статьей Л. Тоом рапповцы «исправляют» свои прежние «ошибки» в оценке М. Шолохова. Правда, Л. Тоом отказалась от прямых обвинений М. Шолохова как кулацкого идеолога, но она всячески пытается доказать, что до пролетарского звания ему еще далеко. В статье «Кризис или агония», опубликованной в том же журнале и выражающей мнение редакции, бойкая полемистка заявила: «Ни Шолохов, ни Макаров, ни Ив. Касаткин, ни Довженко не являются кулацкими художниками. Но влияние кулацких настроений на ряд мотивов их творчества совершенно несомненно, идея «естественного мужика» враждебно противостоит идее социалистической переделки мира.
Беспощадное разоблачение такого рода настроений – вот задача марксистской критики»[451]. И это беспощадное разоблачение, выдаваемое за марксистскую критику, достигает кульминации при прохождении в печать третьей книги «Тихого Дона».
Как действовало на Шолохова беспощадное к нему отношение товарищей по организации, видно из его письма к А. Серафимовичу: «Горячая у меня пора сейчас, кончаю третью книгу, а работе такая обстановка не способствует. У меня рука останавливается и становится до смерти нехорошо. За какое лихо на меня в третий раз ополчаются братья-писатели? Ведь это же все идет из литературных кругов»[452].
Конечно, из общественных и литературных кругов шло и другое – подлинное понимание великой эпопеи XX века. А. С. Серафимович, А. М. Горький, А. В. Луначарский уже тогда высказали суждения, которые не утратили мудрой ценности и для нашего времени. В январе 1929 года, дав высокую оценку «еще незаконченного романа», Луначарский причисляет его «к лучшим явлениям русской литературы всех времен»[453]. Известно, как Горький и Серафимович не только выступлениями в прессе, но и непосредственным вмешательством помогли Шолохову опубликовать третью книгу «Тихого Дона». В письме к Фадееву от 3 июня 1931 года Горький решительно настаивает на печатании третьей книги. Это он мотивирует тем, что книга – «произведение высокого достоинства, на мой взгляд, – она значительнее второй, лучше сделана»[454].
Несмотря на то что «Тихий Дон» получал все большее признание, и не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, рапповцы не воспринимали Шолохова как пролетарского писателя. Но они вынуждены были включить его имя на XVI съезде партии в число лучших, по их мнению, имен пролетарских писателей – таких, как А. Жаров, А. Безьшенский, В. Киршон, М. Чумандрин и другие; вынуждены были согласиться на публикацию третьей книги; вынуждены были дать положительную характеристику при вступлении Шолохова в конце 1930 года в партию – вынуждены, потому что не могли не считаться с быстро растущей популярностью писателя, с признанием его заслуг в партийной прессе, потому что (а это им было известно) И. В. Сталин назвал Шолохова «знаменитым писателем нашего времени», потому что, наконец, в 1931 году высокий авторитет Горького начал признаваться даже рапповцами. Но все же вплоть до 1932 года, когда из кандидатов Шолохов был уже переведен в члены партии, когда вышла «Поднятая целина», то есть, по существу, вплоть до ликвидации РАПП, руководители этой организации считали автора «Тихого Дона» еще далеким от коммунистической идеологии писателем.
К сожалению, позицию рапповцев о Шолохове разделял и Фадеев. 21 ноября 1931 года на заседании комфракции секретариата РАПП, рассуждая о творческих объединениях среди пролетарских писателей, Фадеев сказал: «Возьмите Либединского и Шолохова. Можно их объединить? Вы чувствуете у Либединского, даже когда он ошибается, что это ошибки коммуниста, что это писатель-коммунист, что Книга, где он не ошибается, ваша, коммунистическая. У Шолохова вы видите, что это элемент переделывающийся, крестьянский или казачий, что идеология его другая, не ваша»[455].
Так и прошел М. Шолохов через всю историю РАПП непонятым, отлученным ее руководителями от идей коммунизма. И это непонимание Шолохова было следствием вырождения РАПП.
В самом деле, в недрах этой организации зародился и вырос удивительный художник, советское общество признало его выразителем своих идей, партия приняла его в свои ряды, а рапповцы противопоставляют Шолохова Либединскому и полагают, что даже ошибочное произведение «Рождение героя» более коммунистично, чем «Тихий Дон».
Ранний период, несмотря на все причуды руководителей той организации, к которой Шолохов принадлежал, и обстановку, которая мешала ему работать, вместе с тем явился для писателя, как уже отмечалось, самым благотворным. Это противоречие разрешалось не только за счет того, что Шолохов был молод, полон энергии и великая слава, пожирающая силы своих любимцев, еще не коснулась его, но главным образом за счет того, что сложная, бурная, боевая эпоха 20-х годов закаляла его в политическом, идейном и творческом отношении быстро и прочно. Позже он признавался в письме начинающему литератору: «Если бы я взялся тебя поддерживать теми методами, какими в первые годы братья-писатели поддерживали меня, то ты бы загнулся через неделю»[456]. В этом признании выражена горькая обида на «братьев-писателей», но здесь звучит и гордость победителя, который «не загнулся» под тяжестью глухого непонимания, несправедливой и беспощадной критики и прямой клеветы.
РАЗДЕЛ III
КРИЗИС РАПП И ОБРАЗОВАНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ГЛАВА 1
Начиная с 1930 года рапповцы терпят одно поражение за другим. Причин тому было больше чем достаточно: абсолютное большинство писателей перешло на позиции Советской власти и включилось в активное строительство социализма – рапповцы с этим не считались; выросли кадры советских теоретиков-искусствоведов, которым не безразличны были судьбы литературы и искусства в стране, – рапповцы эти кадры игнорировали; делами литературы стали интересоваться широкие массы народа, многомиллионный комсомол – руководители РАПП все это проглядели, замкнувшись в кругу своих узкокастовых интересов. Основные их взгляды на общественное и литературное развитие теперь уже совпадали с позицией отсталых людей. Не будучи диалектиками, рапповцы не поднялись до осознания закономерностей революционных преобразований и изменений в стране, задержались в своем развитии где-то на середине 20-х годов. Отсюда стали проистекать все их беды. Рапповцы превратились в носителей зла, с которым не могла больше мириться вступившая в новый этап развития советская литература.
В 1930 году рапповцы терпят поражение главным образом на теоретическом фронте.
Художественная платформа напостовской школы потому не выдержала испытаний, что ее созидатели не опирались на творчество огромного отряда советских писателей, не учитывали великого опыта М. Горького, из широкого рукава которого, по выражению Л. Леонова, выпорхнула вся молодая генерация советской литературы; не брали в расчет новаторской революционной поэзии В. Маяковского, отвернулись от удивительного разнообразия огромных дарований советской литературы – А. Толстого, С. Есенина, М. Шолохова и множества других. Художественные принципы РАПП, при всей их видимой значимости – «реализм», «углубленный психологизм», «показ живого человека», – базировались на творческом опыте так называемых пролетарских писателей. Спору нет, большой и ценный вклад внесли в нашу литературу А. Серафимович, Д. Фурманов, Д. Бедный, А. Фадеев, Ю. Либединский, Ф. Панферов, А. Караваева, А. Афиногенов, творческая практика которых использовалась теоретиками РАПП для разработки и обоснований своих художественных принципов. Однако следует сказать, что эти писатели составляли лишь часть огромного отряда советских художников. Если к тому же учесть, что рапповцы кроме действительно классических образцов – «Железного потока», «Разгрома» и «Чапаева», – выдвигали на пьедестал слабые вещи, вроде «Рождения героя» Ю. Либединского и «Выстрела» А. Безыменского, то еще понятней станет та узость и уязвимость эстетических принципов, из которых рапповцы пытались основать свою художественную платформу, подвергшуюся со стороны здоровых литературных сил суровой критике на дискуссиях 1930 года.
Эти дискуссии интересны и богаты по содержанию. Они помогли осуществить шаг вперед в развитии советского литературоведения и литературной практики в нашей стране.
Внешние результаты дискуссий говорят как будто в пользу рапповцев.
Серьезный разговор, начавшийся в конце 1929 года и продолжавшийся весь 1930 год, состоялся о школе профессора В. Ф. Переверзева, в результате чего приверженцы этой школы И. Беспалов, М. Гельфанд и А. Зонин (А. Зонин до этого был исключен из РАПП за фракционную деятельность) пересмотрели свои позиции и вступили в РАПП. Дискуссия о «Перевале», длившаяся всю вторую половину 20-х годов, в апреле 1930 года завершилась суровым осуждением всех теорий перевальцев, и рапповцы вздохнули облегченно: наконец-то с воронщиной было покончено.
С мая 1930 года вспыхнула ожесточенная битва напостовской группой с Литфронтом (объединение оппозиционных сил в РАПП), и чуть было не рухнуло все теоретическое, да и не только теоретическое, здание РАПП. годами созидаемое его неистовыми хозяевами. Но к началу 1931 года всевозможными решительными мерами был разгромлен и Литфронт: часть литфронтовцев подверглась исключению из РАПП, остальная часть «самоликвидировала» свой «блок».
Мы не будем детально касаться дискуссии о концепции профессора В. Ф. Переверзева. Эта дискуссия не имела непосредственного отношения к РАПП, хотя ее руководители и принимали в ней участие. Остановимся лишь на следующем. Концепция Переверзева, по которой художественное творчество ставилось в прямую зависимость от производственного процесса, а идейность искусства игнорировалась, к 1930 году обнаружила всю свою несостоятельность и стала тормозом В; развитии литературоведения. Передовые ученые не могли больше мириться с вульгарно-социологическим методом переверзевской школы, не могли не видеть крайних заблуждений главы ее, утверждавшего: «Я не собираюсь искать в произведениях Достоевского его миросозерцания, его политических или религиозных взглядов потому, что искать всего этого у художника – это все равно, что от пирожника требовать сапог»[457].
Естественно, не все следовало сплошь перечеркивать в трудах профессора Переверзева, как впоследствии это было Сделано и как рапповцы это предлагали сделать сразу же. Но общая концепция этого направления в литературоведении 20-х годов явилась ошибочной и справедливо была отвергнута.
Активную роль в раскрытии ошибок Переверзева проявил С. Щукин, выступивший с основным докладом на дискуссии в Комакадемии, а затем выпустивший книгу «Две критики. Плеханов – Переверзев». Серьезно пересмотрели свои взгляды в ходе дискуссии ученики профессора – И. Беспалов, М. Гельфанд, А. Зонин. Спокойно, но основательно критиковали концепцию воспитанники и работники академии И. Нусинов, С. Динамов, И. Анисимов. По-своему интересным явилось выступление У. Фохта, защищавшего своего учителя и в то же время выдвинувшего против него ряд серьезных обвинений.
Важным этапом в подготовке к дискуссии следует считать критику ошибок Переверзева в «Правде» и в выступлениях А. В. Луначарского и П. Лебедева-Полянского на московской конференции словесников в начале 1929 года.
Рапповцы начали публиковать критические статьи против переверзевской школы с 1929 года. На дискуссии в Комакадемии выступили Л. Авербах, В. Сутырин и В. Киршон. Они сделали ряд ценных критических замечаний. Не, как всегда, это ценное сочеталось у них с категорическими требованиями и осуждениями. Киршон заявил: «Мы требуем, чтобы эта методология была разоблачена в первую голову теми коммунистами, которые работают на литературном посту»[458]. В. Сутырин гневно вопрошал: «Где были товарищи из переверзевской группы до сего времени? Почему они не выступили с пеной у рта, как должны выступать в таких случаях большевики, против меньшевистских выступлений Переверзева?»[459].
Рапповские методы критики и ее низкий научный уровень получили осуждение всех ученых академии. И. Нусинов высмеял Авербаха: «Здесь было обличительное выступление Л. Авербаха, такой же характер носили статьи, напечатанные в последнее время на страницах журнала «На литературном посту». Как сопоставить это с тем, что при выходе книги «Творчество Гоголя» (книга В. Ф. Переверзева. – С. Ш.) соратник товарищей из «На литературном посту» Гроссман-Рощин написал: «Марксистская критика может праздновать победу», и далее не указал ни одной ошибки этой книги… После этого мы слышали из уст т. Авербаха упрек Переверзеву ни более ни менее, как в меньшевизме. Такая критика – это та критика, которая знает две крайности: или ножки целовать, или в рожу плюнуть. Характеризуя и критикуя, надо знать меру. Товарищам налитпостовцам больше всего этого недостает»[460]. Отметив заслуги налитпостовцев в том, что они первыми заговорили об ошибках Переверзева, С. Динамов сказал, что когда рапповцы это сделали, «то их хватило только на то, чтобы кричать караул. Налитпостовцы не дошли еще до понимания Переверзева. В науке только кричать караул нельзя»[461]. У. Фохт обвинил налитпостовцев в том, что в своей критике «они несут на себе груз домарксистских методологических принципов»[462]. В таком же духе говорили другие ученые академии.
Этот факт знаменателен. Он свидетельствует о том, что выросшие в Комакадемии кадры ученых уже не считались с некомпетентными, полуграмотными суждениями теоретиков РАПП и осознавали себя реальной силой, способной решать сложные проблемы марксистского литературоведения. В лице молодых ученых-марксистов рапповцы, наименовавшие их иронически «приват-доцентами», приобрели самых грозных своих противников. Здесь, на диспуте о взглядах В. Ф. Переверзева, по существу, были уже подвергнуты сомнению творческие принципы РАПП: преодоление ошибок переверзевской школы вплотную подвело научную общественность к преодолению ошибок напостовской школы.
Следует, правда, отметить, что теоретический уровень спора о концепции В. Ф. Переверзева, как и последующих дискуссий, не достиг еще подлинных научных вершин. Главной причиной тому было невнимание к трудам В. И. Ленина, по-прежнему утверждалось: «Мы еще недостаточно понимаем огромность научного наследия В. М. Фриче, выросшего на почве развития формулы Плеханова о классовой детерминированности искусства»[463].
Несмотря на то что решающую роль в разоблачении вульгарно-социологического учения В. Ф. Переверзева сыграли поддержанные партийной печатью ученые Комакадемии, руководители РАПП в опубликованных нескольких статьях в своем журнале заговорили еще об одной своей победе – победе над переверзевщиной.
Литературная группа «Перевал», основанная летом 1924 года А. Воронским при журнале «Красная новь», была задумана ее создателем как противовес, противопоставление напостовской группе. Она никогда не была массовой, максимально имела 28 человек, состав ее менялся. Но направление, творческая платформа этой группы, усложняясь, в общем оставалась неизменной. В основу этой платформы были положены взгляды ее руководителя Воронского. Главное в творческой платформе «Перевала» заключалось в отстаивании «подлинного искусства», «истинного художества», как понимали «перевальцы». На первом этапе (с 1924 по 1927 г.), в период крайне левых заблуждений напостовцев, группа вела борьбу против схематизма в литературе, против грубой критики и бестактного отношения к писателю, за сотрудничество с советскими писателями-попутчиками, за использование великой классической литературы. В эти же годы глава группы «Перевал» в ряде своих статей, о которых у нас уже шла речь, дал глубокое толкование русской литературы XIX века и осветил некоторые очень важные и сложные проблемы специфики художественного творчества. Перевальцы действительно противостояли крикливой левизне напостовцев и разоблачали их крайние заблуждения.
С конца 1927 года, когда А. Воронский был отстранен от участия в редакторской деятельности, группа «Перевал» многие свои качества потеряла. Это объясняется не только тем, что Воронский утратил влияние и авторитет и отошел от общественной деятельности. Начиная с 1927 года пролетарское литературное движение, ее руководящее ядро, делает крутой поворот к вопросам художественного творчества, к решению проблем специфики искусства, к признанию классического наследства. Лозунг «Учеба, творчество, самокритика» как бы снимает прежнее напостовское, командное, комчванское, некомпетентное вмешательство в литературные дела. Если можно так сказать, рапповцы выбили козыри из рук перевальцев. Предмет полемики, казалось, исчез. Конечно, следовало бы объединиться этим направлениям и общими усилиями решать проблемы искусства. Но налитпостовцы мало чем отличались от прежних напостовцев. Объединение состояться не могло.
Отойдя от активной редакторской деятельности, Воронский углубился в разработку проблем творчества. Его статьи «О художественной правде», «Заметки о художественном творчестве», «Искусство видеть мир», «Марсель Пруст» написаны на разные темы, но в них решается одна проблема – искусство видеть мир, проблема художественного познания мира. Отталкиваясь от трудов Белинского и Плеханова, критикуя Бергсона и Фрейда, Воронский пытается создать цельную теорию искусства. Однако эта попытка оказалась неудачной. Не случайно В. Иванов, подвергнув справедливой критике Краткую литературную энциклопедию за «методологические зигзаги», заметил, что Воронский во второй половине 20-х годов «стал еще активнее проповедовать троцкистские взгляды на литературу, бергсонианский интуитивизм, теорию «непосредственных впечатлений»…»[464]. Действительно, в его теории сочетаются самые различные, отовсюду позаимствованные и противоречащие один другому элементы. Она не стала оригинальной, не явилась творческим развитием марксизма. С одной стороны, Воронский ратует за реалистическое, правдивое искусство, отображающее жизнь во всех ее противоречиях, «чтобы прекрасное и безобразное, милое и отвратительное, радостное и горестное казалось нам таким не потому, что так хочет художник, а потому, что оно содержится, есть в живой жизни»[465]. А с другой стороны, он призывает художников отыскивать какие-то первозданные прекрасные образы мира и отбрасывает обыкновенный реальный мир с его противоречиями. С одной стороны, Воронский говорит о тенденциозности искусства, о его классовой направленности, о том, что «нельзя писать романы, поэмы, картины в наши годы, не определив своего отношения к современным революционным битвам»[466]. А с другой стороны, он утверждает, что «есть «день седьмый», когда мы хотим взглянуть на мир иными глазами, откинув, забыв обычные житейские желания, когда мы «бескорыстно хотим любоваться и природой и людьми… В основе эстетической эмоции лежит бескорыстное наслаждение миром»[467]. То Воронский возвеличивает человеческий разум, говорит, что творческий процесс требует от художника «огромного интеллектуального напряжения», что «художник должен быть на уровне политических, нравственных научных идей своей эпохи», что «тут одного чутья, интуиции, инстинкта недостаточно»[468]. То вдруг утверждает: «Для того чтобы дать волю художественным потенциям, надо стать невежественным, глупым, отрешиться от всего, что вносит в первоначальное восприятие рассудок»[469].
Все эти противоречивые, исключающие одна другую мысли взяты из статьи «Искусство видеть мир», явившейся своеобразным «кредо» А. Воронского.
Слабые и сильные стороны взглядов Воронского, причудливо переплетаясь, отражались на его критической деятельности. Известно, как он восторгался Марселем Прустом и давал неверное толкование его творчества. В статье «Мраморный гром» он переоценил общественно-художественное значение произведений Андрея Белого. В первом романе А. Фадеева, как достоинство, критик отмечает подсознательное начало. «Его герои интуитивны, их разум, их поведение подчинены подсознательному началу в человеке»[470]. Трудно согласиться с А. Дементьевым, утверждающим в предисловии к сборнику избранных критических статей А. Воронского, вышедшему в наше время, будто теоретические работы и «литературные портреты» этого автора резко различны и будто первые не имеют для нас ценности, а вторые остаются ценными. По нашему разумению, и те и другие работы, написанные Воронским в одно и то же время, в одинаковой степени несут груз заблуждений исследователя, но теоретические его выступления не менее ценны для нас, чем критические. Они имеют прежде всего историческое значение: в них нашли яркое отражение 20-е годы – годы поисков верных решений, годы становления нашего литературоведения. Помимо всего, в этих работах, превосходно написанных, много верных суждений, не отброшенных, а взятых нашей наукой. А. В. Луначарский, П. И. Лебедев-Полянский, П. С. Коган, В. Ф. Переверзев, В. М. Фриче, А. М. Деборин, не говоря уже о рапповцах, – каждый в большей или меньшей степени, как уже отмечалось, нес груз заблуждений, но в трудах любого из них – свой подход, свое новое слово, и в конечном счете из всех этих научных поисков складывалась живая история нашей науки о литературе, которую мы обязаны знать, чтобы судить о ее современных достижениях. Да, необходим критический подход, критическая переоценка прошлого, но это теперь уже общедоступная и бесспорная истина.
В литературном содружестве «Перевал» в связи с уходом Воронского выдвинулись новые руководители, его воспитанники и единомышленники – А. Лежнев, Д. Горбов, В. Правдухин. Возглавил содружество писатель Б. Губер. Во второй половине 20-х годов в числе перевальцев находились такие писатели, как М. Пришвин, П. Павленко, И. Катаев, А. Малышкин, М. Голодный.
Молодые теоретики «Перевала», развивая учение основоположника художественного видения мира, борясь за истинное искусство, выдвинули новые лозунги, по их мнению углубляющие и поправляющие Воронского во взглядах на искусство: «искренность», «моцартианство», «движничество», «эстетическая культура» и «гуманизм». Смысл каждого из них постараемся объяснить словами их создателей.
Лозунг «искренности»
«…Искренность есть непременное условие творчества. Если хотите, чтобы человек хорошо бегал, – нужно чтобы у него были развязаны ноги; если хотите, чтобы человек хорошо писал, – нужно, чтобы у него была развязана душа. Искренность – это только ключ к психологической кладовой, а что окажется в этой кладовой – мусор или сокровище – неизвестно»[471] (М. Поляков). «Мы говорим: да, искренность необходима, но она вовсе недостаточное условие художественного произведения, т. е., иначе говоря, не может быть хорошего художественного произведения, которое было бы написано неискренне. Это верно. Но из этого не следует, что всякое искренне написанное художественное произведение действительно художественное»[472]. «Выдвигая лозунг искренности, мы действуем именно против приспособленчества»[473] (А. Лежнев).
Лозунг «моцартианства»
«Во всяком общественном деле, в том числе и в искусстве, личность может осуществлять что бы то ни было, только подходя к своему делу творчески, т. е. во всей своей цельности… Такая личность есть Моцарт, в какой бы области она ни творила. Сальери пытается выразить то же самое, но делает это механически, раздробленно, у него нет цельности, он не способен к действию как выражению своей цельности… Перерождение, совершающееся в человеке, – вот что дало трагедийное искусство – наиболее действенный, наиболее активный, наиболее углубленный вид искусства. Трагедийное начало в искусстве охватывает всю личность. Трагедия была гуманистическим искусством, она есть гуманистическое искусство»[474] (Д. Горбов).
Лозунг «движничества»
«Что такое «движничество», выдвинутое «Перевалом» в качестве одного из основных пунктов его художественной программы, как не стремление представить мир как движущийся процесс, как не утверждение, что художник должен обращать внимание именно на элементы движения, преобразования, становления, динамики. Этот принцип «движничества» стараются осуществить во всем: в строении фразы, в стиле, в образе, в типе. Именно изображение явлений, а не застывших вещей, – лозунг «Перевала»[475] (А. Лежнев).
Лозунг «эстетической культуры»
«Об эстетической культуре. Я поясню, что понимает «Перевал» под этими словами. Во-первых, то, что писатель должен обладать высокой художественной культурой, достигнутой до него, т. е. не должен быть «Иваном, не помнящим родства». Во-вторых, то, что писатель должен себя воспитывать так, чтобы те свойства, которые ему необходимы в его деятельности, были у него развиты максимальным образом, например, наблюдательность, умение слышать разговорную речь, ощущение слова. Профессия писателя так же, как и другие профессии, требует наличия определенных специфических свойств. Развитие их входит основным элементом в эстетическую культуру»[476] (А. Лежнев).
Лозунг «гуманизма»
«Сейчас вопрос о гуманизме является решающим. Именно вокруг гуманизма идут самые сильные бои. Этот момент очень существен для нашего понимания реалистического творчества… Получается такая картина: буржуазия всегда клеветала на коммунистов, будто они хотят уничтожить личность, будто они идут против гуманизма. И вот наши противники подхватывают эту буржуазную болтовню и говорят: да, да, мы, коммунисты и марксисты, хотим уничтожить личность, не смейте говорить о гуманизме… Диалектически можно свести художественное произведение на массу только через личность, как личностное выражение общественного процесса. Именно это и лежит в основе нашей мысли о гуманизме, это и есть основа нашей творческой программы»[477] (Д. Горбов).
Как видим, в лозунгах теоретиков «Перевала» нет ничего, что бы могло поставить их за грань советского литературоведения тех лет, отнести к буржуазному лагерю. Правда, эти лозунги абстрактны, в них не чувствуется биения пульса нашей жизни той поры, с ее грандиозным индустриальным размахом, с ее революционным переворотом в деревне, в результате которых рождалось новое, социалистическое общество. Придуманные в узком кругу тонко чувствующих и понимающих истинное искусство интеллигентов, лозунги перевальцев не вдохновляли нашу литературу на то, чтобы она призывала: «Время, вперед!», чтобы она объясняла: «Как закалялась сталь», чтобы она создавала «оптимистические трагедии». Художественная платформа «Перевала», при всей ее важности по причине проникновения в специфическую область искусства, была лишена главного, чего требовала от литературы жизнь, – боевого настроя, активного вмешательства, партийной целеустремленности и непримиримости. Помимо этого, в работах перевальцев получили усугубление ошибочные идеи А. Воронского об интуитивном, подсознательном начале в художественном видении мира.
Следует также отметить, что лозунги А. Лежнева и Д. Горбова были мало доступными и трактовались критиками и писателями по-разному, в зависимости от степени уразумения этих лозунгов и от уровня понимания искусства вообще. А для широких кругов начинающих писателей и лит-кружковцев споры о «поисках Галатеи» («Поиски Галатеи» – название книги Д. Горбова) были просто недоступны.
Один из начинающих пишет Горькому: «—Я прочитал пять книжек, – названо пять авторов, – но я не могу понять, кто прав. И кто такая Галатея?» А. М. Горький рассуждает По поводу этой самой Галатеи: «Вот, например, Галатея, – к чему она? Что может сказать эта нимфа человеку, который живет на берегах реки Которосли, в которой замечательно крупные окуни, а нимфы – не водятся? Разумеется, для критика весьма похвально быть грамотным, но нужно ли смущать знанием древних мифов молодого человека в то время, когда человек этот хочет научиться политграмотно и образно писать о комедиях и драмах действительности текущей? Было бы, пожалуй, гораздо полезней, если бы все мы писали проще, экономнее, а не так, например: «…мы должны отвергнуть тенденцию к аполитации дискуссии»[478].
Как видим, апрельский диспут в Комакадемии не случайно подверг суровой критике позицию «Перевала».
Рапповцы вели постоянную борьбу с группой Воронского. Перевальцы, не сдаваясь, продолжали отстаивать свою программу, и острые схватки между ними и рапповцами не прекращались. Критика рапповцев иногда достигала цели, особенно удачной она была тогда, когда касалась слабых сторон позиции «Перевала» – оторванности ее от задач сегодняшнего дня. Но теоретики РАПП оказались беспомощными в критике эстетических основ «перевальской программы». Больше того, продолжая по-старому отвергать художественные принципы своих противников, рапповцы не заметили, как очутились в полной зависимости от этих принципов. Вместе с тем руководители РАПП не только не осознавали зависимости от Воронского, но искренне негодовали, когда перевальцы указали им на эту зависимость. Еще бы! Самое «реакционное», «идеалистическое», «троцкистское», «правооппортунистическое» течение в литературе – воронщина навязывается в родство к напостовцам! Но перевальцы продолжали настаивать на этих родственных связях. Еще до дискуссии 1930 года в сборнике «Ровесники» А. Лежнев не без ехидства писал: «Принципы «Перевала» восприняты теми, которые всего ожесточеннее с ними боролись… Многие серьезно полагают, что мысль о необходимости психологизма, что идея о «живом человеке»… или тезис о борьбе со схемой и бытовизмом во имя большого реалистического искусства, – что все эти положения выдвинуты и провозглашены ВАПП. «Перевал», разумеется, не заявляет патента на свои идеи… И поэтому он ничего не имеет против того, чтобы его идеи повторялись другими, хотя бы и с опозданием на два года»[479].
На дискуссии в Комакадемии перевальцы поставили все руководство РАПП, всю напостовскую школу в очень неудобное, тяжелое положение перед всем пролетарским литературным движением в стране, перед всей общественностью. Представители «Перевала» заявили, что в советской литературе есть два течения: реалистическое и формалистическое. «Перевал» и РАПП входят в реалистическое направление и вместе борются против лефовцев, возглавляющих формалистическое направление.
«Несомненно, – заявил А. Лежнев, – что Фадеев, Либединский, Ермилов, Авербах в течение времени от 1926 до 1930 годов очень много лозунгов, в том числе и лозунг психологизма ц «живого человека», в значительной степени заимствовали у «Перевала». Нельзя же заявлять, будто мы боремся с пролетарской литературой, когда мы утверждаем, что руководители пролетарских литературных организаций восприняли большую часть наших лозунгов. Это просто неувязка»[480].
Перевальцы справедливо указывали на эти заимствования и попытались защитить свои позиции авторитетом РАПП.
Выступивший от рапповцев И. Гроссман-Рощин сокрушал «Перевал». Он решительно отверг притязания перевальцев на близость к РАПП. «Ночью и днем все об одном» думает думу Лежнев: Как бы подгадить ненавистному РАПП. И он решил, что лучше всего сделать так: вымазать рапповские ворота перевальским дегтем»[481].
Что касается отношения РАПП к «Перевалу», то И. Гроссман-Рощин видит «только одну задачу: сокрушить идейно и организационно кулацко-мещанскую софистику, злостно направленную против пролетарской диалектики»[482].
Ученые Комакадемии и ИКП (Институт красной профессуры) И. Беспалов, О. Бескин, М. Гельфанд, Н. Нусинов, М. Бочачер, А. Зонин вскрыли серьезные пороки художественной программы «Перевала», указав на ее оторванность от задач строительства социализма, на идеалистический характер отдельных ее положений. В резолюции, принятой в завершение дискуссии, говорится: «Реакционными являются проповедь интуитивно бессознательного отношения к миру, проповедь пренебрежения к самому передовому мировоззрению, проповедь замыкания в узком кругу «подкожных» переживаний, бегство от классовой борьбы, проповедь снисхождения к «человеку», независимо от классовой природы его и т. д. и т. п.»[483]
К сожалению, ученые секции литературы и искусства Комакадемии не были свободны от левацких перегибов, особенно М. Гельфанд и А. Зонин. Они не увидели положительных сторон в теориях и практике «Перевала», они не приняли в расчет искренних стремлений перевальцев в борьбе за подлинно реалистическое искусство. В результате их взгляды были названы воронщиной и объявлены реакционными, вредными для социалистического строительства, проявлением «буржуазного либерализма в художественной литературе». В отличие от рапповцев ученые в своих выступлениях все-таки указывали, что они ведут борьбу против ошибочных идей «Перевала», а не против перевальцев. О писателях этой группы в резолюции сказано, что «их обязанностью перед рабочим классом являются – решительный разрыв и борьба вместе со всей пролетарской литературой и коммунистической критикой против Лежнева и Горбова, наиболее отчетливо выявляющих реакционную сущность школы Воронского»[484]. Однако такая квалификация деятельности Воронского, Лежнева и Горбова была необъективной и не правильной.
Дискуссия о «Перевале» еще раз и с большей наглядностью обнаружила наступательный характер нового отряда коммунистической критики в лице теоретиков-филологов Комакадемии. Несмотря на крайности, несмотря на неверную общую оценку «Перевала», уровень научного спора был достаточно высок, а доводы оппонентов «Перевала» во многом настолько убедительными, что перевальцы не могли им противопоставить ничего более логически стройного и доказательного.
Удар, который был в ходе диспута нанесен по школе Воронского, серьезно коснулся и напостовской школы, ибо ученые увидели общие теоретические заблуждения обеих школ.
Правда, представители Комакадемии, коммунисты И. Беспалов и М. Гельфанд, питали надежду, и они об этом заявили на дискуссии, разрешить «с частью РАПП разногласия по творческим вопросам» на другой основе, чем с «Перевалом»: «на основе взаимной товарищеской самокритики и взаимного исправления ошибок»[485].
Какой характер получила эта «взаимная товарищеская самокритика», мы увидим дальше.
Говоря об ударе, который был нанесен школе Воронского и занесен над напостовской школой, мы хотим еще раз подчеркнуть, что эти удары били в ту пору наотмашь, что они станут понятны нашему современнику только в свете того времени, в обстановке острой борьбы, в период ломки старых научных систем и представлений и боевого бескомпромиссного рождения новых научных принципов. Характер борьбы осложнялся тем, что новые принципы утверждались людьми, пытавшимися решительно и немедленно очистить эти принципы ото всего старого, классово чуждого, в то время как и этом «старом» и «классово чуждом» оставались здоровые начала, научно ценные элементы, без которых наука не могла плодотворно двигаться вперед, – да и люди, делавшие, по их искреннему убеждению, революционные преобразования в науке, не возникали неизвестно откуда чистыми марксистами-ленинцами, а, перевоспитываясь в ходе борьбы, несли на себе груз заблуждений и убеждений прежних школ, годами их растивших. Все это необычайно ярко выразилось в деятельности выходцев из переверзевской школы И. Беспалова, М. Гельфанда и А. Зонина, которые в 1930 году начали в рядах Лит-фронта борьбу против руководства РАПП.
ГЛАВА 2
Само название «Литфронт» возникло в августе 1930 года. 17 августа на заседании секретариата РАПП Л. Авербах сообщает: «Из «Литературной газеты» мы узнали о том, что создалась новая организация, которая предполагает существовать в недрах РАПП, – «Литературный фронт»… и только после того, как это было опубликовано в печати, мы получили письмо 16 августа от этой группы»[486]. Однако возникло это течение внутри РАПП в самом начале 1930 года и в мае на конференции ЛАПП проявило себя весьма решительно и определенно.
Литфронт объединял, с одной стороны, всех недовольных и обиженных, стремившихся взять реванш, а с другой стороны, всех тех, кто действительно видел серьезные ошибки в деятельности руководства РАПП и в художественной платформе напостовской школы и стремился выправить положение дел на литературном фронте.
К первой группе относилось так называемое левое меньшинство – С. Родов, Г. Горбачев и А. Безыменский. На ноябрьском пленуме ВАПП в 1926 году Ил. Вардин, г. Лелевич, С. Родов, Г. Горбачев и А. Безыменский были выведены из всех руководящих органов пролетарской литературной организации. Группа Лелевича вела яростные атаки на новое руководство в самой организации и в печати. В начале 1927 года эта группа выпустила свой первый сборник «Удар», в котором громила авербаховское руководство за предательство интересов пролетариата в области литературы. Однако уже в апреле 1927 года группа «левых» направила за подписью Родова заявление в секретариат ВАПП с просьбой восстановить их во всех правах, ибо настало время, как говорится в письме, «объединиться «мекам» и «бекам» ВАПП». В информации для местных АПП «Ко всем организациям пролетарских писателей» в мае 1927 года секретарь ВАПП В. Киршон сообщает, что с группой Лелевича заключено соглашение и что этой группе «пришлось согласиться на следующие требования:
1. Признают ли «левые» лозунг «Учеба, творчество, самокритика»?
2. Считают ли они ВАПП широкой формой пролетлитературного движения?
3. Присоединяются ли они к нашей политике по отношению к Воронскому и «Перевалу»?
4. Отказываются ли они от фракционной борьбы»?[487]
Как мы уже знаем, на конференции МАПП в мае 1927 года Безыменский выступил с докладом «О проблемах психологического углубления», где полностью поддержал художественную платформу ВАПП. И хотя на первом съезде пролетарских писателей в 1928 году «левые» были предупреждены, что если они вновь начнут фракционную борьбу, то будут исключены из литературной пролетарской организации, через полгода после съезда они ее все-таки опять начали. На заседании комфракции секретариата РАПП от 9 ноября 1928 года Ю. Либединский и В. Ставский доложили, что в Ленинграде А. Безыменский выступил против линии РАПП и «что «левые», таким образом, нарушают данные ими обязательства и постановления съезда»[488]. Была создана специальная комиссия по расследованию деятельности «левых». На это «важное» дело ушло две недели ценного времени у таких писателей, вошедших в комиссию, как В. Ставский, В. Киршон, А. Караваева и Ф. Панферов. Однако уже 1 апреля 1929 года на заседании секретариата РАПП было рассмотрено заявление «левых» о признании своей вины и вынесено следующее постановление: «Привлечь «левых» к практической работе РАПП, введя Безыменского в состав секретариата; Горбачева в члены правления РАПП»[489]. Но не прошло и полугода, как «левые» вновь подняли драку, которая на сентябрьском пленуме РАПП в 1929 году получила крайнее обострение. После пленума «левая оппозиция» выпустила второй сборник – «Удар за ударом» (под реакцией А. Безыменского), в котором подвергается резкой критике художественная платформа РАПП за «живого человека», за «психологизм» и за отход к воронщине.
Эта никому не нужная, никчемная возня, отнимавшая страшно много времени у писателей и руководителей РАПП напоминавшая детскую игру, воспринималась тогда как принципиальная борьба за генеральную линию РАПП – одними и как принципиальная борьба с извращениями пролетарской идеологии в литературе – другими. Но к 1930 году «левые», с помощью научной общественности и печати, обнаружили в деятельности напостовского руководства подлинно слабые места и, найдя себе союзников, перешли в решительное наступление.
Союзниками «левых» оказались представители Комакадемии И. Беспалов, М. Гельфанд, А. Зонин и В. Кин, а также общественные деятели и журналисты Т. Костров и Б. Ольговый. В Ленинграде вокруг Г. Горбачева возникла антинапостовская группа критиков и писателей, в числе которых были А. Камегулов, А. Горелов, А. Прокофьев, В. Саянов и В. Вишневский. Представители «Кузницы» также оказались в ряду несогласных с творческими принципами РАПП. «Блок», как наименовали рапповцы объединение всех сил, направленных против них, начал складываться в конце 929 года. Уже на сентябрьском пленуме РАПП обнаружилось, что и «левые», и «приват-доценты» (представители комакадемии), и «кузнецы» критикуют напостовскую группу, ставшую у руководства РАПП, за одно и то же – за художественную платформу прежде всего. Буря разразилась в мае 1930 года и бушевала до поздней осени. В Ленинград, где состоялась 3—я очередная конференция ЛАПП, ставшая ареной острых схваток, съехались представители обеих борющихся группировок. Напостовцы, предвидевшие борьбу, направили от руководства РАПП А. Фадеева, Л. Авербаха, В. Ермилова, В. Сутырина, Ю. Либединского (Либединский жил в это время в Ленинграде). Это была самая авторитетная и боевая часть старого испытанного напостовства. С основными докладами выступили В. Сутырин – «Политический отчет РАПП» и В. Ермилов – «Наши творческие разногласия». Дважды выступил А. Фадеев. От «блока» атаковали руководство РАПП Г. Горбачев, Т. Костров, М. Гельфанд, А. Безыменский, А. Камегулов, В. Вишневский и другие.
Шла острая критика основных творческих принципов РАПП: теории «непосредственных впечатлений», лозунгов «О показе живого человека», «О срывании всех и всяческих масок» с действительности, «Об углубленном психологизме», «Об отрицании романтизма», «Об учебе у Л. Толстого и французских реалистов». Так как в «блок» вошли ученые – И. Беспалов, Л. Цырлин, Г. Горбачев, М. Гельфанд, А. Камегулов, А. Зонин, М. Бочачер, то спор принял научно-философский характер. Рапповцам было трудно вести борьбу, тем более что «приват-доценты» легко обнаруживали слабое знание ими трудов великих философов и основоположников марксизма и обвиняли их в невежестве.
Либединский и Фадеев подверглись критике за теорию «непосредственных впечатлений». Несмотря на то, что Фадеев трактовал эту теорию правильно, он обвинялся наравне с ее автором, потому что во всех своих выступлениях он брал под защиту Либединского и пользовался его терминологией. А. Камегулов в своем выступлении «Посредственная теория о непосредственных впечатлениях», опубликованном затем в сборнике его статей «На литературном фронте» (1930 г.), нанес, пожалуй, самый сокрушительный удар по этой теории. «Гегель указывает на то, – говорит Камегулов, – что непосредственные впечатления дают нам только единичное, но не дают нам всеобщего. Чтобы добраться до всеобщего, нам нужно размышлять, нам нужно вскрывать настоящую, истинную сущность вещей (Голос: «О чем и говорил т. Фадеев»). Нет, товарищи, Фадеев говорил не это. Он не понял Гегеля (или ему плохо объяснили его)»[490]. Продолжая критику взглядов Фадеева, Камегулов указывает на то, что теория «непосредственных впечатлений» «есть теория Бергсона, а не Маркса», что эта теория вредна, потому что «если встать на точку зрения Фадеева, согласно которой сущность общественных явлений вскрывается в искусстве непосредственными впечатлениями, то в искусстве отвергается тогда ведущая роль сознания, и оно становится жалким бытовизмом жалкого эмпирика»[491]. М. Гельфанд выступил с большим докладом «К критике творческой платформы налитпостовства», где говорит, что «непосредственные впечатления» позаимствованы Ю. Либединский у А. Воронского, критикует эту теорию и делает заключение: «Мы не говорим и как материалисты не можем говорить, что возможно какое-то познание помимо этих «непосредственных впечатлений», помимо чувственного познания мира. Но тот, кто хочет провозгласить «гегемонию» этой первичной низшей формы, тот делает объективно реакционное дело, тот скатывается к идеализму и интуитивизму…»[492] М. Гельфанд потребовал от напостовцев ясно ответить на вопрос: «Отказываетесь ли вы от теории непосредственных впечатлений или принимаете ее?»[493].
Лозунг «О срывании всех и всяческих масок с действительности» критиковался за односторонность, узость, которая приводит не только к творческим, но и к политическим ошибкам в изображении советской действительности. «Категорическое заявление Авербаха о срывании всех и всяческих масок, – заявил Камегулов, – отличается крайним невежеством. Требуя от пролетарских писателей творческой установки исключительно на срывание всех и всяческих масок, он замыкает их кругозор в узкий круг разоблачительных тем, выбрасывая за борт господствующие и ведущие тенденции нашего хозяйственного и политического развития»[494]. Признавая важность критического начала в творческом методе пролетарской литературы, Камегулов справедливо утверждает: «Но эта разоблачительная литература не должна становиться самоцелью (подчеркнуто автором. – С. Ш.), каковой она становится в уродливом освещении налитпостовства, когда ведущая творческая линия нашего строительства фактически выбрасывается из круга тематики пролетлитературы»[495].
Заканчивая свое выступление, Камегулов призывал: «Перед рабочим и крестьянским читателем писателю нужно не только срывать «все и всяческие маски», но и звать его на борьбу за завтрашний социалистический день истории»[496].
В критике лозунгов «Об углубленном психологизме» и «О показе живого человека» представители «блока» не оказались на должной высоте. Они правильно указывали на заблуждения рапповцев, на неоднократные ошибочные заявления Авербаха, что в изображении пролетариата, строящего социализм, художников должна интересовать «прежде и больше всего» «его психология», что рапповский «живой человек», находящийся в беспрерывных рефлексиях, бесконечно противоречив, в то время как «диалектик всегда должен видеть основные тенденции в развитии тех или иных противоречий, тенденции, показывающие, куда и во что эти противоречия растут, какое новое качество в результате этого движения создается»[497]. Вместе с тем противники налитпостовской школы проявили ограниченность в понимании специфики искусства. Рапповцы отстаивали мысль, не им принадлежащую, но совершенно верную, что общественные классы познаются в художественном творчестве через отдельную, конкретную, типическую личность, что через познание психологии этой личности художник достигает познания классовой психологии, ибо, как любили повторять рапповцы цитату из Маркса: «Человек – это совокупность общественных отношений». Представители «блока» отвергали эту истину. «Вы помните, – рассуждает М. Гельфанд, – что Безыменский спрашивает в своей поэме «День нашей жизни»: «Кого прославить нам? Кого назвать героем? Всю комсомолию или одного Петра?..» и отвечает: «Ну, это ясно… всех». Тов. Селивановский не согласен с таким ответом… Он пишет: «такое механическое противопоставление – или всех или одного – не диалектично. Всех – коль скоро «все» находят свое индивидуальное выражение в одном. Одного – коль скоро в нем с наибольшей силой находят свое выражение свойства всех. Путь к художественному отображению класса (или иного коллектива) как реальности лежит через «одного Петра», столь безжалостно отрицаемого Безыменским, – через «одного Петра» в его общественной, классовой практике» («Октябрь», кн. 2, 1930, стр. 174).
Тов. Селивановский, вместе с т. Авербахом, – заключает М. Гельфанд, – не видит иного пути познания общественного человека, как только через индивидуального человека… А куда, спрашивается, девался у них примат классового над личным?»[498]. М. Гельфанд требовал изображения класса в целом, а не отдельного его представителя.
Два произведения фигурировали в ходе ленинградской дискуссии. Указывая на произведение Ю. Либединского «Рождение героя», представители «блока» утверждали, что в нем нашли применение все ошибочные лозунги напостовцев, что «это произведение отводит пролетарскую литературу в сторону от актуальнейших задач нашего времени, мешает решению этих задач»[499]. Рапповцы критиковали пьесу в стихах А. Безыменского «Выстрел» (выдвигаемую «блоковцами» как образец боевого пролетарского искусства) за схематизм, за примитивное изображение человеческой психологии, за резкое противопоставление положительных и отрицательных персонажей. В критике этих двух произведений были правы как те, так и другие, так как в романе Либединского действительно проявилось надуманное «психологизирование», а в пьесе Безыменского – явный схематизм. Но в оценках указанных произведений вместе с тем столкнулись две концепции, две точки зрения на искусство вообще. В обеих позициях содержалась узость и ограниченность спорящих. Безыменский, отошедший от теории психологизма, написал пьесу, полемически заостренную против «психоложества». Он и его защитники ратовали за боевое, злободневное, политически-публицистическое искусство, помогавшее сегодня строить социализм.
Рапповцы, стремившиеся перегнать классиков мировой литературы и справедливо боровшиеся за подлинное реалистическое творчество, увязли в дебрях специфики искусства, и в их теориях совсем не нашло отражения важнейшее качество пролетарской литературы – ее партийность, ее революционный, преобразующий мир характер. Как ни странно, но это было так. В их художественной платформе это качество нового искусства не получило теоретического осмысления. Больше того, перегруженная теориями «непосредственных впечатлений», «живого человека», «углубленного психологизма», их платформа отводила писателей от решения актуальных, боевых вопросов времени, хотя рапповцы во всех своих речах говорили об этом. Здесь коренилось одно из самых серьезных противоречий рапповских руководителей и теоретиков. И это увидели литфронтовцы, но ушли в другую крайность.
Литфронтовцы критиковали художественную платформу РАПП с точки зрения актуальности искусства. Они совершенно правильно обвинили напостовцев в игнорировании боевых жанров литературы – сатиры, очерка, публицистики. Справедливо взяли под защиту поэзию В. Маяковского и провозгласили его метод образцовым для пролетарской поэзии. Верно указывали, что из мировой классики надо брать для учебы не только великий опыт Л. Толстого и французских реалистов, но и опыт таких гигантов мировой литературы, как Салтыков-Щедрин, Гоголь, Гейне и Сервантес. Очень плодотворной была их борьба за отвергнутый рапповцами романтизм. «Надо рассеять фадеевскую легенду, – писал Г. Горбачев, – об абсолютно, якобы, осужденном Марксом романтизме, ибо романтизм бывал и упадочный, а бывал романтизм и подъемный, революционный, зовущий к борьбе и движению вперед»[500].
Но литфронтовцы критиковали рапповцев и за то, за что надо было их хвалить. Так, они полностью отвергали художественную платформу РАПП, не увидели в ней здоровую основу – ориентацию на реализм. Правильно указав на односторонность лозунга «учеба у Льва Толстого», они считали вообще вредной учебу у Толстого.
До каких крайностей доходили противники напостовства, видно из статьи «Долой толстовство» Л. Цырлина, где он ведет спор с Фадеевым по поводу его доклада «Долой Шиллера» и как пример отрицательной учебы у Толстого называет «Тихий Дон». «Так, Шолохов в «Тихом Доне» показывает внутреннюю жизнь своих белогвардейцев в таких общечеловеческих чертах, что эти герои не вызывают в его изображении ненависти читателя»[501]. Еще более разительный пример «левацкого» перегиба явили собой рассуждения А. Камегулова о вреде психологического реализма, ведущего «к беспартийной литературе»: «…явно беспартийный «Тихий Дон» Шолохова, идеализирующий кулачество (сначала провозглашенный налитпостовцами образцом пролетарской литературы), – все это является сигналом бедствия»[502]. Не поднявшись до понимания специфики искусства, излишне козыряя классовостью, литфронтовцы осудили один из принципов подлинно реалистического творчества – изображение жизни как общего в конкретном, отвергли глубокую мысль К. С. Станиславского, выраженную в его афоризме: «Когда играешь злого, ищи, где он добр», а самого Станиславского и тех, кто правильно воспринимал его афоризм —
A. Воронского и перевальцев, причислили к идеологам буржуазного либерализма, да заодно ударили и по рапповцам. «Станиславский проповедует классовый мир, он хочет примирить классовые противоречия, а т. Авербах, имея, очевидно, чрезвычайно отдаленное представление о действительно материалистической диалектике, принимает эту «кажущуюся» диалектической формулу за настоящую диалектику»[503], – дает наставления М. Гельфанд.
Да, заблуждения Литфронта были не менее серьезны, чем ошибки теоретиков напостовской школы. Вместе с тем представители «блока» существенно дополняли и исправляли художественную платформу РАПП. Они с большей убедительностью, мотивированностью, а не декларативно, как было у ранних напостовцев, отстаивали принцип партийности искусства, хотя и не без крайностей; они потребовали расширения творческих жанровых горизонтов советской литературы, так же как и обогащения понятия «учеба у классиков», освоения классического наследства. Кроме того, они с философских позиций подвергли критике идеалистические ошибки в теориях напостовской школы, произошедшие, как правильно отмечали представители Комакадемии, от невежества, от незнания основ марксистской философии. Резкого осуждения удостоились организационные неполадки РАПП: плохая работа с кружковцами, в Федерации советских писателей, отставание от требований науки, а также проявления бюрократизма, кружковщины, зазнайства, зажим критики.
Рапповские руководители увидели и осознали многие свои ошибки в результате острой полемики с Литфронтом. Но и опять, как всегда, они не признали открыто и честно эти ошибки. Видимо, их испугало то, что эти ошибки были слишком серьезны, что их было слишком много и признать их означало расписаться в собственной беспомощности, потерять авторитет в глазах четырех тысяч ведомых ими пролетарских писателей.
Выступивший с докладом «Наши творческие разногласия»
B. Ермилов обнаружил, как говорили о нем, блестящие способности оратора и полемиста. Из его выступлений видно, насколько вырос он и закалился как боец в беспрерывных сражениях с противниками.
Е. Н. Пермитин, вспоминая далекое прошлое, о котором он публикует книгу «Лесная поэма», отмечает: «В наших тогдашних спорах молодой задор сочетался с жесткой непримиримостью. С восторгом пишу и об Ермилове, и о Вишневском, и о Вячеславе Полонском – какие были бойцы!»[504]. С сердечностью вспоминает Ефим Николаевич еще об одном бойце: «Бывал у нас и Александр Константинович Воронский, большевик, ленинец. Заслуги Александра Константиновича в развитии советской литературы весьма значительны и еще недостаточно оценены. Он был человеком огромнейшей эрудиции»[505]. Да, все они, принадлежавшие тогда к разным течениям и делавшие одно большое общее дело, были превосходными бойцами и сражались друг с другом «с жесткой непримиримостью». Пермитин произнес глубоко справедливые слова о Воронском. Нет сомнения, что он по достоинству оценит и других отважных бойцов, его тогдашних современников. И нет также сомнения, что известный писатель нашего времени, с именем которого связана почти вся история советской литературы, не каждому из тогдашних бойцов окажет такую честь, которой он справедливо удостоил А. К. Воронского.
В своем выступлении на ленинградской конференции В. Ермилов отражал атаки литфронтовцев с такой решительностью, высмеивал их заблуждения и промахи с такой убийственной иронией, вел наступление на «блок», обвиняя его во всех грехах, с такой боевитостью, так вдохновенно говорил о достижениях пролетарского литературного движения, что его доклад сопровождался бурными аплодисментами и многое предрешил в исходе ожесточенной борьбы.
Но Ермилов проявил себя в этом докладе тонким и хитрым дипломатом. Выполняя поручение налитпостовской школы, рапповского руководства, он все сделал для того, чтобы доказать, что, собственно, никаких ошибок это руководство не допускало, а что это выдумки, клевета «беспринципного блока». Делалось это виртуозно: Ермилов почти дословно произносил брошенные налитпостовцам обвинения и затем утверждал, что это мнение было постоянной линией руководства РАПП. О «живом человеке» он заявил: «Следует всячески подчеркнуть отчетливо наметившуюся опасность подмены нашего боевого напостовского лозунга живого человека, т. е. человека классового, которого пролетарский писатель обязан показывать в соответствии с формулой Маркса о человеке как совокупности общественных отношений, – опасность подмены этого лозунга «живым человеком», понятым индивидуалистически, в отрыве от общественной практики. Отсюда реальнейшей становится опасность интеллигентского самокопания, индивидуалистического самоковыряния в пролетарской литературе, и с этим «психологизмом», представляющим собой реальнейшее проявление правой опасности внутри пролетарской литературы, мы должны бороться самым жестоким образом… Но нам незачем отказываться от своего прошлого, нам незачем ставить крест на нашей прошлой линии. Мы никогда не относились примиренчески к этим явлениям, мы никогда не считали их «исторически правомерными» ни для какого этапа, мы всегда с ними жестоко боролись и будем бороться и дальше»[506].
Об учебе у классиков было сказано в докладе Ермилова следующее: «Азбучно понятно, что только невоспитанный дикарь или стилизующийся под эдакого гунна плохонький интеллигент может призывать к «низвержению», скажем, Генриха Гейне… Учитесь у кого угодно, но учитесь так, чтобы находить у данного писателя то, что поможет созданию диалектико-материалистического творческого метода, – вот основное, что говорим мы пролетарским писателям в вопросе об использовании наследства»[507].
Голосом невинного младенца Ермилов оправдывается: «Нас обвиняют и в том, что мы призываем пролетарских писателей учиться не то исключительно у Толстого, не то исключительно у двух литературных школ – у школы французского реализма и русского реализма. Если бы это было действительно так, если бы напостовство в самом деле так руководило учебой пролетарского литературного молодняка, то оно было бы не рапповским, а группой догматиков и школяров»[508].
Так Ермилов отвел все обвинения, выдвинутые «блоком». Как будто в действительности не существовало лозунга «учебы у Толстого», как будто не было призыва Фадеева «Долой Шиллера», как будто не было ермиловского «гармоничного человека», как будто Авербах не призывал изображать «прежде всего и главным образом» психологию пролетариата.
Фадеев, дважды выступавший на ленинградской конференции, высказал ценные мысли о специфике искусства, развивая свои прежние положения. Его выступления как выдающегося пролетарского писателя и признанного авторитетного руководителя РАПП также сыграли важную роль в разгроме Литфронта, но, как и Ермилов, он отверг все обвинения, выдвинутые «блоком». Фадеев отметил серьезные трудности, которые необходимо преодолеть пролетарскому литературному движению, критиковал не менее серьезные ошибки, допущенные руководством РАПП, выдвинул новые задачи перед движением. Что касается теоретических основ художественной платформы РАПП, то он в статье об итогах ленинградской конференции заявляет, что резолюция этой конференции полностью поддержала их. «Эти положения, – пишет А. Фадеев, – дают ясный, четкий резолютивный ответ на те вымыслы о «психологическом реализме» (эдакая гимназическая чушь!), о некоем «бесклассовом» живом человеке (эдакая наивность!), об учебе только у Толстого или у французских реалистов (эдакая отсебятина!), – вымыслы, которые нудно повторяют уже много лет все противники напостовства (особенно неумно это получается у новоявленного «блока»), не будучи в состоянии понять нашей постановки вопроса о диалектико-материалистическом художественном методе»[509].
Авербах в статье «На злобу дня» призывает к политике наступления: «Смешная картина: мы кое в чем взяли явно оборонительный тон – в особенности в вопросах творческой линии. Совершенно зря! Все литературные события последнего времени настолько показали правильность (подчеркнуто автором. – С. Ш.) наших основных установок, что у нас все основания быть в положении армии наступающей, а не обороняющейся, наносящей новые удары, а не защищающейся, ведущей атаку, а не отсиживающейся в окопах. Это, повторяю я, относится и к вопросам творческой линии напостовцев»[510].
В специальной резолюции секретариата РАПП «Об итогах III областной конференции Ленинградской АПП» отмечается, что эта конференция в своих решениях будто бы полностью поддержала творческую линию РАПП и осудила «блок». В резолюции секретариата затем резко осуждаются «блоковцы», которые подменили самокритику «прямой дискредитацией литературно-политической линии РАПП». «Блок» именуется «беспринципным», «фракционным», к его представителям, продолжающим упорствовать и после конференции, секретариат угрожает применить организационные меры.
Однако руководители РАПП, не признав своих ошибок и сделав вид, что они вышли победителями из битвы с «блоком», на самом деле были испуганы событиями на ленинградской конференции. Поэтому они создавали видимость исключительного значения этой конференции, подчеркивали «огромную роль ее», как сказано в резолюции секретариата РАПП. Фадеев назвал ее «переломной конференцией, свидетельствующей о том, что РАПП начал выходить и выйдет победителем из этих трудностей»[511].
Не прав Фадеев, возвышающий ленинградскую конференцию за то, что она «единодушно признала в основном правильной (подчеркнуто автором. – С. Ш.) литературно-политическую линию РАПП… и высмеяла этот, с позволения сказать, «блок»[512].
Ленинградскую конференцию действительно следует назвать событием большой важности в развитии всей советской литературы. Конечно, и на ее решениях отразился уровень развития литературоведческой науки тех лет. Однако она явилась плодотворной во многих отношениях. Она была направлена в такой же степени против ошибок «блока», как и против ошибок руководства РАПП. И это рапповские руководители поняли и, боясь потерять престиж, превозносили конференцию за «единодушное» признание ею линии РАПП.
В резолюции конференции указано на отставание «теоретической мысли марксистской критики, объединенной в РАПП, от практических потребностей пролетарского литературного движения»[513]. «Внутри пролетарского литературного движения работают также отдельные критики, не преодолевшие своих прежних идеалистических (бергсонианских и иных) ошибок»[514] (это замечание резолюции связано с выступлениями «блока» против Гроссмана-Рощина, которого защищали и Ермилов и Фадеев). Дальше критикуется РАПП за «совершенно недостаточное внимание» к крестьянской литературе. По адресу руководства РАПП направлена и следующая замечательная мысль: «Необходимо противостоять попыткам, с чьей бы стороны они ни исходили, сужать учебу у классиков до учебы у какого-либо одного писателя или группы писателей, памятуя, что для выработки собственного метода пролетлитература должна изучать и критически пересмотреть все литературное наследство»[515]. Совершенно справедливым и новым было предложение о том, что «к дискуссиям по творческим вопросам должны быть привлечены научные силы и не входящие в рапповскую организацию. Конференция считает особенно необходимым, чтобы для дискуссии была выделена известная часть марксистских кадров, работающих в области философии и истории»[516]. Не менее важным было положение резолюции, что «попытки объявить метод какого-либо писателя или группы писателей (имеются в виду пролетарские современные писатели. – С. Ш.) образцовым для всей пролетарской литературы, тот или иной жанр единственным или господствующим не способствуют развитию пролетарской литературы, а в состоянии только загубить ее»[517]. Эта мысль получает в резолюции дальнейшее развитие. Такие жанры, как сатира, памфлет, очерк, «несмотря на острую потребность в них, находятся в зачаточном состоянии»[518].
Необходимо развивать их, «направить теоретическую мысль а разработку проблем, связанных с новыми или малоиспользуемыми пролетлитературой жанрами»[519].
Против «блока» и против напостовской школы было направлено следующее указание: «Вредным уклонением от линии пролетарской литературы является подмена раскрытия человека как совокупности общественных отношений бездейственной психологизацией, т. е. пассивно-созерцательным отношением к действительности. Этот уклон порождает тенденцию к отходу от активной борьбы за социалистическую перестройку жизни… Вредным уклонением, с другой стороны, является воскрешение пролеткультовских методов – понимание человека как голой мыслительной машины, подход к рабочему классу как некоему безликому нивелированному коллективу и иные виды схематизма и упрощенчества»[520].
Наконец, резолюция решительно выступила против «чванства, кружковщины, самодовольства, казенного оптимизма, иногда и бюрократизации», которые замечаются «как вверху, так и внизу»[521].
Как видим, резолюция ленинградской конференции содержит серьезную критику как художественной платформы, как и всей деятельности РАПП. Причем многие положения ее учитывают, хотя и не полностью, выступления представителей Литфронта.
Восторженное похваливание рапповцами резолюции, в которой учтены правильные суждения литфронтовцев, и решительное и полное отрицание и осуждение ими Литфронта, категорическое требование к «блоку» признать свои ошибки и перейти на позиции налитпостовства – такова совершенно непоследовательная линия поведения руководства РАПП. Здесь не было проявлено партийного подхода к общему делу, разумного отношения к своей деятельности, потому что ошибки, которые отрицали рапповцы, оставались ошибками на страницах их прошлых работ и всем были известны; не было проявлено и благородства к своим противникам-коммунистам, желавшим добра пролетарской литературе; не было также стремления объединить усилия с учеными, выступавшими на стороне Литфронта. Однако рапповцы многое учли из опыта борьбы с Литфронтом. В решении секретариата «Ко всем членам РАПП» с тревогой и беспокойством руководство информирует рядовых членов об «интеллигентских попытках ликвидировать РАПП» и о том, что созданию этого «интеллигентного блока способствовали наши собственные ошибки и слабости»[522].
Много было указано серьезных ошибок и слабостей в этом обращении. Самокритиковаться руководители РАПП умели мастерски. Вначале они скажут о себе похвальное слово: «Напостовское руководство РАПП – как это подтвердил опыт – занимало правильные позиции во всех основных вопросах»[523]. А после этого самовосхваления начинается самокритика и порой действительно очень суровая, как, к примеру, в этом обращении. Здесь перечислены все ошибки и недостатки РАПП, указанные литфронтовцами, резолюцией ЛАПП и добавленные сверх еще самими ее руководителями. Среди недостатков, названных рапповцами, числятся и такие: «Можно и нужно было активнее бороться за превращение Федерации советских писателей в живой центр, мобилизующий советское писательство на участие в строительстве социализма, – чего сделано не было. Можно и нужно было энергичнее выполнять свои интернациональные обязанности в ВОАПП (бездеятельность руководящих органов которого была констатирована на расширенном секретариате последнего) и в Международном бюро революционной литературы, – чего сделано не было»[524]. И вот такие «можно и нужно» и «чего сделано не было» перечисляются на нескольких страницах. Но стоило только кому-то со стороны, не из «напостовского ядра», указать хотя бы на одно из того, «чего сделано не было» рапповцами, как они сейчас же неистово ополчались на указавшего как на врага «генеральной линии РАПП».
После ленинградской конференции рапповское руководство продолжало борьбу с Литфронтом. Не было ни одного заседания комфракции, секретариата и правления РАПП, где бы так или иначе не ставился вопрос «о новой опасности».
16 июля 1930 года на заседании секретариата И. Беспалов, один из руководителей «блока», обвинял руководство РАПП «в существовании монополии, проводимой административными и всякими другими мерами одной творческой группой. Эта монополия, как всякая другая монополия, приводит к загниванию, неумению подойти критически к своей творческой продукции, и мы считаем, что необходимо, чтобы производилась творческая дискуссия, творческий поиск в пределах пролетарской литературы, и это самое главное требование»[525].
Казалось бы, рапповцам следовало принять предложение И. Беспалова, тем более что о творческих дискуссиях Говорится во всех решениях РАПП. Вместо этого руководство РАПП реагировало агрессивно, наступательно, к чему призывал Л. Авербах. Выражая мнение секретариата, В. Киршон заявил: «Мы имеем сейчас законченное нападение на нас по творческим вопросам группы, стоящей на механистической, антимарксистской переверзевской концепции (шум). Очередная задача редакции «На литературном посту», очередная задача РАПП разоблачить еще одно антикоммунистическое, антипролетарское течение (шум).
И. Беспалов: Антикоммунистическое, антипролетарское! Когда мы так говорим, вы нападаете на нас, а сами… (смех, шум, возгласы).
В. Киршон: Еще одно антикоммунистическое, антипролетарское течение в творческих вопросах, которое мы сейчас здесь имеем. Это все будет записано черным по белому, ибо всякое отклонение от марксизма является антикоммунистическим»[526].
Но литфронтовцы не сдавались. Как упоминалось, в августе 1930 года они объявили свою творческую платформу в «Литературной газете», где заявили, что Литфронт – это творческое объединение внутри РАПП. Они выступали в печати, в том числе и в «Правде», с резкой критикой ошибок РАПП, с обвинениями Ю. Либединского и В. Ермилова в идеализме и в правом оппортунизме. Обвинения были и очень серьезными, и достаточно мотивированными, а главное, они прозвучали на страницах авторитетной печати. Это обстоятельство чрезвычайно обеспокоило руководство РАПП, и налитпостовцы ринулись в решительное наступление на Литфронт. 26 октября 1930 года было созвано специальное заседание комфракции секретариата: Ю. Либединский выступил с речью, в которой чувствовалась растерянность: «Выходит так, что Либединский и Ермилов – правые в организации… Благодаря «Рождению героя» я оказался самым слабым местом всего нашего фронта; они (литфронтовцы. – С. Ш.) сделали все, чтобы скомпрометировать меня на почве имеющихся моих ошибок, превращая меня в правого оппортуниста»[527].
В. Киршон потребовал ликвидировать Литфронт, назвав его линию продолжением троцкистской линии Лелевича 1925 года.
Л. Авербах отвергает обвинения, предъявленные Либединскому и Ермилову. «Ошибки Ермилова, – заявил он на заседании комфракции секретариата РАПП от 26 октября 1930 года, – были ошибками роста. Его брошюра «Творческие разногласия» (имеется в виду публикация доклада Ермилова на ленинградской конференции. – С. Ш.) – прекрасная брошюра, на которую я готов поставить свою подпись и штамп РАПП»[528]. Насколько распоясался Авербах, видно из его наглого ультимативного заявления, в котором он так ставит вопрос перед секретариатом ЦК ВКП(б): «Или уймите «Правду» и дайте нам работать, или меняйте руководство РАПП»[529]. Авербах предлагает немедленно исключить из РАПП Зонина и Родова. Это предложение проходит единогласно.
В ноябре 1930 года Литфронт как творческое объединение прекратил свое существование. 15 ноября этого года в «Литературной газете» было опубликовано заявление части членов Литфронта о нецелесообразности дальнейшего существования этого объединения, о выходе из него, чтобы работать внутри РАПП. Заявление подписали И. Альтман, М. Бочачер, А. Волков, г. Вовси, М. Гельфанд, Б. Дайреджиев, Я. Ильин, Л. Немченко, Б. Резников.
В течение всего 1931 года рапповцы торжественно отмечали свою победу над Литфронтом. Однако это торжество было одним из самых наглядных показателей их недальновидности. Как ни в каком другом случае, в их отношении к Литфронту проявились с годами накапливавшиеся отрицательные качества рапповского руководства: отсутствие трезвой оценки своей деятельности, подозрительность к любой критике по их адресу, подозрительность, переходящая затем во враждебные действия к своим противникам. А «противниками», как правило, оказывались свои же товарищи-коммунисты. В случае с Литфронтом, как никогда, обнаружила свое отвратительное лицо групповщина, пожиравшая разум и благородные чувства и приводившая к беспринципности.
Недальновидность рапповцев, обусловленная групповыми интересами, привела к самым нежелательным для них результатам: они, по существу, противопоставили себя всему фронту нашей передовой науки и широкому кругу общественности. Рапповцы думали, что в лице Литфронта громят очередную враждебную им литературную группировку, на самом же деле они неистово рубили тот сук, на котором сидели сами. Если бы напостовцы проявили дальновидность, то есть пошли на широкое товарищеское сотрудничество со всеми коммунистическими силами в науке и литературе, на решительное и равноправное сближение со всеми отрядами советских писателей, то они сами пришли бы к тому выводу, который партия сделала в 1932 году. Решение ЦК ВКП(б) не оказалось бы для них столь неожиданным, потрясшим все их рапповские основы, и не поставило бы их в смешную позу людей, саботирующих политику партии; но, видимо, в этом случае рапповцы перестали бы быть рапповцами.
Надо отдать должное, некоторые из руководителей РАПП близко подходили к мысли о ее реорганизации. За год до решения ЦК ВКП(б) в письме к Серафимовичу, выражавшему серьезное беспокойство состоянием дела в РАПП и видевшему главного виновника такого состояния в лице Авербаха, Фадеев разъяснял своему старшему товарищу: «Дело не в Авербахе одном – работает он
безумно много и приносит больше пользы, чем вреда (ты не преуменьшай его роли: «боятся» его только дураки и приспособленцы, а большинство его уважают на самом деле, ибо он заслуживает этого…) – дело в нашей системе (подчеркнуто автором письма. – С. Ш.) работы, которая не приспособлена никак к работе с писателями. Мы меньше всего занимаемся писателем и литературой, как это ни смешно, и чтобы исправить это, нужен целый переворот. А так как я человек сам пишущий и сильно занятой, то возглавить этот переворот не могу – остается только злиться да исправлять частности»[530]. Этот во многих отношениях интересный документ свидетельствует о том, как серьезно задумывался Фадеев над судьбой своей организации, насколько был недоволен ее «системой работы», изменить которую можно лишь путем «целого переворота».
Однако, как показывает содержание всего письма, Фадеев думал о таком перевороте «системы работы», который бы не разрушил, а, наоборот, укрепил РАПП. Он думал о коренном улучшении работы в рамках РАПП. К великому сожалению, он не поднялся до той мысли, которая заключена в постановлении ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Отвечая на то место из письма Серафимовича, где старейший пролетарский писатель объясняет, почему он подал заявление о выходе из РАПП, Фадеев пишет: «Видишь ли, я сам в течение многих уже недель подумывал о выходе не из РАПП, – РАПП – это политическая (а не только литературная) исторически сложившаяся боевая организация рабочего класса, и выходить из нее нельзя ни мне, ни тебе – это возрадует только классовых врагов, – а думал я о выходе из секретариата, ибо работать там не имею возможности, а отвечать за его дела приходится, а работает он не так и делает не то, что нужно сейчас делать»[531].
Непоколебимое убеждение неистовых ревнителей в том, что «РАПП – это политическая исторически сложившаяся боевая организация рабочего класса», и приводило их к серьезным заблуждениям. Отсюда идет и перенесение на творческую организацию методов работы партийной организации, ибо рапповцы были убеждены в том, что как рабочий класс не может обочтись без партии, так он не может обойтись и без РАПП. Отсюда и борьба за чистоту генеральной линии РАПП. Удивительно, как живучи, неистребимы, продолжительны бывают заблуждения даже у таких умных и проницательных людей, как Фадеев.
Противоречие между состоянием групповой замкнутости ведущей литературной организации, с одной СТОРОНЫ, и состоянием большой советской литературы, в идейном отношении уже не уступавшей пролетарской, – с другой, начиная с конца 20-х и начала 30-х годов, давало о себе знать все с большей и большей силой. Нагромождение же новых и новых ошибок и глупостей руководителями РАПП делало это противоречие болезненным и нелепым.
Дни существования РАПП были сочтены.
ГЛАВА 3
В деятельности налитпостовства и всего пролетарского литературного движения 1931 год был очень шумным, беспокойным. Жизнь требовала от руководителей пролетарской организации откликаться на ее новые, небывалые в истории человечества события, явления, процессы. Зародилось социалистическое соревнование, появилось движение ударников производства, лучшие из них, как герои труда, удостоились первых правительственных наград. Рапповцы должны были на все это реагировать немедленно, чтобы не отстать от жизни. Надо отдать им должное: они это понимали.
Они объявили призыв ударников в литературу, показ в литературе героев первой пятилетки, откомандировали всех писателей, в том числе и членов секретариата, на предприятия для руководства творческими кружками; были посланы и производственные бригады на все гигантские и не только гигантские новостройки. Партийные, профсоюзные и комсомольские организации поддерживали и содействовали реализации мероприятий РАПП. М. Горький приветствовал: все эти начинания и принял самое активное участие в них. Он множество раз встречался с рабочими-литкружковцами, беседовал с ними о литературе и художественном мастерстве. Выезжал на предприятия, выступал в печати.
Понятно, почему Горький, как и все разумные советские люди, встретил это движение с восторгом. Начался новый этап культурной революции, миллионы, как никогда, потянулись к образованию, к науке, к творчеству. Вся советская интеллигенция, в том числе и художественная, пошла навстречу этому всенародному устремлению. Горький понимал, что широкие слои народа выдвинут из своей среды творцов нового искусства новой эпохи. Надо только помочь их отыскать, надо образовать и воспитать их, так как без образования и воспитания, – без огромного труда над собой никогда не может появиться подлинный художник. Горький это знал по себе.
Однако рапповцы все свои начинания, поддержанные Широкой общественностью, доводили до абсурдного конца.
«Призыв ударников в литературу» привлек тысячи рабочих в литературные кружки. Началась учеба. Некоторые рабочие-ударники, по совету Горького и при поддержке ВЦСПС, стали выпускать брошюры «Мой опыт», в которых рассказывали о своей жизни и делились опытом работы. Все это было хорошим и нужным делом.
Рапповцы же увидели в «призыве ударников» осуществление своей заветной мечты: наконец-то пролетариат пришел в литературу и совершает в ней революцию. Практически это выглядело так. 30 октября 1930 года на заседании секретариата РАПП Авербахом впервые был брошен лозунг о призыве ударников в литературу. Он сказал: «Вербовка рабочих-ударников в литературу представляет гигантской важности факт в истории нашего движения, про который можно было бы сказать, что он заканчивает предысторию РАПП и начинает действительную историю. Впервые… реализуется на деле то, о чем мы говорили»[532]. Вслед за призывом, в соответствии с ложными убеждениями рапповцев, был брошен второй лозунг – «Ударник производства – центральная фигура пролетарского литературного движения». Простые рабочие, имевшие большой жизненный опыт, с воодушевлением и мастерством работавшие на производстве, преданные делу строительства социализма, в своем абсолютном большинстве еще не были готовы к литературной деятельности. Тем из них, кто обладал природным даром творчества, предстояла долгая учеба. Рапповцы же не считались с этим. Своими решениями «орабочить пролетарские литературные организации сверху донизу» они требовали от ассоциаций ввести (во все органы издательств, редколлегии журналов) рабочих от станка. Смешно и горько становится, когда, перелистывая составы секретариата и правления РАПП, редколлегий журналов «Октябрь» и «На литературном посту» за 1931 год, в конце списка все тех же известных фамилий писателей и критиков встречаешь: «ударник производства». Нет ему ни имени, ни фамилии. Лишь позже в секретариате РАПП под этим абстрактным названием появилась фамилия т. Фридмана, а в редколлегии «Октября» – т. Резчикова.
В апреле 1931 года секретариат РАПП подвел первые итоги призыва. Вот что сообщил В. Ильенков на заседании секретариата:
«Из всех призванных есть небольшое количество, единицы, которые могут сейчас писать – плохо ли, хорошо ли – это вопрос другой, но которые овладевают элементами художественного творчества, – это, повторяю, единицы, а огромная масса (было призвано несколько тысяч. – С. Ш.) – это невыявившиеся, неопределившиеся, которых мы можем рассматривать как массу читателей»[533]. И тем не менее в июне 1931 года все еще отмечалось: «Призыв рабочих-ударников коренным образом изменил лицо организации. Ударники стали самыми активными участниками нашей организации, и литературное дело по-настоящему становится частью общепролетарского дела»[534]. Однако здесь же резолюция пленума правления МАПП констатировала: «Это вовсе не значит, что творчество ударников совершенно. Очень часто стихи, очерки, рассказы ударников примитивны, фактографичны, не поднимаются до обобщений, страдают цеховой замкнутостью, ограниченностью мировоззрения ударников»[535]. Еще более реально посмотрел на положение дел только что прибывший из Ростова-на-Дону И. Макарьев: «Мы много болтаем об ударничестве. Подсчитываем цифры, хвалимся числом кружков… А вот где у нас работа по руководству этими начинающими рабочими-писателями? Мы говорим не о «циркулярном», казенном «руководстве» (этого у нас достаточно), а о руководстве их творчеством? Плохо с ним. Почти нет его»[536].
Несмотря на реальную картину, которую рисовали сами же рапповцы, вплоть до декабря 1931 года они продолжали отстаивать лозунг: «Ударник производства – центральная фигура пролетарского литературного движения». В декабре 1931 года ЦК ВКП(б) сделал справедливое замечание по поводу неправомерности и абсурдности такой постановки вопроса руководителями РАПП. После этого в заключительном слове на 5-м пленуме РАПП Л. Авербах вынужден был заявить: «Правда, мы делали ошибку, когда говорили, что сегодня ударник стал центральной фигурой пролетарского литературного движения»[537]. Следует обратить внимание на слово «сегодня». Авербах согласен, что сегодня ударник еще не стал центральной фигурой, но завтра он станет этой фигурой. Именно в соответствии с этим своим убеждением он и произносит на 5-м пленуме РАПП свои печально знаменитые слова: «Рабочий класс по-настоящему и действительно совершит в художественном развитии человечества шаг вперед только тогда, когда революция будет произведена и в самой литературе»[538].
В связи с указаниями ЦК ВКП(б) руководство РАПП круто перестроилось. Но на местах об этой перестройке ничего не знали. Вместо того чтобы разъяснить ими же допущенную ошибку, руководители ударили по журналу «Уральский коммунист», выступившему летом 1931 года со статьей начинающего критика И. Амурского «Литературное движение на Урале», в которой тот рассказывает о творчестве ударника Галиулина. Вот как в начале 1932 года ответил на это А. Селивановский, приведя фразу из статьи молодого критика: «Надо взять твердый курс на воспитание Галиулиных в литературе». Что означает эта тирада? Не только воспроизведение ошибочного осужденного партией тезиса о том, что «рабочий-ударник уже стал центральной фигурой пролетарского литературного движения», но и его сверх «левацкое» развитие, утверждение, что Магнитострой литературы, то есть произведения, являющиеся «новым шагом вперед» в развитии всего человечества (Ленин), уже сегодня создаются рабочими-ударниками – и только ими. Это верх «левацкого» вульгаризаторства и это неслучайная обмолвка. «Левацкие» вульгаризаторы типа И. Амурского, по-интеллигентски сюсюкающие перед рабочими-ударниками, хотят превратить рабочего-ударника на сегодняшний день в единственного творца пролетарской литературы…»[539]. В заключение Селивановский заявил, что позиция РАПП ничего общего не имеет «с этим вульгаризаторством».
Вот уж, как говорится, с больной головы – на здоровую! В мае 1931 года не где-нибудь, а на пленуме ВОАПП сам Авербах заявил, что «рабочие-ударники должны чувствовать себя в ВОАПП не случайными гостями, но хозяевами… вместе с нами в полной мере отвечающими за литературный фронт перед нашей партией, перед нашим классом»[540], а в начале 1932 года за повторение этих же мыслей обвиняется в «сверх «левацком» вульгаризаторстве» и в «интеллигентском сюсюкании» перед ударниками рядовой начинающий критик.
Партия своевременно поправила рапповцев, и их лозунг, ставивший в неудобное положение простых скромных рабочих перед большими мастерами художественного слова, у которых рабочие-литкружковцы с благодарностью учились, к счастью для нашей литературы, просуществовал всего несколько месяцев, а творческие кружки остались, и из них вышло потом новое поколение писателей.