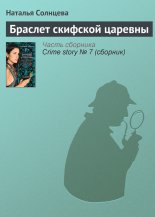Гончарный круг (сборник) Кушу Аслан

– Я всегда вас читал с большим интересом. Теперь, не скрою, что бывалых филигранности, глубины, изюминки в публикациях ваших не вижу. Мне кажется, вы в творческом ступоре.
Рустам прикусил губу, задетый за больное. Но кому и какое до этого дело!
– Я принес то, что, надеюсь, спасет вас от кризиса, будет очень на пользу, – продолжил незнакомец.
Он раскрыл пакет, достал из него бережно тетрадь и положил перед ним.
«На пользу?! – порассуждал про себя Гутов. – Явление очередного гения! А мне потом до нервного срыва копаться в графоманском сумбуре в поисках сути, которой в подобных трудах обычно нет».
Посетитель, явно неглупый человек и хороший физиономист, вновь уловил его настроение и отчеканил:
– Понимаете ли, я принес вам рукопись, составленную из писем двадцатилетней девушки, прикованной с детства к инвалидной коляске. В них слог пульсирует, как живой… Есть в рукописи и мои ответы ей, кое-какие размышления.
Некоторая его страстность и порыв стали вызывать интерес Рустама.
– Будучи еще совсем девочкой, – продолжил незнакомец, – Раиса, так ее звали, писала письма на дощечках и бросала их в реку с обрыва. Странная затея, не правда ли?
– Письма – крик вопиющего в пустыне, – поразмышлял вслух Рустам.
– Так то оно так, – поддержал его посетитель. – Но сколько было в этом веры, мечты, терпеливого ожидания, что кто-то ее поймет.
– И дождалась? – спросил Рустам.
– Как сказать, – уклончиво ответил тот. – Не знаю, смог ли я дать ей хоть толику того, чего она ждала от переписки, но я хорошо понимал ее, и она смогла вернуть меня к жизни.
На мгновение посетитель стал сумрачен и будто бы ушел в себя, а потом продолжил:
– В то время я потерял жену и дочь в автокатастрофе. И казалось, жизнь моя остановилась на этом. Посчитав мир агрессивным, я обозлился и замкнулся: ушел с работы, не общался с родственниками, не отвечал на звонки друзей и коллег, мог часами возбужденно ходить по дому, не находя в нем нигде покоя. «Почему беда случилась именно со мной, чем я разгневал бога? За что?» – эти вопросы терзали мою душу в клочья и превратили ее к годовщине гибели семьи в лохмотья бродяги. Я стал наг, слаб и беззащитен. Пребывая как-то в том состоянии отчаяния, когда помышляют о самоубийстве, я увидел голубя на своем окне. Он сидел, болезненно нахохлившись, чуть запав на левую лапку. «Тебя еще не хватало! – набросился на него. – Кыш – кыш!» Но он даже не шелохнулся. Тогда я осторожно взял птицу, присмотрелся к лапке. Она была прокушена. Помазал ее йодом, перевязал. Недели две поухаживав за ним, заметил, что с оживающей птицей становлюсь как-то жизнерадостней сам. Раньше признаться, не любил держать пернатых в доме. Теперь же стал испытывать благотворное, почти благостное влияние живого существа рядом. Я поменялся в лице, посвежел, а однажды, когда поутру голубь клюнул в щеку и разбудил, улыбнулся впервые за этот год. Прошло еще несколько дней такой идиллии, мой подопечный совсем выздоровел, но потом почему-то затосковал и все чаще и чаще стал метаться у окна. «Даже рожденный ходить человек, не отказался от мечты воспарить и научился этому, а тут птица…» – смирился я, и, решив, будь что будет, открыл настежь окна. Мой Магистр, которого я назвал так из-за сановитости его и сметливости, взметнулся, некоторое время покружил по двору и полетел на юг, словно торопился домой.
– Впрочем, – остановился на этом посетитель, – все последующее есть в рукописи.
– Ладно. Я прочту ее, – заинтересованно согласился Гутов.
Незнакомец же, не назвав ни своих фамилии, имени, адреса, скрылся за дверью. Рустам выглянул в окно и увидел как тот торопливо пересек улицу и растворился в парке, что был напротив. «Странный человек, – подумал он, – странный. С одной стороны, был горячечно-нетерпелив, чтобы рукопись прочитали, а с другой – даже не спросил, когда за ней зайти».
Он взял рукопись домой. И хотя депрессия и вследствие ее каждодневный упадок сил клонили ко сну, все же открыл тетрадь.
«Магистр улетел, – писал он, – и в моем доме вновь воцарилась пустота, пустота везде и во всем. Иногда я сбегаю от нее на улицу, к людям, но и они не спасают, потому что слушая – не слышу их, смотрю – и не вижу. Странное ощущение быть в этой гнетущей прострации, быть одиноким, находясь среди людей.
Раньше я любил бывать за городом и долго бродить по полям. Теперь же не хочу этого. Их простор ужасает меня, как могут ужасать масштабы океана человека, выжившего после кораблекрушения и оставшегося наедине с ним. Душа более не рвется на свободу, на простор, ни на мгновение не хочет покидать тело, довольствуясь тем, что терзает и терзает его. От меня даже стали уходить любимые вещи – дурной знак! Недавно я нечаянно разбил китайскую вазу, потерял серебряный портсигар, прожег утюгом английский пиджак. Мне нечем себя занять, некуда деть, потому что ни к чему не лежит душа.
Все это время с фотографии на стене смотрят на меня жена и дочь, и будто бы говорят с немым укором: «Что же ты поник? Тот, кто остался, должен жить! Не мучай нас, живи!..» Но я не могу с собой ничего поделать.
Так я протянул почти две недели, а потом Магистр вернулся в мой дом и вновь наполнил его светом. О, чудо! Я стал опять видеть и слышать мир, радоваться его звукам и краскам, наслаждаться им, как и прежде. И сил от этого хватило, чтобы переждать то время, когда голубь снова улетел, а потом вернулся. Затем он сделал это еще несколько раз и однажды принес письмо, написанное мелким почерком на листке из блокнота. «Добрый человек, – писал незнакомый абонент, – спасибо, что вылечили моего Светозара. Он у меня ручной, не боится наших кошки и собаки, наверное, потому и пострадал по доверчивости от кого-то из их сородичей. Последнее время я поняла, что мой плутишка стал жить на два хозяина, вот и решилась написать и поблагодарить. Зовут меня Раиса. С детства в инвалидной коляске. Дефицит общения очень острый. Если пожелаете переписываться, ответ, пожалуйста, передайте со Светозаром».
Письмо это несколько обескуражило меня. «Именем то каким назвала голубя, тонко подметила! – удивился я. – И впрямь, Светозар!.. Но что могут сказать в переписке два человека, обиженные судьбой, разве пожаловаться на нее друг другу?»
Я не знал ее и, опасаясь, что, если откажу в переписке, она больше не станет пускать Светозара ко мне, осторожно ответил: «Здравствуйте Раиса! Получил ваше письмо, за которое благодарен. Очень сожалею, но переписываться с кем-либо мне сегодня будет трудно. Я пережил личную трагедию, и к словам абсолютно не лежит душа. Хочу, очень хочу побыть один. Не обессудьте!»
Через несколько дней Светозар принес ее ответ: «Добрый человек, – писала она – крайне сожалею, что вы находитесь в таком изнеможении. Чувствую, что вам плохо, но прошу не отчаиваться и не замыкаться в себе. Поспорю с вами, если позволите, и на счет переписки. Глухой может быть поводырем у слепого, а слепой слушать за него, намного хуже обстоит, когда каждый из них сам по себе.
В любом человеке живет Бог и дьявол. Слушайте Бога, как это делаю я, и он спасет вас от одиночества и залечит душевную рану, а главное – примирит с судьбой».
«Вот оно как! – задумался я. – Тут, оказывается, целая наука. И, похоже, это девочка достаточно цельна и сильна, совсем не собирается плакаться и одолевать своими проблемами».
Я был поражен и долго сидел без движения во дворе, бичуя себя за то, что еще не старый мужчина – дал слабинку. Думал о ней, в инвалидной коляске: о Боже, которая хочет помочь выстоять! Мне протянули руку, и я принял ее…
Однако, пока думал обо всем этом, наш Светозар улетел.
Потом во мне стали происходить разительные перемены: по утрам возобновил зарядку, навел идеальный порядок в доме, лучше следил за внешним видом, все ближе и ближе возвращаясь к полнокровной жизни. И еще – цветы. Я возобновил, как говорила в прошлом моя жена, свой роман с цветами, выращивать и трепетно ухаживать за которыми, к удивлению моих друзей – мужчин, очень любил. Наша богатая оранжерея вновь посвежела, ярче заиграла красками и заблагоухала. И однажды, находясь в ней, я поймал себя на мысли, что очень жду возвращения Светозара, а с ним и непременной весточки от Раисы. Он наконец вернулся и, как посланник, гордый тем, что успешно выполнил волю своей королевы, напыжившись, воссел на моем окне. Я снял с его шеи ленточку, на которой было письмо. «Добрый человек, какой вы не хороший, – писала Раиса, – почему не ответили мне? Ну ничего, научена ждать. В 10 лет я писала на дощечках письма детских откровений о самом потаенном в душе и бросала их с обрыва в реку. Бросала, наивно полагая, что кто-то их обязательно прочтет, поймет и ответит. Но реки не текут вспять, ответов не было. Потом, чуть повзрослев, решила, что письма мои по реке, которая течет так же, как и время, уплыли в вечность, туда, где счастье не иллюзорно, а жизнь бесконечна, туда, где поняли их и мне уже хорошо в своих мечтах».
«Дорогая Раиса! – вывел в тот день, волнуясь, я. – Извините, что в последний раз не ответил на письмо. Признаться, очень задумался над его содержанием, о вас, и не заметил, как Светозар улетел. Наверное, и мне пора рассказать о себе. Зовут Арсений. Более года назад потерял в автокатастрофе жену и дочь. Переживаю горькую утрату до сих пор. Но ваши письма и Светозар понемногу выводят меня из состояния скорби и отрешенности. До вас я сросся со своей болью и никому не позволял ее утолить. Соболезнования, ахи и охи вслед, не только не рубцевали душевную рану, но еще больше и больше бередили ее. Вы для меня – это нечто совсем другое. Извините за грубое сравнение и натурализм, но иногда кажется, будто бы вы сделали мне безболезненное вскрытие черепа и пролили в сознание теплый и яркий свет, навсегда рассеяв в нем сгустившийся мрак. Спасибо, Раиса, за то, что есть на этом свете вы и ваш голубь с чудным именем – Светозар! Пишите, с нетерпением жду ответа».
«О вашем горе не скажу ни слова, – ответила она. – Лучше помолчу вместе с вами…
Когда ты здоров, весь мир принадлежит тебе, считали древние. А когда ты не здоров? Наверное, надо верить в закон компенсации. Вот я, к примеру, прикована с восьми лет к своей опостылевшей коляске, но взамен мне дана способность горячо любить жизнь, что очень наполняет. И потом, я парю по ночам, любуюсь землей с высоты птичьего полета, такой всегда красивой и такой разной, как в калейдоскопе. Подобные минуты счастья, когда захватывает дух, согласитесь, даются не каждому. Много читаю и снова парю наяву, парю в воображении, не зная границ ни во времени, ни в пространстве, совершаю подвиги с героями книг, влюбляюсь, страдаю, разочаровываюсь и снова влюбляюсь – живу!..
Счастье, Арсений, как песок в песочных часах: где-то убывает, а в чем-то прибывает. Закон компенсации существует, надо верить, а иначе просто незачем тебе будет жить».
«Моя компенсация – вы! – возбужденно ответил я ей в следующий раз.
«Я?! Лягушонка в железной коробчонке, которой никогда не суждено стать Василисой Прекрасной?»
«Мне важен внутренний мир человека, а не внешний облик и состояние, – настаивал я. – И если вижу в вас то, что мне необходимо, без чего не смогу больше жить, и вы чувствуете то же самое – это любовь!
«Да. Я чувствую то же самое, – ответила она, – но даже в мечтах не хочу быть обузой.
«Но вы отогрели мое сердце, я ожил во многом благодаря вам. Пожалуйста, дайте свой адрес».
«Нет, нет, нет! – ответила она. – Пусть все останется так, как есть».
Несколько месяцев мы изливали друг другу душу, потом еще полгода вели эту переписку, (которую я построил как диалог) – и все лишь для того, чтобы она ответила «нет, нет, нет»! – недоумевал я. Пустота снова закралась в мой дом. Я боялся ее и днями не возвращался в него, но и это не спасало, потому что, уходя, уносил пустоту вместе с собой. Потом, собравшись, все же решился терпеливо дождаться Светозара. Он долго не летел «Неужели она закрыла его?». «Как она могла так со мной поступить?» – сокрушался я, все глубже и глубже впадая в отчаяние.
Светозар прилетел поздно вечером, в воскресенье.
«Можно ли влюбиться в человека, которого никогда не видел? – спрашивала она. – Нет! Это самообман. Потому что в таком случае влюбляемся в воображаемое нами».
«Иногда мы влюбляемся даже в то, что вообразили себе в человеке, который рядом, – ответил я. – Это тоже самообман. Я же испытываю к вам родство души, роднее не бывает, трепет глубокого чувства».
«Мне всегда кажется, будто бы мы отражаемся друг в друге, как в зеркале, – ответила она. – И боюсь при этом уподобиться ослику из сказки, который провел детство с жеребятами, считая себя таким же резвым красавцем. Они подросли. И вот однажды, мня себя таким же статным скакуном, как и они, ослик увидел на зеркальное глади водопоя свое отражение, страшно испугался, был жестоко потрясен и умер. Не мнила и не хочу мнить себя скакуном, чтобы при встрече, увидев свое отражение в ваших глазах, совсем не потеряться.
«Что за глупости? Я не позволю вам потеряться, – ответил я. – Этого не может быть!»
«Может, дорогой, может! – коротко заключила она.
После этих слов прошел еще один мучительный месяц, в котором от нее не было ни весточки. Затем наконец Светозар прилетел. Как утопающий хватается за соломинку, я торопливо взял письмо, быстро ушел в дальний угол оранжереи. «Извините, – писала она, – хотя в том, что долго не отвечала, нет моей вины. Наш Светозар сам влюбился, а потому все этот время ему было не до нас. Он целовался на крыше с сизой голубкой, забавно было смотреть.
Многое изменилось за этот месяц и в моей жизни. Горько и больно вспоминать, но я стала женщиной… Ненавижу, ненавижу их!»
«Кого их?» – в тревоге поинтересовался я. – Напиши свой адрес, прилечу птицею, накажу тех, кто обидел, и умчу туда, где нам будет хорошо вместе.
В этот же день Светозар, будто стараясь упредить непоправимое, принес ее ответ.
«Зачем тебе яблоко, которое надкусывали другие, листья, по которым они безжалостно потоптались, – писала она. – Мне теперь нигде и никогда не будет хорошо, кроме как там, куда из детства уплыли мои письма, где уже прекрасно чувствую себя в мечтах…
Когда ты получишь это последнее послание, я буду лежать, как поломанная кукла, на белых камнях, и так случится, что в нем чуть-чуть переживу себя. А ты живи, дорогой. Я оставляю тебе ясную зарю, голубое небо, зеленую траву, чистые реки и пруды, все, все, чем дорожила в благодарность за то, что понял и полюбил меня. Живи и будь счастлив. Ты это заслужил. Твоя навеки-вечные Раиса».
Гутов закрыл последнюю страницу тетради с неоконченной рукописью. После этого тот, кто принес ее, не приходил к нему еще некоторое время. Рустам мог бы бросить рукопись в долгий ящик, как часто делал, но тут был иной случай, ему не терпелось узнать – чем же все закончилось. Он вспомнил последнее письмо Раисы и ее слова: «Когда ты получить это последнее послание, я буду лежать, как поломанная кукла, на белых камнях… «Белые камни, белые камни? – силился припомнить он и, как хороший знаток данной местности, вспомнил, где видел их. Несколько белых валунов находились на излучине реки у города Теплые Воды. Их привезли туда и уложили, чтобы вода более не подмывала обрыв. «Обрыв!.. Она бросилась с него на белые камни!» – обожгло его.
На следующий день Рустам выехал в Теплые воды, бывать в которых любил прежде. Он с удовольствием бродил по горам в вековечных деревьях, окружавших город, изучал все новые и новые надписи туристов на стенах мрачного ущелья, названного невесть кем, когда и зачем именем гениального поэта – Дантовым, прикасался и прохладе древнего «счастливого камня», поставленного в память о паломнике, возвращавшемся из Мекки и нашедшем упокоении тут.
На сей раз он отказался от этих удовольствий и сразу направился к белым камням. Рядом, на лодочной станции, двое мужчин средних лет, в спортивных костюмах, сидя в шезлонгах, наблюдали тренировку гребцов на байдарках. Один из них оглянулся на шум шагов Рустама по деревянному настилу над водой, окликнул лодочника: «Валь, человек к тебе». Из дощатого домика на пристани вышел мужчина лет пятидесяти, крепкий на вид и поджарый.
– Водный велосипед, байдарку или просто лодку желаете? – поинтересовался он.
– Я совсем по другому вопросу, – ответил Рустам. – По белым камням…
Лодочник кивнул:
– Из прокуратуры, что ли?
– Нет. Из газеты.
Лодочник облокотился на перила и, постукивая большим пальцем правой руки по указательному левой, пояснил: «Я на этой станции с первого ее дня. А дом той девушки, Раисы, вот там, за обрывом, над камнями. Так что, по-соседски знал ее с самого рождения. Она росла, как и многие дети, любознательным ребенком. Бывало, спустится на станцию в своем белом сарафанчике на босую ногу и давай засыпать вопросам: «Дядь Валь, а это что, а это?» Она все больше и больше спешила раздвинуть границы видимого ею отсюда мира. Однажды спросила: «Дядь Валь, а куда всегда уплывают ваши лодки?» Я, придумав название несуществующему городу, пошутил: «Как куда, Раиска, в Звенигорск». У нее мечтательно загорелись глаза. «В Звенигорск! – воскликнула она и ухватила меня за руку. – Наверное, это очень красивый город? Дядь Валь, пожалуйста, возьмите меня в него с собой!» Первый раз я пожалел, что так глупо пошутил с ребенком.
А потом случилась эта беда. Холодной осенью отец и мать взяли ее на сбор каштанов в горы. Набрав их, сразу поторопились домой, так как накануне в горах прошел ливень и нужно было до паводка перебраться через реку. А реки наши горные, известное дело, коварного и крутого нрава, не предугадаешь, когда взорвутся. В общем, не успели они. Нахлынувшим потоком опрокинуло лодку, а Василий, отец ее, смог только дочь спасти, а жену унесло…
С того самого дня будто уцепился за них злой рок. Из-за осложнений у восьмилетней Раисы отнялись ноги. А когда в стране начался этот переполох, названный перестройкой, и она запылала, как подожженная с разных краев куча хвороста, Василия, что работал водителем-дальнобойщиком, отправили в «горячую точку» с каким-то ценным грузом, и он без вести пропал там. Правда, потом по городу поползли слухи, что выжил он, бежал из плена и прячется в горах, мол, видели егери. Прячется, опасаясь за сестру, которая жила с ними и дочь, так как груз ценный тот был оружием на продажу и принадлежал каким-то высокопоставленным бандюкам. Узнай они, что выжил он, досталось бы родне. А так – нет человека, и спрашивать не с кого.
– В то злополучное утро, – глухо продолжил лодочник, – на станции, как назло, скопилось много отдыхающих, я едва успевал выдавать им плавсредства, потому и не заметил сразу, что Раиса непривычно близко подъехала на коляске к обрыву Когда же увидел ее, зная о случившемся накануне, рванулся к берегу, но не прошло и нескольких секунд, как она уже лежала на камнях…
– Что произошло накануне? – спросил с плохим предчувствием Гутов.
– Над ней надругались два пьяных ублюдка – туриста.
– Безнаказанно?
– Куда там! – ответил лодочник. – После обеда, узнав, что они скрылись в горах, наши охотники и милиционеры отправились на их поиски, но нашли под вечер убитыми.
– И кого подозревают?
– Они – никого! – смолк на секунду лодочник, а затем почти прошептал на ухо Рустаму. – А я вот… Был тут какой таинственный смуглый человек в черном, сразу после ее гибели был. Постоял несколько минут у камней, на которых еще была ее кровь, и, кажется, поплакал, видел я со спины, как подрагивали его плечи. Знаю точно, не из родни он Раисы, но, видно, не чужой ей был человек. Голубь тут, Светозар, еще долго сидел на камнях, после того, как ее унесли. Он хоть и ручной, но только ей давался. А тут, увидев того человека, сразу к нему на плечо. Так и ушел с ним…
«Арсений!» – подумал Гутов.
В жизни, как и в этой истории, наступила осень, и погнали ветры поземкой листву. Дворники каждое утро упрямо и тщательно подметали ее, а машины отвозили эти пожелтевшие страницы весны и лета на свалку. Гутов грустил в эту пору, потому что, как казалось ему, из жизни безвозвратно уходило что-то особенно значимое, весомое, дорогое. Выметалось грубо, вывозилось и сваливалось…
После работы, чуть приподняв воротник плаща, он, как и обычно, направился домой через парк. Где-то в середине, у озерка, его кто-то окликнул. Оглянулся. Под молодым платаном на лавочке сидел Арсений.
– Вы? – удивился Рустам.
– Совсем уже не ждали, – приподнялся тот и протянул руку.
На этот раз он был аккуратно выбрит, с твердым и спокойным взглядом, что делало его более уверенным в себе. После небольшой паузы Арсений поинтересовался:
– Вы прочитали рукопись?
– Да.
– И вам не интересно, чем все закончилось?
– Я знаю, – ответил Рустам.
– Впрочем, тогда, в редакции, я и предполагал, что вы не усидите без собственного расследования. Поэтому и отдал вам неоконченную рукопись. Теперь же вы, если и не прямое, то косвенное действующее лицо этой истории, сможете правдиво и неравнодушно описать ее.
– Я то знаю, но не все, – продолжил Гутов. – Как вы нашли их?
– Тех двух туристов? – нервно переспросил Арсений, а потом, чуть успокоившись, рассказал: – Я приехал до обеда на белые камни, нахождение которых вспомнил, вероятно, как и вы, разузнал о происшедшем. Остальное было делом техники, ведь я еще в школе баловался туризмом, знал хорошо все маршруты, места те исходил вдоль и поперек. Вот и догнал их быстро на небольшой лужайке. Признаться, и меня тогда переполнял гнев, и я был вполне готов казнить этих мерзавцев, но тот высокий блондин в куртке и брюках защитного цвета опередил и уже делал свое дело. Когда я вышел на ту лужайку, он в последний раз передернул винчестер над расстрелянными, после чего, дымясь, из него вылетела пустая гильза, осмотрелся по сторонам. Увидев меня, снова дослал патрон в патронник… Я надолго запомнил его взгляд и глаза, совсем почему-то не злые, а с каким-то пронзительно-тоскливым и тлеющим огоньком. Почему он передумал в меня стрелять, убрать нежелательного свидетеля, до сих пор ума не приложу. Опустив оружие, удивленно оглядываясь, незнакомец торопливо скрылся в лесу.
– А где в это время был Светозар? – спросил Рустам.
– Как где, со мной, на плече…
– Это был точно он! – заключил Гутов.
– Кто?
– Отец Раисы, Василий. Говорят, он прячется в горах. А не стал в вас стрелять потому, что узнал голубя.
– Вот оно как получилось! – удивился Арсений. – Выходит, что птица во второй раз меня спасла…
– Все мне понятно в этой истории, – поделился на прощание Рустам, – и лишь одного не пойму, как Раиса, такая жизнелюбивая, смогла решиться на самоубийство.
– Есть люди, готовые на жертву ради других, – тихо ответил Арсений, – на нравственный подвиг, если хотите. Их не легион, но они всегда были, есть и будут. Раиса к ним, несомненно, принадлежала. Они не требуют ничего за это великодушие взамен, а потому зачастую оказываются беззащитными перед собственной бедой, своими жизнями пишут письма в вечность, торопясь научить тому, каким может и должен быть человек сегодня и в грядущем.
Вернувшись домой, Рустам еще некоторое время задумчиво сидел в углу комнаты, а затем, хотя и не любил работать дома, взял бумагу, ручку и вывел за столом «Письма в вечность. Пролог со странным человеком».
P. S. По-разному сложились судьбы героев этой истории. После публикации рассказа в литературном альманахе, Рустама заметили и предложили в нем работать, о Василие поговаривали, будто бы он эмигрировал, предпочтя чужбину родине, ставшей для него мачехой. Арсений завел другую семью, но, неизменно, в день гибели Раисы, приходит к белым камням со Светозаром, который теперь постоянно живет у него, приносит букет гвоздик, и они долго алеют на них, как огонь, – память о той, что писала письма в вечность, слушала бога, парила во сне и воображении, вернула его к жизни.
Озаренная солнцем
Песню о Дамирет в адыгейских аулах пели еще в пору моего детства. Это была мужская песня о любви, а потому пелась она, как было принято тогда, сдержанно, без заунывности, лишь с одной ноткой, отделявшей голоса и чувства от надрыва.
Слушали ее, затаив дыхание, не только в аулах, но и в окрестных хуторах, где жили в основном русские, украинцы, молдаване и греки, не знавшие адыгейского языка. Вот такой силы влияния на души была эта песня, близкая и понятная своим глубинным и трагическим смыслом многим. Слушали все, слушал и я, и отчего-то, нет, не от нанесенной кем-то обиды иль боли, вдруг сжималось мое детское сердечко, а на глаза наворачивались слезы…
Шли девяностые годы прошлого столетия. Меня, заведующего сельскохозяйственным отделом районной газеты, вызвал к себе главный редактор – Байслан Батчериевич Мугов.
– Человек труда с наших полос ушел, – сказал он, изредка посматривая поверх очков в окно.
– Человек труда! – ностальгически вздохнул я. – Насколько это актуально сегодня, когда экономика страны разваливается на глазах, а в героях ходят политики и поднимающий голову бандитствующий элемент?
– Политики поболтают и уйдут в тень, – прошелся по кабинету он, – а с бандитами разговор в нашей стране всегда был коротким. Всех поставят на место, а человек труда, как был, так и останется на своем.
– ?!
– Восточная мудрость гласит, – назидательно продолжил Мугов, – что умирающего льва даже лань лягает. Они и есть эта лань, вот и горлопанят да бесчинствуют, не ведая того, что государство наше и общество – не умирающий лев, а скорее змея, которая после зимней спячки меняет кожу. Обновится оно и до всех доберется, чтобы раздать по коврижке. Что-что, а убеждать Мугов умел. Сев за руль служебного автомобиля, я выехал по колхозным бригадным станам, чтобы, как и прежде, найти на каком-нибудь из них человека труда, представлявшегося мне нынче реликтом уходящей эпохи. А вокруг в самом разгаре буйствовала красками весна: мелькал за окнами высаженный по над дорогой конский каштан, вырядившийся, словно в подвески, елочками белых цветов, одинокие яблоньки, груши, сливы, алыча, абрикос, проросшие из брошенных кем-то косточек, и тоже в цвету, посадка дубков, чуть поодаль от дороги, сменившая свой унылый осенне-зимний наряд на темно-зеленый лоснящийся покров. Природа, не обращая ни малейшего внимания на кризис, продолжала жить по своим законам, жила и торжествовала.
Через пару километров я свернул с трассы на проселочную дорогу и выехал на высокий холм, у подножия которого и располагался бригадный стан.
Дальше дорога в пору весенних дождей была разбита тяжелыми сельхозмашинами, на легковушке не проехать, а потому, заглушив мотор, я вышел. Яблоневый сад в пылу своего цветения, подобно эдемскому, скрывшему некогда первородный грех, прятал под собой разруху на бригадном стане: покосившиеся, промасленные и прокопченные деревянные мастерские и кузню, обшарпанный турлучный дом механизатора, груды металла, развороченные гусеницами тракторов, площадки перед ними. Сразу же за станом на востоке, с севера на юг тянулся длинный и высокий склон. Местами то гладкий, то испещренный вешними ручейками, с множеством покатостей, тянущихся от вершин к подножью, склон напоминал застывший в своем апогее океанский девятый вал.
– Человек труда, говоришь? – переспросил меня на стане с недоверчивым крестьянским прищуром сухощавый, кареглазый, седой и с курчавой шевелюрой бригадир Юрий Исламович. – Кому же он нужен теперь?
– Кому-кому, редактору моему, – честно и в рифму ответил я.
– Ну раз редактору, – переступил с ноги на ногу он. – Вот Айдамира возьми и пиши о нем.
Айдамира я присмотрел давно. Раньше, как-то приехав сюда, и, впервые увидев его, невольно поймал себя на крамольной для тех времен и почетного хлеборобского дела мысли: «Интересно, что делает в такой грязи и глуши этот белозубый и голубоглазый красавец – блондин с фигурой древнегреческого атлета и волевым рыцарским профилем. Ему бы в кино сниматься. Яркий типаж!»
– Мне бы хотелось посмотреть его в деле, узнать о чем он думает, какие проблемы имеет, – уточнил задачу бригадиру я.
Юрий Исламович кивнул и махнул «атлету»: – Айдамир, цепляй к трактору «немку» и езжай косить «зеленку» для фермы! И корреспондента с собой возьми, статью о тебе написать хочет.
Скошенная и перемолотая трава струилась в прицеп идущего рядом трактора, а в нашей кабине с открытыми окнами туда и сюда гулял ветерок, хладный и разряженный, как перед грозой, напоенный запахами срезанного разнотравья. Впервые вблизи я присмотрелся к Айдамиру, сначала к рукам, так как считал всегда, что они могут сказать о человеке не менее, чем лицо. Как жур нал ист-с ел ьхозник, не раз писавший о руках механизаторов штампом, в разных вариациях смакуя их мозолистость и несмываемую прокопченность, я сильно разочаровался. Руки Айдамира были белы, как и весь он сам. Длинные пальцы с ухоженными ногтями свидетельствовали об утонченности и чувствительности его натуры, а ладони наоборот – широкие, без запастей, как лапы, переходящие в предлокотную кость, говорили о недюжинной и грубой силе. «Такой приложится и мало не покажется!» – подумал я и, ничего не поняв о нем по рукам, стал рассматривать его лицо. Первое, что сразу бросилось в глаза за его внешним спокойствием – это боль, похоже, глубоко и крепко когда-то засевшая в нем.
Мне не раз приходилось наблюдать мужчин с наигранной меланхолией, напускным образом «печального рыцаря», которые они нагоняли на себя, чтобы привлечь внимание прекрасной половины человечества, обычно падкой на это. Тут же была иная печаль, которую нельзя ни наиграть, ни напустить. В боли на его лице, да и за ней, виделось нечто глубоко выстраданное, раненная когда-то нагая душа.
В полдень с бригадного стана привезли обед и мы поели с Айдамиром под одинокой и ширококронной грушей-дичкой, а потом, так как трактора, приезжавшие с ферм за «зеленкой», задерживались, он прилег, надвинул на глаза козырек бейсболки и задремал.
Айдамир был молчуном, каких поискать, но уже вызвал мой интерес, а потому в надежде разговорить его после обеда, я тоже прикорнул сидя, прислонившись спиной к дичке. Но недолгим был наш сон. Там, в низине, на телеге, груженной сеном, подгоняя лошадей, затянул песню возница: В нашем ауле играют свадьбы, Всласть веселится народ, Только вот жизнь развела наши судьбы, Солнце мое Дамирет.
Айдамир проснулся, резко поднялся и стал слушать поющего, а тот уже тянул припев: Даже если будет глубокая ночь, И на небе звезды не единой, Я прийду к тебе, моя Дамирет, Я прийду, щемящей тоскою гонимый.
Айдамир побледнел, сильно изменился в лице и, сорвав с дички несколько листочков, смял их нервно в ладони, а потом быстро повернулся, прошел к трактору и завел его, тот затарахтел, заглушая песню возницы. Все остальное время Айдамир работал и молчал, молчал и работал, и вершил дело с нестовостью человека, который без остатка погрузился в него и забылся. Я же, поняв, что он имеет не какое-нибудь, а самое прямое отношение к песне о Дамирет, не стал докучать его своими вопросами, а по-прежнему наблюдал за ним с интересом, ожидая развязки.
Далеко за полдень он закончил работу и мы вернулись в бригаду, но развязка не наступала. Я находился в двусмысленном положении – очерк о человеке труда срывался, задавать вопросы об обыденном, будничном Айдамиру после того как он изменился в лице, услышав песню о Дамирет, и по-прежнему находился в состоянии близком, как виделось мне, к нервному срыву, представлялось неприличным. С другой стороны – я потерял день и не подготовил в газету ни одной строчки, чему мой главный редактор, лишенный всякого рода сентиментальностей, вряд ли был бы рад. Айдамиру же все это было нипочем. Помыв в ручейке, пересекавшем стан, лицо и руки, он ушел на склонившееся к горизонту солнце и вскоре скрылся в его слепящих лучах.
Подготовив с Юрием Исламовичем корреспонденцию о весенних заботах бригады, – это было хоть что-то в газету, чем совсем ничего, я тоже покинул стан и через несколько минут притормозил у кафешки на трассе, чтобы попить чаю. На террасе ее, у столика, что в самом углу, увидел Айдамира. Он был один, на столе перед ним стояли уже початая бутылка водки и граненный стакан. Айдамир виновато кивнул, пригласил меня, и, когда я подсел, указав на бутылку, спросил:
– Будешь?
– За рулем!
Затем он налил полный стакан горькой, залпом выпил ее и закурил.
Прошло немного времени и я первым нарушил нависшую за столом некомфортную тишину.
– Не знаю, кем иль чем вы больны, – указал я на стакан. – Но это не лучшее лекарство от какого-либо недуга.
– Ты это о чем? – вздрогнул он, словно пойманный на сокровенном, личном, и стушевался.
– Я о песне возницы.
Он на время ушел в себя, а потом тихо признался:
– Это не возницы песня, а моя. Двадцать лет назад я излил в ней свою тоску, так уж было ее невмоготу носить в себе.
После этих слов он снова смолк и, бросив напряженный взгляд в призрачную даль, словно хотел отыскать в ней когда-то безвозвратно потерянное и, не найдя, вернулся к столу.
– Терял ли ты когда-нибудь любимого человека, падал ли от этого в бездну отчаяния? – с лихорадочным блеском в глазах обратился он ко мне. – Оставался ли так одинок после того падения, будто бы оказался в каменном мешке с мрачными сводами. Пережил ли нечто сродни ввергающему в ужас светопредставлению, когда от тебя уходит целый мир любимого человека и забирает с собой много твоего, так много, что выхолащивает из существа все способности чувствовать да и сам смысл твоего дальнейшего бытия.
Я пожал плечами, немного удивленный эмоциональностью и красноречием человека, которого еще не так давно посчитал за молчуна, и ответил:
– Наверно, не всем дано в жизни испытать такое потрясение.
– И упаси тебя Аллах от этой данности, – опустил голову он, а когда поднял ее, глаза уже светились теплыми огоньками.
– Дамирет была лучезарным человечком, – начал он, – и необыкновенной душевной доброты. Бывало в детстве мы идем со школы на нашу улицу в групке сверстников и сверстниц, а где-то рядом птенец из гнезда выпал, пищит напуганно, а мать мечется и тревожно верещит. Из нас никому до этого нет дела, заняты своими проказами, и не слышим их, а она обязательно услышит, найдет его, пристыдит всех, и глядишь, через минуту – другую с нашей помощью птенец уже в гнезде, утихомирились и он, и мать. А бывало в иной раз обидят кого-нибудь в классе, а она всегда тут как тут, подсядет к нему, погладит по руке, найдет нужные слова, успокоит, а потом не злобно, не пронзительно, а с грустной укоризной посмотрит на обидчика, и того так проберет, что отобьет всякую охоту впредь кого-то обижать. Вот такой чуткой и участливой была Дамирет с самого детства. И никто не удивился, когда она, всегда скорая на помощь и добрые дела, продолжила после восьмилетки учебу в медицинском училище. А я с детства был влюблен в музыку. Как-то в возрасте лет восьми я пришел на аульскую свадьбу и хатияко – распорядитель танцев, непревзойденный в этом в округе Хаджумар, после благих пожеланий новобрачным, вскинув вверх горделиво свое древко с нанизанными на нити орешками, обратился к слепому от рождения гармонисту: «Так раскрой же меха гармони, Нальби, что врата в твою душу, проведи нас по заповедным уголкам ее, где поселились любовь и красота, открой настежь особые закрома ее, полные несметных богатств, и щедро одари ими нас! Так играй же, играй, Нальби, и дай нам насладиться жизнью, как не наслаждался доселе никто!
Каждое слово велиречивого Хаджумара отчеканилось в моей памяти, а когда слепой, как сама любовь, поводырь заиграл и увлек зрячих в свой волшебный мир гармонии звуков, я всем существом устремился вслед за ним…
Конечно же, я бывал на свадьбах в детстве и раньше, но теперь был более готов для восприятия этого художественного действа и в первый раз в мое сердце прокралась мечта походить в будущем на Хаджумара и Нальби и увлекать, и радовать людей прекрасным.
К семнадцати годам я уже сносно играл на гармони. Нальби стал моим учителем, какого было поискать, и щедро делился секретами своего мастерства, а я был прилежным учеником.
«Сначала заразись мелодией сам, поймай кураж в игре, и только потом смело выходи к людям, – как-то наставлял меня он. – И твердо знай одно, что, даже самый невзыскательный к музыке слушатель, увлечется только искренностью и живостью твоей игры. Играй, Айдамир, всегда, будто бы в последний раз, играй, как Тату».
– И кто же этот Тату? – спросил я.
– Он был моим учителем и играл на гармони, как бог, спустившийся с Эльбруса, – благоговейно, словно обычный зрячий, опустил веки Нальби. – И эта игра ему спасла жизнь…
Перед тем как что-то рассказать, Нальби имел привычку перебирать бусинки на четках, словно старался нащупать так и припомнить каждую деталь той или иной истории и связать их в единую цепь.
– Это произошло в одном из фашистских концлагерей во Франции, из которого Тату сбегал дважды, – начал свой рассказ он. – Его ловили, возвращали обратно, травили в назидании другим узникам перед ними собаками и снова бросали в барак. Но и это было не самым страшным в лагере. Страшней была выбраковка непригодных более к работам узников, после которой их неминуемо ждала смерть. Проводил ее самолично комендант лагеря майор Альфред Вайсман, редкий на изощрения даже по фашистским меркам садист и изувер. В тот день, как он делал это один раз в месяц, офицер с ничего не говорящим лицом – маской пошел перед строем с двумя автоматчиками, ткнул рукоятью плети в лицо очередного доходяги, потом второго, третьего, четвертого… и Тату. Солдаты оттащили их от остальных, кого отправили на работы.
– Я есть благородный чолофек, – перевел перед отбракованными словами Вайсмана его переводчик. – И до фашей казнь готоф исполнить последнее желание каждого.
Потом эти слова были переведены на английский, французский и итальянский языки…
Последним и естественным желанием каждого изможденного голодом и тяжелыми работами узника всегда было досыто наесться. Вайсман хорошо знал об этом, как впрочем и о том, что для людей, находящихся в таком состоянии, переедание – это яд, обрекающих их на мучительную гибель. Изверг отдавал приказ, чтобы перед строем начинали разбрасывать пищу, а сам, поудобней рассевшись в кресле, любил с садистским наслаждением смотреть, как узники набрасываются на первые куски хлеба, готовые перегрызть друг другу горло, жадно отъедаются, и, корчась от болей, падают на землю и погибают в судорогах и конвульсиях. Выдержавших пытку отъеданием Вайсман отправлял на расстрел, а умерших сжигали в крематории.
В тот день Вайсман снова прошелся перед узниками и первым ткнул плетью в грудь Тату.
– Я, герр майор, хотел бы перед смертью наиграться на гармошке, – попросил он.
– Русский гармощка? – удивленно уставился в Тату офицер.
– Да, да! – пошевелил пальцами он, словно пробежался ими по клавишам.
Комендант еще некоторое время выпученными глазами смотрел на узника, считая его последнее желание уж очень, очень странным, а потом что-то приказал одному из солдат, тот ушел и через несколько минут вернулся с гармонью – двухрядкой, вероятно, изъятой у кого-то из военнопленных.
«И я заиграл, – вспоминал Тату, – и была моя игра трогательным прощанием с жизнью, в которой лились слезы убивающейся по мне матери, скорбные и тяжелые вздохи отца, шелест листвы каждого деревца, шевеление каждой травинки в моей родной стороне и многое другое из того, что было бесконечно дорого сердцу моему, и я с болью отрывал от него. Потом случилось непредвиденное, кто-то из русских узников воспрянул неистребимым духом, снял с головы полосатую шапчонку, бросил на землю и крикнул: «Эх, братцы, помирать, так хоть с музыкой!» – и пустился в безудержный пляс. Его примеру последовали и все остальные – русские, украинцы, поляки, французы и итальянцы…
И был то танец внезапно обретенной ими внутренней свободы, танец торжества жизни над смертью, а моя гармонь уже не плакала, а смеялась над врагом.
– Прекратит! Прекратит! – взбешено метался между нами переводчик, но его никто не слушал в своем последнем упоении танцем, и лишь две автоматные очереди, пущенные солдатами над головами узников, смогли поставить их в строй. «Спасибо, братец, за гармонь – родину, будто бы перед смертью дома побывал! – перевел слабое дыхание рядом со мной узник, который первым бросился в пляс. – Спасибо, что сберег он позорной участи предстать перед господом сдохшей от обжорства скотиной».
Разъяренный Вайсман отдал приказ всех расстрелять, а меня закрыть в карцере, чтобы я играл, пока не умру. И я играл, и играл, и моя музыка, словно молитва, наверное, дошла до Аллаха…
– Об обстоятельства же моего спасения, – вспоминал Тату, – впоследствии в одном из отрядов французского сопротивления, в который я бежал из лагеря вместе с ним, рассказал мне переводчик Вайсмана – Холтоф Розен, оказавшийся на поверку немецким антифашистом. А поведал он вот что: «В тот день, когда Вайсман приказал закрыть тебя в карцере, в лагерь с инспекционной проверкой из главной канцелярии приехал один из ее высокопоставленных чиновников Герхард Вайсман, приходившийся коменданту дядей. Услышав твою игру на гармони, он и спросил племянника:
– Кто же это, Альфред, так самозабвенно у тебя играет?
Тогда Вайсман и рассказал ему о происшедшем накануне, а Герхард, который уж точно был глубокоинтеллигентным человеком и не разделял садистских наклонностей племянника, недовольно поморщившись, приказал ему:
– Немедленно освободить, откормить и вылечить!
– Но, дядя, – не согласился комендант. – У этого заключенного два побега.
– Нельзя убивать человека, – настоял Вайсман – старший, – так волнующего душу своей великолепной игрой. Нельзя идти против бога, который наделил его этим талантом. Он должен жить!
В придорожном кафе было не очень много народу, а потому после рассказа Айдамира в нем на некоторое время установилась тишина, которую он же и нарушил.
– Я не случайно отвлекся от темы нашего разговора, – продолжил он, – и рассказал тебе о Нальби и Тату с тем, чтобы ты понял, насколько были ярки личности, с которых я брал пример и чьим преемником хотел стать, насколько была высока планка, которую хотел преодолеть в пылу юношеского максимализма, и, наконец, насколько был потрясен и разбит, когда жизнь сказала мне «Нет!» и я претерпел крах своей мечты.
– В общем, в месяца три до своего восемнадцатилетия, помогая отцу в подготовке его трактора к весенним полевым работам, я раздробил себе правую кисть, – мрачнея и мрачнея стал углубляться в свою трагедию Айдамир. – После лечения ее в больнице, я взял гармонь, растянул меха и пришел в дикий ужас, когда, как говорят музыканты, «рука не пошла». Тяжелое это было чувство, душа-то еще поет, а вот рука не слушается. Я был птицей, чей взор мечтательно устремлялся в небо, в свободный полет, а крыло-то, крыло сломано…
Потом он чуть вытянул над столом свою правую руку и продолжил:
– Сегодня, когда там, в поле, ты внимательно рассматривал мои руки, мне многого стоило управляться ею, чтобы ты не понял, что я калека.
– Ну уж-таки и калека! – не согласился я. – В жизни всегда есть дело, которому можно посвятить себя. Не сложилось с этим, пойдет в другом.
– Так с высоты своего возраста и я сейчас думаю, – согласился он, – а тогда, в 18 лет, когда захлопнулась дверь в уже обозримую мной перспективу, я впал в такое отчаяние, от которого не раз перехватывало дыхание. И еще Дамирет, было о чем, потерянном мной и связывавшем с ней, сожалеть, – я играл, и как мы пели с Дамирет… Пели о любви счастливой иль несчастной, отчего у слушателей озноб по коже шел и лились слезы радости иль горести. И каждый в наших песнях видел себя, находил что-то свое, пережитое.
«Должно быть вы любите друг друга, – задумчиво сказал мне как-то Нальби. – Я не вижу вас, но знаю, что без взаимного чувства так не сыграть и не спеть». Я был в большом смятении духа от не покидающего меня и засевшего в мозгу, как заноза, вопроса – почему, почему мир человеческих иллюзий так хрупок, что рок просто и легко, в один миг может разбить его вдребезги? И Дамирет, и Нальби искренне сопереживали мне, но это был тот случай, когда бремя беды не делилось на двоих или троих. Это была моя беда, загонявшая меня, словно палками, все дальше и дальше в самого себя. Я замыкался и только строгое слово отца, почувствовавшего родительским сердцем то неладное, что творилось со мной, приостановило эту внутреннюю эмиграцию.
– Что же ты раскис, как девица! – сказал он, – Эка невидаль, на гармони он уже не может играть! Есть дела и поважней, пахота в колхозе началась, в сменщики мои пойдешь.
Работать в поле мне было не в новинку. Перед этим я не раз помогал отцу. Особенно нравилось пахать ночью, ощущая твердую и лязгающую поступь своего «стального коня», и изредко, оглядываясь сквозь подсветку назад, на плуг, любоваться, как ровно, и, поблескивая, укладываются в полумраке развалы чернозема.
Я уверен, что в каждом из нас в разной степени глубоко, на подсознательном, а может быть даже глубже, на генетическом уровне сидит страх перед голодом, величайший инстинкт самосохранения человечества, подталкивающий и сподвигающий его на созидательную работу. Так вот, в пору своей юности я впервые почувствовал его, а потому не было выше удовольствия, чем осознание своей сопричастности к добыванию благ, к делу, которое мало-помалу, под стук ликующего сердца, загоняет этот поднявшийся и охвативший страх обратно внутрь, до следующей весны.
В общем, я вновь стал чувствовать интерес к жизни, в которой светлым маячком для меня была Дамирет. На первую зарплату я купил ей в сельмаге белый шарфик с золотыми бисеринками и она несказанно обрадовалась не только подарку, но и тому, что, вручая его, улыбнулся перед ней в первый раз за эти месяцы.
Мы присели на лавочке под густой и рослой голубой елью, которую посадил ее дед.
– У тебя даже походка изменилась, – сказала она. – Более приземленной стала, что ли.
– Подрезала жизнь птичке крылья, – грустно и в полушутку ответил я.
Она поняла меня и призналась:
– Не скрою, что и я скучаю по сцене, твоей гармони и нашим песням, хотя они и не главное в моей жизни. Ты для меня главное. И никогда не смей думать, что я осталась там, в том мире. Я была и остаюсь с тобой.
Дамирет читала мои мысли и сглаживала переживания и все у нас было хорошо, пока не появился он. А он – это Инвер, сын высокопоставленного партийца, порочивший поведением отца, и которого тот, чтобы пробираться по карьерной лестнице дальше, вверх, вынужден был сбросить с глаз общества долой своей престарелой матери Фатимет, как сбрасывают баласт из корзины воздушного шара. В ауле поговаривали, что раньше Инвер был наркоманом, а теперь часто и долго болел. И во время обострения болезни Фатимет нередко просила Дамирет, уже несколько месяцев работавшую в местном фельдшерском пункте, чтобы она сделала внуку уколы или поставила капельницу. Всякое стали болтать об этом злые языки. На каждый роток ведь не накинешь платок, когда девушка, хоть и фельдшер, но так часто ходит к одинокому и больному парню. Я не слушал их, потому что верил Дамирет. Но однажды и меня допекли. Как-то я зашел в сельмаг за сигаретами, а продавщица его Анна Степановна, дождавшись, пока все посетители разойдутся, наклонившись, заговорщически прошептала мне:
– Ты бы присмотрел, Айдамир, за своей Дамирет. Не ровен час уведут твою невесту.
– Кто уведет-то, теть Ань? – не понял я.
– А Инвер, внук Фатимет, хотя бы.
– Так это же ее пациент, больной?
– Больной, пациент, – усмехнулась она. – Ты-то хоть видел его.
– Нет.
Она склонилась еще ниже, сомкнула большие и указательные пальцы в круги и воскликнула:
– Глазища во, в пол-лица! А зелены-то, как зелены, словно два омута, затянутые тиной. В таких утонуть посчитала бы за счастье любая девушка. Я-то вон старуха, а засмотрелась в них, аж дар речи потеряла.
– Глупости все это, теть Ань, – собрался уходить я.
– Глупости, говоришь, – попридержала меня она. – Видела я эти глупости, когда сегодня мимо дома Фатимет на работу с обеда шла.
– Ну, и что вы видели?
– На лавочке у дома они вместе сидели и ворковали, словно голубки, глаз друг от друга оторвать не могли…
– Мне бы забыть все, что она сказала и продолжить верить Дамирет, – сожалея, отвлекся от повествуемого Айдамир, – но я задумался: «А что, он – больной, а она такая добрая и участливая, могла пожалеть, а от жалости, как и от ненависти, до любви один шаг.
Весь день я провел в этой опаске, а на следующее утро сошел к реке и опустился на валун у берега, излюбленное место наших с Дамирет посиделок. Летний день распалялся, как набирающий силу огонь, разгоняя не только прохладу, установившуюся ночью, но и ту, что шла от реки. Что-то хрустнуло сзади. Я оглянулся. То спускалась к реке Дамирет, озаренная солнцем, легкая, как воздух, грациозная, как лань.
– Никак от счастья светишься, Дамирет? – тихо поддел ее я, когда она присела рядом.
– А мне для него много не надо, – простодушно и искренне ответила она. – Проснулась утром – счастлива, тебя увидела – счастлива.
– И когда с этим, с Инвером воркуешь, тоже? – как-то невпопад проронил я.
Она бросила свой мечтательный взор за реку и ответила:
– Он славный.
Это разозлило меня и я грубо огрызнулся:
– Славные парни у нас на доске почета у колхозной конторы висят!