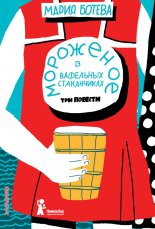Дни. Россия в революции 1917. С предисловием Николая Старикова Шульгин Василий

– …И, помолясь богу… – говорил Гучков… При этих словах по лицу Государя впервые пробежало что-то… Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал: «Этого можно было бы и не говорить…»
Гучков окончил. Государь ответил. После взволнованных слов А.И. голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой – гвардейский:
– Я принял решение отречься от престола… До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея…
Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила… Надеюсь, вы поймете чувства отца…
Последнюю фразу он сказал тише…
К этому мы не были готовы.
Кажется, А.И. пробовал представить некоторые возражения…
Кажется, я просил четверть часа – посоветоваться с Гучковым…
Но это почему-то не вышло…
И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же…
Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую… Во-первых, как мы могли «не согласиться»?. Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной Думы…
Это мнение совпало с решением его собственным… а если бы не совпало? Что мы могли бы сделать?
Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили… Ибо мы …. –ведь не вступили на путь «тайного насилия», которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX…
Решение царя совпало в главном…
Но разошлось в частностях…
Алексей или Михаил перед основным фактом – отречением – все же была частность… Допустим, на эту частность мы бы «не согласились»… каков результат?
Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал престол «вопреки желанию Государственной Думы». И положение нового государя было бы подорвано.
Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становится наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии. Если придется отрекаться и следующему, – то ведь Михаил может отречься от престола… Но малолетний наследник не может отречься – его отречение недействительно. И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам? Наверное, и в Царское Село летят – проклятые… И сделались у меня: «Мальчики кровавые в глазах»…
А кроме того…
Если что может еще утишить волны, – это если новый Государь воцарится, присягнув конституции…. Михаил может присягнуть. Малолетний Алексей – нет… –
А кроме того…
Если здесь есть юридическая неправильность… Если Государь не может отрекаться в пользу брата… Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время…
Некоторое время будет править Михаил, а по– –519 –том, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу…
Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты… как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий…
И мы «согласились»…
Государь встал… Все поднялись… Гучков передал Государю «набросок». Государь взял его и вышел.
Когда Государь вышел, генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.
– Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений, в виду того что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?
Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мною, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.
–Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос: останутся ли родители при нем или им придется разлучиться.
В первом случае, т.е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным… В особенности это касается императрицы… Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже…
При том отношении, –какое сейчас к ней, – это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать… При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро…
Барон Фредерикс был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности…
Через некоторое время Государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:
– Вот текст…
Это были две или три четвертушки – такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке. Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать…
Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают…
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, Мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами Государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены.
Во имя горячо любимой Родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь ему, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.
Да поможет Господь Бог России.
Николай».
Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес и его и положил на стол.
К тексту отречения нечего было прибавить… Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч… Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь Государя в безопасности… Половина шипов, вонзившихся в сердце его подданных, вырывались этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова… И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше, любит Россию…
Почувствовал ли Государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее…
Но надо было делать дело до конца… Был один пункт, который меня тревожил… Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца объявит «конституционный образ правления», ему легче будет удержаться на троне… Я сказал это Государю… И просил его в том месте, где сказано: «…с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены…», приписать: «принеся в том всенародную присягу».
Государь сейчас же согласился.
– Вы думаете, это нужно? И, присев к столу, приписал карандашом: «принеся в том ненарушимую присягу». Он написал не «всенародную», а «ненарушимую», что, конечно, было стилистически гораздо правильнее. Это единственное изменение, которое было внесено…
–Затем я просил Государя:
– Ваше величество… Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение… Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог сказать, что манифест «вырван»… Я видел, что Государь меня понял, и, по-видимому, это совершенно совпало с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал: «2 марта, 15 часов», то есть 3 часа дня… Часы показывали в это время начало двенадцатого ночи…
Потом мы, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе Совета министров. Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас или же нам было сказано, что это уже сделано… Но я ясно помню, как Государь написал при нас указ Правительствующему Сенату о назначении председателя Совета министров…
Это Государь писал у другого столика и спросил:
– Кого вы думаете?. Мы сказали: – Князя Львова… Государь сказал как-то особой интонацией, – я не могу этого передать:
– Ах, Львов? Хорошо – Львова… Он написал и подписал… Время по моей же просьбе было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т .е. 13 часов.
Когда Государь так легко согласился на назначение Львова, – я думал: «господи, господи, ну не все ли равно, – вот теперь пришлось это сделать – назначить этого человека «общественного доверия», когда все пропало… Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше… Может быть, этого тогда бы и не было»…
Государь встал… Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там – ближе к выходу… Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать…
И у меня вырвалось:
– Ах, ваше величество… Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого… Я недоговорил…
Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:
– Вы думаете – обошлось бы?
Обошлось бы? Теперь я этого не думаю… Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то есть после нашего великого отступления, может быть, и обошлось бы…
Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил:
– Разрешите узнать, Ваше Величество, ваши личные планы? Ваше Величество, поедете в Царское?
Государь ответил:
– Нет… Я хочу сначала проехать в Ставку… проститься… А потом я хотел бы повидать матушку… Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне… А потом – в Царское…
Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас. Он подал нам руку с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил…
Мы вышли из вагона. На путях, освещенных голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали… Когда мы вышли, нас окружили, и эти люди наперебой старались пробиться к нам и спрашивали: «что? как?» Меня поразило то, что они были такие тихие, шепчущие… Они говорили, как будто в комнате тяжелобольного, умирающего… Им надо было дать ответ. Ответ дал Гучков. Очень волнуясь, он сказал: –
Русские люди… Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь богу… Государь император ради спасения России снял с себя… свое царское служение… Царь подписал отречение от престола. Россия вступает на новый путь… Будем просить бога, чтобы он был милостив к нам… Толпа снимала шапки и крестилась… И было страшно тихо…
Мы пошли в вагон генерала Рузского, по путям – сквозь эту расступавшуюся толпу. Когда мы пришли к генералу Рузскому, через Некоторое время, кажется, был подан ужин. Но с этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились И сделалась такая жестокая мигрень, что все было как в тумане.
Я не помню поэтому, что происходило за этим ужином, но, очевидно, генерал Рузский рассказывал, как произошли события. Вот вкратце что произошло до нашего приезда. 28 февраля был отдан приказ двум бригадам, одной, снятой с Северного фронта, другой – с Западного, двинуться на усмирение Петрограда. генерал-адъютанту Иванову было приказано принять командование над этими частями. Он должен был оставаться в окрестностях Петрограда, но не предпринимать решительных действий до особого распоряжения. Для непосредственного окружения ему были даны два батальона георгиевских кавалеров, составлявших личную охрану Государя в Ставке. С Северного фронта двинулись два полка 38-й пехотной дивизии, которые считались лучшими на фронте. Но где-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались идти на Петроград. Бригада, взятая с Западного фронта, тоже не дошла. Наконец, и два батальона георгиевцев тоже вышли из повиновения.
Первого марта генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали у главнокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя императора от престола в пользу сына. К часу дня второго марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Рузского. Ответы эти были:
1) От великого князя Николая Николаевича – главнокомандующего Кавказским фронтом.
2) От генерала Сахарова – фактического главнокомандующего Румынским фронтом (собственно главнокомандующим был король Румынии, а Сахаров был его начальником штаба).
3) От генерала Брусилова – главнокомандующего Юго-Западным фронтом.
4) От генерала Эверта – главнокомандующего Западным фронтом.
5) От самого Рузского – главнокомандующего Северным фронтом. Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев (ген. Алексеев был начальником штаба при Государе) высказались за отречение Государя императора от престола.
В час дня второго марта генерал Рузский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Даниловым и Савичем – генерал-квартирмейстером, был принят Государем. Государь принял их в том же самом вагоне, в котором через несколько часов было отречение. Генерал Рузский доложил Государю мнение генерала Алексеева и главнокомандующих фронтами, в том числе свое собственное. Кроме того, генерал Рузский просил еще выслушать генералов Данилова и Савича. Государь приказал Данилову говорить.
Генерал Данилов сказал приблизительно следующее:
– Положение очень трудное… Думаю, что главнокомандующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что, если благоугодно будет разделить наше мнение, ваше величество принесете и эту жертву родине…
Савич кратко сказал, что он присоединяется к мнению генерала Данилова. На это Государь ответил очень взволнованно и очень прочувственно, в том смысле, что нет такой жертвы, ко торой он не принес бы для России.
После этого была составлена краткая телеграмма, извещавшая генерала Алексеева о том, что Государь принял решение отречься от престола. генерал Рузский взял телеграмму и удалился, но несколько медлил с отправкой ее, так как он знал, что Гучков и Шульгин утром выехали из Петрограда: он хотел посоветоваться с ними особенно по вопросу о том, кто станет во главе правительства. Генерал Рузский не доверял Львову и предпочитал Родзянко. Гучкова и Шульгина ожидали с часу на час. Но уже в три часа дня от Государя пришел кто-то с приказанием вернуть телеграмму. Тогда же генерал Рузский узнал, что Государь передумал в том смысле, что отречение должно быть не в пользу Алексея Николаевича, а в пользу Михаила Александровича. После повторного приказания вернуть телеграмму, телеграмма была возвращена и, таким образом, послана не была. День прошел в ожидании Гучкова и Шульгина.
Все это, должно быть, тогда же рассказал нам генерал Рузский. Во всяком случае, события этого дня можно считать точно установленными в таком виде, как я их изложил. Позднее это подтвердил мне генерал Данилов, который лично был свидетелем вышеизложенного.
Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны Государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе Временного правительства князю Львову. Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же…
Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде…
Последние дни «конституции»
Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и Куда-то нас тащили… И из этой кутерьмы вышло такое решение, что Гучкова Куда-то потянули, я уже хорошенько не знаю – куда. А мне выпало на долю объявить о происшедшем «войскам и народу». какие-то люди суетились вокруг меня, торопили и говорили, что войска уже ждут – выстроены в вестибюле вокзала. Сопровождаемый этой волнующейся группой, я пошел с ними. Они привели меня в то помещение, где продаются билеты, – словом, во входной зал. Здесь действительно стоял полк, или большой батальон, выстроившись на три стороны – «покоем». Четвертую сторону составляла толпа.
Я вошел в это каре, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо…
Стало так тихо, как, кажется, никогда еще… У меня очень слабый голос… Но я чувствовал, что каждое слово летит над строем и дальше в толпу, и слышно им было все ясно. Я читал им «отречение»…
Слова падали… И сами по себе они были – как это сказать? – вековым волнением волнующие… А тут – в этой обстановке… Перед строем, замершим в торжественном жесте, перед этой толпой, испуганной, благоговейно затихшей, они звучали неповторяемо…
И я чувствовал, что слова падают во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем…
…Да поможет господь бог России.
Я поднял глаза от бумаги. И увидел, как дрогнули штыки, как будто ветер дохнул по колосьям… Прямо против меня молодой солдат плакал. Слезы двумя струйками бежали по румяным щекам…
Тогда я стал говорить… Хорошо ли, плохо, – не знаю… Это кто-то другой говорил – кто больше, сильней, горячее меня…
– Вы слышали слова Государя?. Последние слова… императора Николая II? Он подал нам всем пример… нам всем – русским… как нужно… уметь забывать… себя для России. Сумеем ли мы так поступить? Мы… люди разные… разных званий, состояний… занятий… офицеры и солдаты… дворяне и крестьяне… Инженеры и рабочие… Богатые и бедные… Сумеем ли мы все забыть для того, что у нас у всех есть единое… общее?.. А что у нас – общее? Вы все это знаете… это общее – родина… Россия… Ее надо спасать… О ней думать… Идет война… Враг стоит на фронте… Враг неумолимый, который раздавит нас… раздавит, если не будем все вместе… Если не будем едины… как быть едиными?. Только один путь… Всем собраться вокруг… нового царя… Всем оказать ему повиновение… Он поведет нас… Государю императору… Михаилу… Второму… провозглашаю – «ура!»
И оно взмыло – горячее, искреннее, растроганное… И под эти крики я пошел прямо перед собой, прошел через строй, который распался, и через толпу, которая расступилась, пошел, не зная куда…
И показалось мне на одно короткое мгновение, что монархия спасена…
Я очнулся в каком-то коридоре вокзала…кто-то из железнодорожных служащих твердил мне что-то, и наконец я понял, что Милюков уже много раз добивается меня по телефону…
Я услышал голос, который я с трудом узнал, до такой степени он был хриплый и надорванный…
– Да, это я, Милюков… Не объявляйте манифеста… Произошли серьезные изменения…
– Но как же?. Я уже объявил…
– Кому?
– Да всем, кто здесь есть… какому-то полку, народу… Я провозгласил императором Михаила…
– Этого не надо было делать… Настроение сильно ухудшилось с того времени, как вы уехали… Нам передали текст… этот текст совершенно не удовлетворяет… совершенно… необходимо упоминание об Учредительном Собрании… Не делайте никаких дальнейших шагов, могут быть большие несчастия. .. – Единственное, что я могу сделать, – это отыскать Гучкова и предупредить его… Он тоже где-то, очевидно, объявляет.. .
– Да, да… Найдите его и немедленно приезжайте оба на Миллионную, 12. В квартиру князя Путятина…
– Зачем?
– Там великий князь Михаил Александрович… и все мы едем туда… пожалуйста, поспешите…
Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружил:
– Где Гучков?
– Александр Иваныч в железнодорожных мастерских на митинге рабочих, – ответили голоса.
На митинге рабочих… Значит, мне надо сейчас пробраться туда к нему и вытащить его оттуда… Но как же быть с текстом отречения?. Вот я его чувствую под рукой в боковом кармане… И с таким документом на митинг к рабочим?. Войти-то войдешь, – но выйдешь ли?. Могут отнять, уничтожить… И бог его знает, что еще может быть… как быть? вокруг меня, ни на секунду не оставляя, была толпа людей, следившая за каждым моим движением… Но ни одного – не то что верного, но просто знакомого лица… Кому передать документ?
В это время меня опять позвали к телефону.
– Это я, Бубликов… Я, знаете, на всякий случай послал человека вам… один инженер… совершенно верный… он найдет вас на вокзале… скажет, что от меня… Можете ему все доверить… Понимаете?
– Понимаю.
Через несколько минут из толпы, меня окружавшей, какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова… я сказал ему:
– Вас никто не знает… За вами не будут следить… Идите пешком совершенно спокойно… и донесите… Понимаете?
– Понимаю.
Я незаметно передал ему конверт. Он исчез…
Теперь я мог идти на митинг…
Я насилу втиснулся… Это была огромная мастерская с железно-стеклянным потолком. густая толпа рабочих стояла стеной, а там вдали, в глубине, был высокий эшафот, то есть не эшафот, а помост, на котором стоял Гучков и еще какие-то люди…
Я стал пробиваться сквозь толпу, заявляя, что у меня «срочное поручение». С трудом я пробился к подножию «эшафота». На помост вела приставная лестница… Я вскарабкался по этой лестнице после целого ряда ссор и объяснений, что у меня «срочное поручение». Когда я вскарабкался, председатель этого собрания, рабочий, который стоял рядом с Гучковым, говорил речь такого со держания:
– Вот, к примеру, они образовали правительство… кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь?. Так сказать, от того народа, кто свободу себе добывал? как бы не так… Вот читайте… князь Львов… Князь… По толпе пошел рокот… Председатель продолжал: – Ну, да, князь Львов… Князь… Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали… От этих самых князей и графов все и терпели… Вот освободились – и на тебе… Князь Львов…
Толпа забурлила…
Он продолжал: – Дальше… Например, товарищи, кто у нас будет министром финансов?. как бы вы думали? Может быть, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал… как бедному народу живется… и что такое есть финансы… так вот, что я вам скажу… Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко… Кто такой господин Терещенко? Я вам скажу, товарищи… Сахарных заводов штук десять… Земли – десятин тысяч сто… Да деньжонками – миллионов тридцать наберется…
Толпа заволновалась…
Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передал ему свой разговор с Милюковым.
– Нам надо уходить отсюда…
– Да, но это не так просто… Они меня пригласили, – я должен им сказать…
– Я попробую добиться от этого председателя, чтобы он дал мне слово вне очереди и заявлю, что у нас очень срочное дело…
В это время председатель уже окончил свою речь под оглушительные рукоплескания… И передал слово кому-то другому, такому же, как и он…
Я пристал к нему, объясняя, что мне надо. Он нетерпеливо от меня отбояривался и твердил: «Подождите».
В это время другой оратор распространялся:
– Я тоже скажу, товарищи!.. Вот они поехали… Привезли… Кто их знает, что они привезли… Может быть, такое, что совсем для революционной демократии.
– Не подходящее… Кто их просил?. От кого поехали? От Народа?. От Совета Солдатских и Рабочих Депутатов? Нет… От Государственной Думы… А кто такие – Государственная Дума? Помещики… Я бы так советовал, товарищи, что и не следовало бы, может быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпустить… Вот бы вы там, товарищи, двери и поприкрыли бы…
Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать:
– Закрыть двери…
Двери закрылись… Это становилось совсем неприятным. В это время председатель сказал тихонько Гучкову, стоявшему с ним рядом:
– Александр Иванович… А вы очень оскорбитесь… если мы документик то у вас – того… Гучков ответил:
– Очень оскорблюсь и этого не позволю… А вы вот дайте мне слово.
А я подумал: «Опоздали, голубчики… Документик -то – «того», отослан, куда надо…»
В это время неожиданно нам протянули руку помощи какой-то человек, по виду рабочий, но с интеллигентным лицом, должно быть, инженер, стал говорить:
– Вот вы кричите: «Закрыть двери!», товарищи… А я вам скажу – неправильно вы поступаете… потому что вот смотрите, как с ними – вот с Александром Ивановичем старый режим поступил… Они как к нему поехали? С оружием? Со штыками? Нет… Вот как стоят теперь перед вами, – так и поехали – в пиджачках-с… И старый режим их уважил… что с ними мог сделать старый режим? Арестовать. Расстрелять… Вот – они приехали. В самую пасть. Но старый режим. обращая внимание… как приехали, ничего им не сделал – отпустил… И вот они – здесь… Мы же сами их пригласили… Они доверились – и пришли к нам… А за это, за то, что они нам поверили… и пришли так, как к старому режиму вчера езди– ли, за это – вы – что?. «Двери на запор»? Угрожаете?. Так я вам скажу, товарищи, что вы хуже старого режима…
Ах – толпа… В особенности – русская толпа… Подлые и благородные поры вы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену…
Слова инженера родили обратную волну. Закричали там и здесь:
– Верно, верно говорит. что там… Открыть двери! Но двери некоторое время сопротивлялись. Тогда взвыли сотни голосов – уже грозных:
– Открыть двери!!!
Двери открылись. Стал говорить Гучков. я не помню что – какие-то успокаивающие слова. Во время его речи мне удалось добиться от председателя обещания дать мне слово вне очереди. Он наконец понял, почему это нужно, и когда Гучков кончил, дал мне слово.
Я сказал им:
– Вот мы тут рассуждаем о том, о другом: хорош ли князь Львов и сколько миллионов у Терещенко. Может быть – рано. Я прислан сюда со срочным поручением: сейчас в Государственной думе между Комитетом Думы и Советом Рабочих Депутатов идет важнейшее совещание. На этом совещании все решится. Может быть, так решится, что всем понравится. Так, может быть, и это все, что здесь говорится, – зря говорится… Во всяком случае, нам с Александром Ивановичем надо немедленно ехать.
– Ну и езжайте… Кто вас держит? Как раз было время. Мы слезли с Гучковым с эшафота по приставной лестнице и стали пробиваться к выходу. Толпа расступилась скорее дружелюбно, как бы заглаживая, что хотела «закрыть двери». Мы вышли на залитый солнцем и морозом день. Когда мы прошли несколько шагов, к нам бросилось Несколько офицеров:
– Ну, слава богу… Они были мне незнакомы. Но один из них прошептал мне на ухо:
– Нам сказали, что вас арестовали, там, в мастерских… Так вот мы приготовились…
Он показал рукой. На некотором расстоянии обращенный лицом к дверям мастерских притаился приземистый, зеленый, толстоватый, бесхвостый ящер на колесиках, – то есть пулемет…
Эти офицеры, должно быть, были саперы. Это потому я так подумал, что Гучкова сейчас же окружили и просили зайти «на минутку» в саперные казармы, которые «тут же». А.И. пошел. Он быстро вернулся.
В это время откуда-то появился приземистый человек – весь в коже, но не черный, а желтый, как будто бы интеллигентный рабочий. У него висел револьвер на поясе. Кто он был, я не знаю, но, словом, он объявил, что автомобиль подан. Мы пошли, неизменно сопровождаемые откуда-то берущейся толпой. Пошли через вокзал на площадь…
На площади перед вокзалом была масса народу… У ступеней перрона стоял автомобиль под огромным красным флагом. Из окон торчали штыки. Кроме того, два солдата лежали на двух крыльях автомобиля, на животе, штыками вперед. Мы полезли в автомобиль. Человек в желтой коже тоже втиснулся. Он сел против меня, вынул револьвер и сказал шоферу, чтобы ехал. Машина взяла ход, тогда он спросил:
– Куда ехать?
Я ответил:
– На Миллионную, 12.
Он сказал шоферу и прибавил как бы в объяснение:
– Чтобы там не слышали… куда едем… Я понял, что он наш… Я его больше никогда не видел. Он чего-то боялся. По-видимому, боялся, не преследует ли нас какая-нибудь машина.
Мы неслись бешено. День был морозный, солнечный… город был совсем странный – сумасшедший, хотя и тихим помешательством… пока. Трамваи стали, экипажей, извозчиков не было совсем…
Изредка неистово проносились грузовики с ощетиненными штыками. Куда? Зачем? С одним из них мы имели «объяснение»… Он отстал после ругани нашего «желтокожего» . Все магазины закрыты… Но самое странное то, что никто не ходит по тротуарам. Все почему-то выбрались на мостовую. И ходят толпами. главным образом – толпы солдат. С винтовками за плечами, не в строю, без офицеров – ходят толпами без смысла… На лицах не то радостное, не то растерянное недоумение…
Чего они хотят? Ничего… Они сами не знают… Празднуют «слободу»… И «что, значит, на фронт уже, товарищи, не пойдем»… Вот это в их глазах твердо написано. И вот это – ужас… Стотысячный гарнизон – на улицах. Без офицеров. Толпами… Значит – конец… Значит – дисциплина окончательно потеряна… Армии – нет… Опереться не на что…
Машина резала эту бессмысленную толпу… Для чего-то мы крутили по каким-то улицам… Это, должно быть, знал «желтокожий». Два «архангела» лежали на брюхах, на крыльях автомобиля, и их выдвинутые вперед штыки пронзали воздух…
Мне все казалось, что они кому-то выколют глаза. На одном углу я заметил единственный открытый магазин: продавали… цветы!.. как глупо…
Вот Миллионная… Вот знакомый дом с колоннами… И тут бродит какая-то солдатня. Автомобиль останавливается где-то, не доезжая… Не хотят «обращать внимания».
Мы идем несколько шагов пешком. Вот двенадцатый номер. Вошли. Внутри – два часовых… Значит, есть какая-то охрана. Поднялись… квартира Путятина… В передней ходынка платья. И несколько шепчущихся. Спрашиваю:
– Кто здесь?
– Здесь все члены правительства.
– Когда образовалось правительство?
– Вчера…
– Еще кто? – Все члены Комитета Государственной Думы… Идите – ждали вас…
– Великий князь здесь?
–Да…
Посредине между ними в большом кресле сидел офицер – моложавый, с длинным худым лицом… Это был великий князь Михаил Александрович, которого я никогда раньше не видел. Вправо и влево от него на диванах и креслах – полукругом, как два крыла только что провозглашенного мною монарха, были все, кто должны были быть его окружением: вправо – Родзянко, Милю– ков и другие, влево – князь Львов, Керенский, Некрасов и другие… Эти другие были: Ефремов, Ржевский, Бубликов, Шидловский, Владимир Львов, Терещенко, кто еще, не помню.
Гучков и я сидели напротив, потому что пришли последними…
Это было вроде как заседание… Великий князь как бы давал слово, обращаясь то к тому, то к другому:
– Вы, кажется, хотели сказать?
Тот, к кому он обращался, – говорил.
Говорили о том: следует ли великому князю принять престол или нет…
Я не помню всех речей. Но я помню, что только двое высказались за принятие престола… Эти двое были: Милюков и Гучков…
Направо от великого князя стоял диван, на котором ближе к великому князю сидел Родзянко, а за ним Милюков.
Пять суток нечеловеческого напряжения сказались… Ведь и Наполеон выдерживал только четыре… И железный Милюков, прячась за огромным Родзянко, засыпал сидя… Вздрагивал, открывал глаза и опять засыпал…
– Вы, кажется, хотели сказать?. Это великий князь к нему обратился. Милюков встрепенулся и стал говорить. Эта речь его, если можно назвать речью, была потрясающая…
Головой – белый как лунь, сизый лицом (от бессонницы), совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он не говорил, а каркал хрипло…
– Если вы откажетесь… Ваше высочество… будет гибель. Потому что Россия… Россия теряет… свою ось… Монарх… это – ось… Единственная ось страны… Масса, русская масса, вокруг чего… вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь… будет анархия… хаос… кровавое месиво… Монарх – это единственный центр… Единственное, что все знают… Единственное общее… Единственное понятие о власти… пока… в России… Если вы откажетесь… будет ужас… полная неизвестность… ужасная неизвестность… потому что… не будет… не будет присяги… а присяга – это ответ… единственный ответ… единственный ответ, который может дать народ… нам всем… на то, что случилось… Это его – санкция… его одобрение… его согласие… без которого… нельзя… ничего… без которого не будет… Государства… России… ничего не будет…
Белый как лунь, он каркал, как ворон… Он каркал мудрые, вещие слова… самые большие слова его жизни… И все же… И все же он оставался тем, чем он был… Милюковым…
Великий князь слушал его, чуть наклонив голову… Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был олицетворением хрупкости… Этому человеку говорил Милюков свои вещие слова. Ему он предлагал совершить подвиг силы беспримерной…
Что значит совет принять престол в эту минуту? Я только что прорезал Петербург. Стотысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров, шлялись по улицам, беспорядочными толпами…
А за этой штыковой стихией – кто? – Совет Рабочих Депутатов и «германский штаб – злейшие враги»: социалисты и немцы.
Совет принять престол обозначал в эту минуту: – На коня! На площадь! Принять престол сейчас – значило во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами.
Терещенко делал мне какие-то знаки. Я понял, что он просит меня выскользнуть в соседнюю комнату на минуту.
Я сделал это.
– Что такое?
– Василий Витальевич! Я больше не могу… Я застрелюсь… что делать, что делать?..
– Да, что делать… С ума можно сойти.
– Бросьте… Успеете… Скажите, есть ли какие-нибудь части… на которые можно положиться?. – Нет… ни одной… – А вот внизу я видел часовых… – Это несколько человек… Керенский дрожит… Он боится… каждую минуту могут сюда ворваться… Он боится, чтобы не убили великого князя… какие-то банды бродят… боже мой!..
Мы вернулись… Керенский говорил:
– Ваше высочество… Мои убеждения – республиканские. Я против монархии… Но я сейчас не хочу, не буду… Разрешите нам сказать совсем иначе… Разрешите вам сказать… как русский… – русскому… Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете России… Наоборот… Я знаю настроение массы… рабочих и солдат… Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии… Именно этот вопрос будет причиной кровавого развала… И это в то время… когда России нужно полное единство… Пред лицом внешнего врага… начнется гражданская, внутренняя война… И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству… как русский к русскому. Умоляю вас во имя России принести эту жертву!.. Если это жертва… Потому что с другой стороны… я не вправе скрыть здесь, каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол… Во всяком случае… я не ручаюсь за жизнь вашего высочества. Он сделал трагический жест и резко отодвинул свое кресло.
Много лет тому назад, 14 декабря 1825 года. были. как и теперь, – Николай и Михаил…
Николай был Государь. Михаил – его брат…