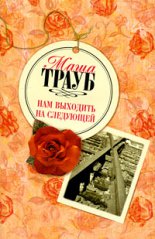Нина (сборник) Ратушный Алексей

© ЭИ «@элита» 2013
* * *
Нина
Повесть
- Три раза в день тебя я вижу.
- Глупец! Я счастлив должен быть!
- А кто-то, верное, обижен,
- Что встречи миг не смог добыть.
- Три раза в день с тобою вместе:
- Могу шутить, смеяться, петь…
- И под смешные эти песни
- В глаза красивые смотреть…
Глава первая
Нина – это сказка. Мне 17. Ей 19. Пансионат «Эжени Коттон». Анапа. 1971 год.
По прибытии в Анапу, ещё не дойдя до пансионата, я привернул в забегаловку с целью подкормиться. Скудное меню, характерное для всех советских столовых того периода, украшало слово «плов». Плов! Что может быть слаще для уха голодного советского подростка! Плов!!!
И вот я уже сижу за столом и ем обворожительный, острый, жирный, рассыпчатый, наваристый, обильно перемешанный мясом «натуральная баранина» рис.
О, как много ещё пловов предстояло отведать этому уставшему от дорог путнику! Я восторгался искусством кулинаров ресторана «Восточный» в Южно-Сахалинске (отмечая открытие перевала Сурмико на Пике Чехова в 1992), я изнывал от плова в Реттиховке, где три года подряд кормил уссурийских комаров, плов сопровождал мои посещения в Архангельске и Краснодаре, а какой плов меня научили делать в Качканаре! Плов непременно присутствовал на каждой сессии в Ленинграде, пловом потчевали меня Запорожье и Псков, Ашхабад и Новосибирск, Чита и Череповец, плов был символом Урая. И только в одном городе страны я ни разу не ел плова – в Москве.
Но в тот момент любимец Уральских гор, правнук Хозяйки Медной горы, выпускник Малахитовой шкатулки никак не мог предположить, что Москва так сурово обделит его любимым кушаньем. Не о Москве, нет, не о Москве размышлял я, разглядывая в окно круто поднимавшуюся вверх унылую южную улочку.
Здесь следует сделать экономическое отступление: в кармане у меня было до захода в столовую ровно 20 рублей. Плов стоил 88 копеек. Мне предстояло прожить в пансионате 24 дня. И подобная трата была непозволительной роскошью. Разумеется, в пансионат я попал на полное обеспечение. Эта путёвка была наградой за сплошные пятёрки, полученные мною на первом курсе Свердловского строительного техникума. Чем-то вроде Ленинской стипендии. К успехам в учёбе гармонично добавлялись успехи в спорте. Лёгкая атлетика и шахматы определённо не мешали друг другу. Таким образом, худенький юноша, жевавший плов, ощущал моральное право на эту экстраординарную матерьяльную вольность. Жуя плов, я пытался представить себе ожидающие меня перспективы. Как сказал один мой хороший приятель: «Был бы Ратушный, а приключения найдутся»…
Однако никаких особых перспектив в тот памятный вечер над пловом не обнаружилось, я встал из-за стола, подхватил нехитрый чемоданчик, и шагнул навстречу неизвестности. Я полагал, что меня ждут ежедневные тренировки, (30 километров по пескам), тщательное изучение защиты Алёхина (два часа за доской ежедневно), написание романа (90 минут скорописи каждый вечер)…
А меня ждала Нина.
Плакать – это тоже искусство. Тут главное – вовремя сдержаться. Сделать невинный взгляд, и так тихонько напрячь губы, чтобы случайный прохожий не смог догадаться, что вы плачете. И не забудьте вовремя отвернуться.
Путь к сердцу мужчины лежит через желудок!!! Желудки отдыхающих в пансионате «Эжени Коттон» заполнялись в роскошной, просторной, отдельно стоявшей столовой. За каждым был закреплён свой стол и свой стул. Мой столик располагался рядом с входом. За столом уже сидели две солидные полные женщины, имена которых для истории не сохранены. Поэтому здесь я прибегаю к вымыслу за неимением лучшего.
Клавдия Фёдоровна и Елена Гавриловна уже заканчивали третью неделю в пансионате и обменивались непонятными мне репликами:
– По животу?! – спрашивала одна.
– И выше! – почти торжествующе ответствовала вторая.
К концу второго блюда к столу приблизилась худенькая невысокая особа женского пола с неприятным лицом в неприятных очках.
Неприятным голосом она сказала:
– Приятного аппетита!
И уместилась на четвёртое, незанятое место. Её простенький халатик не скрывал ни одной из её привлекательных форм.
Я как раз в этот момент оторвал взгляд от 36 страницы исследования Владимира Багирова, посвящённого защите Алёхина, и запоздало задумался о значении странной реплики «И выше!».
Дело в том, что в вышеназванном труде вышеназванный автор на вышеназванной странице сделал одно тонкое примечание, начинавшееся со следующих знаменательных слов: «Выше было показано…».
Я перевёл взгляд с загорелого лица одной дамы на смуглое лицо другой, испытывая неодолимое желание поинтересоваться: что же именно было показано выше живота. Однако появление бледной «очкарки» (а она была бледная во всех отношениях), а в особенности её бледный взгляд и бледные губы, остудили мой внезапно вспыхнувший интерес к внезапно возникшим совпадениям.
На секунду возникло между нами состояние настороженно обнюхивающих друг друга дворняг – шло незаметное, тайное исследование друг друга. После чего наши хвосты опустились, и даже всякий намёк на взаимный интерес бесследно исчез.
Настоящий плач начинается потом. А пока только застилает глаза и теснит грудь и кипит что-то предательское в горле и невероятная слабость растаскивает губы, и не хочется жить.
…А вот здесь нам надлежит сделать легкоатлетическое отступление.
Мы росли в стране побед и свершений. Мы были воспитаны на лозунге: «победа или смерть» – и мы были готовы умереть или победить. Мы усвоили, что побеждает только тот, кто много тренируется. Что только падающий с ног способен на высшие достижения. Мы тренировались в любом состоянии, в любую погоду, в любых условиях. Мы знали: если ты способен идти после тренировки, значит ты не тренировался. Мы готовились к Олимпиадам. Мы тренировались трижды в день. Мы уходили на двадцатикилометровый кросс утром и возвращались с десятикилометрового кросса вечером. Вся жизнь делилась на восстановление и тренировку. Тренировка – это цель восстановления. Тренировка – это смысл бытия.
Прочь с дороги! Наши тела рассекают Вселенную. Наши ноги не устают. Наши лёгкие не знают большего счастья, чем снабжать наши ноги кислородом. Мы надеваем наушники и цепляем датчики к сердцу. Мы на бегу считаем пульс. Каждая тысяча метров – три минуты. Каждая минута – это двести ударов сердца. 12 000 ударов сердца и 20 километров позади.
Мы не знаем статистики. Шопша ещё жив. Он умрёт под дубами в Краснодаре через два года. Аланов ещё жив. Он повесится через восемь лет. Нам не ведомо, что каждый пятидесятый ребёнок в советской сборной погибает на тренировках… Да нам это и не интересно, мы сами готовы сдохнуть на тренировке.
У Шопши пульс 190 ударов в минуту. А каждый километр он пробегает за 2 минуты 45 секунд. Прочь с дороги!
У Аланова пульс 188 ударов в минуту, а каждый километр он пробегает за 2 минуты 46 секунд. Прочь с дороги!
Юра Корчёнков ещё жив. И у него тоже отменный пульс и отменная скорость. Темп!
Наше знамя – Абебе Бикила! Он пробежал в Риме 42 километра 195 метров босиком по мощёным мостовым за 2 часа 12 минут и 6 секунд. Темп!
Абебе Бикила – наш национальный герой. За две недели до олимпийского старта в Токио ему вырезали аппендицит. Все потенциальные претенденты на медали вздохнули с облегчением. Никто не верил, что он выйдет на старт. Но он был на старте. И он был на финише. Первым! Темп!
Абебе Бикила – символ наших надежд. Пока я ел плов, он падал вместе с маленьким самолётом на высокогорном плато в Эфиопии. И получил 79 переломов. У него было сломано всё, что только может быть сломано у человека. Но через шесть месяцев на инвалидной коляске он вышел на старт международных соревнований по стрельбе из лука. И занял девятое место из семидесяти участников. Темп!
Наша легенда – Хуберт Пярнакиви. В 1959 году в Лос-Анжелесе, при шестидесяти градусной жаре, двое – он и американец Сот остались вдвоём на десятикилометровой дистанции. Последние два круга они бежали почти час. Сот не добежал – он упал на дорожку и был доставлен в больницу без единого грамма соли в организме. У Пярнакиви тоже не было соли. Но он продолжал бежать. Он плохо соображал, куда бежит. Случайный зритель мог подумать, что на дорожке пляшет пьяный: он бежал практически на месте. Это была страшная пляска смерти, и этот танец, зафиксированный киноплёнкой, видела вся планета. Темп!
Он упал, перекинувшись через финишную черту. Темп!
Мы собирались превзойти Бикилу. Мы желали танца Пярнакиви. Мы смотрели на портреты Куца и не понимали, почему у него такой большой живот. Мы родились, чтобы умереть на дорожке. Темп!
Каждый день – тридцать километров. Темп!
Каждый день – 18 000 ударов сердца. Когда над Краснодаром в апреле семидесятого бушевали песчаные бури, и песок скрипел на зубах, мы обматывали головы майками, снимали кроссовки и бежали 30 километров по раскалённому битуму босиком. Ноги прилипали к битуму, и на двадцать восьмом километре кожа со ступнёй оставалась на дорожке. Мы оставляли кровавые отпечатки, и песок засыпал следы наших ног. Музыка бега как музыка танца. Темп!
Бег снился нам по ночам. Мы мечтали побить рекорд Пааво Нурми (этот невысокий финн на трёх Олимпиадах подряд опережал своих высокорослых соперников на всех стайерских дистанциях). Мы мечтали превзойти Эмиля Затопека (этот почтальон из Чехословакии сумел выиграть Олимпийские забеги на 5, 10, и 42 километра). Владимир Куц казался нам воплощением нашей мечты. На Олимпиаде в Мельбурне он не позволил англичанам сидеть у себя за спиной в ожидании быстрого финиша. Со старта он вышел вперёд, взвинтил темп и продвигался к финишу, совершая жёсткие ускорения на каждом круге. Никто из соперников не выдержал этой гонки.
И мы выходили со старта вперёд. Мы устраивались на почты и разносили телеграммы, чтобы работа и тренировка слились воедино. Мы презирали общественный транспорт. Везде, где можно было бежать, мы бежали. Темп!
Через две недели на Мемориале Знаменских в сутолоке на старте Шопша проколол шиповкой ахиллово сухожилие Аланову. Словно рок свёл двух выдающихся стайеров в этом забеге. После этого старта ни тот, ни другой ни разу не поднимались на пьедестал почёта…
Но пока был июль семьдесят первого. И Людмила Брагина ещё находилась в опале: во всех газетах писали о её неспортивном поведении. И только через год в Мюнхене ей предстояло принести нашей сборной три золотых медали.
А в апреле семидесятого на Краснодарском стадионе «Труд», рядом с каждым кровавым отпечатком наших ног, оставались следы её изящных шиповок «Адидас». Темп!
Каждое утро я буду выходить на набережную Анапы и пробегать двадцать километров вдоль Чёрного моря!
…И сейчас, пока я дожёвываю вечернюю котлету, не обращая внимания на бледную девушку в очках, я не знаю, что в это же самое время в далёкой Эфиопии всё падает и падает маленький серебристый лайнер с первым африканским олимпийским чемпионом на борту. Он уже выгнал весь бензин. Он всё пытается выпустить шасси…
Я захлопнул книгу Багирова и сквозь увитую виноградом беседку двинулся к берегу Чёрного моря.
Когда плачешь, ты должен быть один. Но наша цивилизация не позволяет тебе быть одному.
На первом этаже холла пансионата (много лет спустя как раз в этом месте моя дочка Света закатила грандиозный скандал) располагались гигантские шахматы. Я впервые видел такое чудо. Тяжёлые точёные деревянные фигуры вызвали у меня чувство невыразимой тоски по дому.
Здесь же стояло никем не охраняемое фортепиано. Я открыл крышку и сыграл единственную мелодию, освоенную мною к тому времени: «Родина или смерть!», что в переводе с испанского означало: «Куба, любовь моя!» Обратите внимание, как в одном предложении играют понятия «родина», «смерть» и «любовь»… С высоты сегодняшнего дня я нашёл бы и новое значение перевода: «Куба! Любовь моя…». Но для появления этого восклицательного знака нужно было, как ни странно, не умереть на дорожке…
В общем, есть такое искусство – Плакать! Но искусство – это то, чему нельзя научиться.
Утром следующего дня я пробежал свои первые двадцать километров по берегу моря. Вечером в палате я слушал любопытный разговор своих соседей, мужичков где-то лет 35–40. Их было трое из разных городов. Один казах, двое русских. Из этих двух – один толстый, другой тонкий. Толстый в основном и говорил. Говорил об одном: он жаждал любви, простой и незатейливой, как вся его рабоче-крестьянская биография. Говорил все вечера.
Рассказы его звучали как донесения с фронта:
– Эх, б…, сегодня не дала…. – это в первый день.
– Вот, б…, в кустах чуть-чуть не дожал…, – это день второй.
– Боже, как яйца ломит, б…, – третий вечер…
И, наконец, победная реляция:
– Таких стерв ещё поискать! А то всё целку из себя ломала! Я ей х… в…, а она знаешь чего сказала?
(Мы, естественно, не знали)
– Выше, по животу!!!
Три завтрака, три обеда и три ужина я так и не смог съесть. Подходил к столу, смотрел на удовлетворённую Клавдию Фёдоровну, ненавидящим взором обводил дам в столовой, и меня неудержимо тянуло блевать.
И одна мысль, как победитовое сверло, сверлила и обжигала мозг: «Неужели они все такие?».
Но в ту, вторую, ночь после первого кросса я проснулся в три часа и ощутил, что мне нечем дышать. Тело – в липком поту, гланды сдавили горло, нос как ватой набит. А сердце! Моё сердце! Я на глазок прикинул пульс. И не поверил: в спокойном состоянии, в норме, оно всегда билось ровно 60 раз в минуту. Теперь было 140!
Все суставы и мышцы ломило. Я мог бы, как Абебе Бикила в Мехико, падая на дорогу, воскликнуть: «Ноги мои, ноги!»…
Лоб раскалён. С трудом я сполз с койки и дополз до двери. Сорок минут я добирался до здания «скорой помощи» (мне, атлету, было стыдно беспокоить людей по телефону), где я выяснил, что пульс 146, что температура 39,6, и что у меня осложнение на сердце ревматоидного характера по типу тонзилл-кардиального синдрома. Что положение серьёзное, и что с лёгкой атлетикой мне придётся расстаться навсегда!
Последующие две недели были потрачены на лекарства (на них ушли все деньги), лечение и оздоровительные процедуры. Боль в суставах улеглась только через полгода. Воспалённые, они не позволяли ни ходить, ни сидеть, ни писать. Вечерами я ползал вдоль каменного бортика и смотрел на море. Мне были запрещены купания, загары и все те маленькие удовольствия, которые ассоциируются у жителей державы со словом «юг».
Единственным развлечением, посильным мне в этот период, было домино. Целыми днями я зубрил Багирова и играл со старичками у входа в пансионат. Соседок за столом для меня не существовало. Однажды моя соседка по столу подошла к нам, доминошникам, в сопровождении какой-то девушки неописуемой красоты. Дело было перед ужином. Я как раз вылетел, неудачно пытаясь закончить игру знаменитым пусто-пусто. На душе было и пусто-пусто и темно. Однако вид прекрасной незнакомки и отсутствие хоть какой-нибудь приличной цели в жизни повлекли меня к первому в моей жизни пикантному знакомству.
Я решил представиться и вскоре уже мы сидели втроём на скамеечке между виноградником, ведущим в столовую и пансионатом (до этой скамеечки я Любу и детей так и не довёл!) и оживлённо беседовали. Девушку звали Галей. Мою соседку по столу – Ниной, меня (как и оказалось впоследствии) – Лёшей. Это была самая первая в моей жизни беседа с девушками вообще, и с Ниной – в частности.
Речь зашла о евстахиевой трубе и её роли в организме. Я развил красивую теорию. Галя веселилась. Потом мы остались с Ниной за столом вдвоём и она заявила:
– Дурак! Она же врач!!!
Это была самая первая в моей жизни рефлексия самой первой в моей жизни моей же игры. И эту первую игру я успешно и с визгом проиграл.
Зато теперь я присмотрелся к соседке и обнаружил, что Нина вполне сносно смотрится, как девушка. Конечно это не Галя, но у неё добрый нрав, чистый взгляд и прозрачные мысли. Оказалось, что здесь она отдыхает каждый год!
Но в тот вечер мы недолго поболтали и разошлись. Я признался ей, что пишу песни, что песни эти про бег, что я мечтаю вернуться на дорожку вопреки прогнозам врачей, что я играю в шахматы и намерен играть матч на первенство мира во-первых, и бить мировые рекорды в лёгкой атлетике во-вторых.
Нина, как мне кажется, увидела, что я, во-первых до предела наивен и глуп, и к тому же совершенно ничего не понимаю в женщинах во-вторых, но, могу быть полезен для безопасного развлечения – в-третьих. Мне об этом, разумеется, не сообщалось, но сообщалось, что я имею право сопровождать её и (и это важно!), саму Галю (боже правый, как она мне понравилась! Галя!) на завтрашнем купании у скалы! (Вот до этой-то скалы я и довёл и Любу, и детей!).
Ночь под таблетками прошла спокойно, и утром я доковылял до скалы. Обе девушки уже были здесь и собирались через полчасика к завтраку. Вот здесь-то я и рассмотрел Нину вне её очков и в её купальнике.
Боже милостивый! Боже правый! Она была совершенна! Здесь я и спел ей самую первую свою песню:
- Здесь двадцать пять кругов,
- Здесь тысяч семь шагов,
- И надо обойти здесь всех!
- Бежать, как хватит сил!
- Бежать, чтоб победил…
А потом она бродила между камней в море. А потом мы завтракали, и я прочёл ей первое своё стихотворение на «её» тему:
Три раза в день тебя я вижу!..
Нет! Неправда! Ни одного моего стихотворения себе она не слышала. Пока. Пока мы не расстались. Я прочёл ей что-то другое. Но что же? Что?!
Только ты не плачь! Сожми зубы и не плачь. Набери побольше воздуху в лёгкие и не плачь. Ты сильный, и ты это выдержишь! Потому что это всё пройдёт!
– Галя вчера уехала. – Нина смотрит на меня из глубины своего номера.
Мы выходим на балкон, и неожиданно она заявляет:
– Знаешь, как невыразимо грустно было сразу после её отъезда!
И… плачет. Я утешаю её, я пытаюсь её веселить… А через один вечер я провожаю её на поезд. Вот он отходит и скрывается за поворотом. Вот я стою на той же самой улочке. Пока ещё всё спокойно, Нина дала мне свой домашний телефон и свой адрес. Просто так. И я записал просто так. Мы оба уверены, что больше никогда не встретимся…
И вот солнце слегка склоняется к закату, и я хожу по внезапно опустевшему балкону нашей палаты, и вдруг… что-то страшно рвётся в груди, душит в горле и мои глаза застилает солёная пелена…
Никогда! Я сдерживаю себя до предела, но ЭТО накатывает всё мощнее и ярче…
Никогда! И я рыдаю, я уже не в силах удержать ни слёз, ни голоса, ни рук, ни ног… Второй раз так я буду плакать только через двадцать пять лет!
Ну, а ты не плачь! Потому что сказка ещё только начинается.
Глава вторая
- Ты ко мне никогда не вернёшься!
- Я тебя никогда не найду!
- Если встретимся, ты отвернёшься,
- Если нет, не узнаю, пройду!
- Мы так мало встречались с тобою!
- Я не понял тебя, был несмел,
- И под шёпот ночного прибоя
- Песен всех я пропеть не успел!
- А когда я с тобой расставался,
- Я не знал, что уходит любовь,
- Ты прости, что я поздно признался,
- И не в силах вернуть тебя вновь!
…Говорят – нельзя бросать спорт резко. Говорят, что те, кто резко бросил, часто болеют и быстро умирают. Говорят, что спорт не любит, когда его бросают. А кому это понравится, когда его бросают… Но я не бросил спорт. И не собирался бросать.
Я вернулся в Свердловск и вернулся в свой техникум. В августе мне сделали операцию (удалили гланды). В больнице я продолжил изучение книги Ласкера «Учебник шахматной игры» и вскоре выполнил норму первого разряда. Двадцатого сентября я вышел на старт километрового кросса и выиграл первенство техникума. Но пробежал эту дистанцию всего за три минуты и шесть секунд. А ведь зимой в манеже УПИ мне посчастливилось пролететь эту же дистанцию за две минуты сорок одну секунду!
Потянулись учебные недели. Изредка я посылал письма Лене Машуковой, изредка она отвечала мне. Ленка была очень серьёзным человеком, наш брак казался мне неотвратимым хотя бы потому, что у нас с ней всё было слишком романтично…
Ходил я с трудом. Тот памятный забег в техникуме вообще отнял все силы. Мне снился бег. Всю осень и всю зиму я просыпался от невозможности опередить кого-то на дорожке. Подкатилась зимняя сессия. Экзамены я сдавал автоматом и досрочно, и поэтому выкроились две недели чистых каникул. На что я их потрачу, я знал ещё в июле.
Собрался. Деньги только на дорогу туда и обратно. Большой, непропорциональный тулуп – единственная моя тёплая одежда. Валенки. Какая-то старенькая меховая заячья ушанка. Со стороны я был просто смешон. Но меня это не интересовало. Я ехал в Москву.
Прибыл. И здесь мне посчастливилось первый и последний раз в жизни попасть на спектакль Большого театра в Кремлёвский Дворец съездов. Давали «Фигаро».
Весь следующий день я провёл в поисках улицы Грайвороновской и третьего корпуса заветного дома. Нашёл. Голос за дверью сообщил, что Нина придёт позже.
И вот я четвёртый час стою у морозного подъезда и жду. Я не курил, не пил, не интересовался ничем и никем. Я просто стоял и ждал. Она появилась из темноты внезапно. Лёгкая, в великолепной белой шубке. Увидев меня, вначале замедлила шаг, потом остановилась. Я замер.
– Ты?!
– Я.
– Зачем приехал?
– Посмотреть на тебя.
– Насмотрелся?
– Да.
– Тогда прощай.
Она легко взошла по ступеням и скрылась в лифте.
Девочка! Если тебе встретится смешной, нелепый, нескладный мальчик, который не знает слова «трахаться», не понимает, что тебя нужно ласкать и обнимать, что ты мечтаешь об алом принце на белом коне. Если он встретится тебе сегодня, а через полгода или год будет стоять у твоего подъезда и глупо мечтать только увидеть тебя, знай: это твой единственный шанс на потрясающую, неземную, сверхромантичную и самую преданную и искреннюю любовь на земле! Дважды Бог такого шанса не даёт никому. О! Если бы она не вошла в лифт! Если бы не спросила так презрительно «Зачем?»! Разве могло бы случиться всё то, что случилось!? Боги, боги! Как грустна вечерняя земля! Это знает уставший.
…После всего этого ужаса мне хотелось только одного: умереть. С того вечера – который всё длится и длится во мне, с того мгновения, как лифт унёс её вверх, а меня швырнуло в темноту московской улицы – жизнь превратилась в одно бесконечное ожидание неизбежной смерти.
Все события, люди, дороги были как бы бледной иллюстрацией того, что могло бы быть. Она жила во мне и живёт по сей день всё в той же Анапе. Всё у той же скалы она каждый день бродит по воде и её прекрасное тело легко и изящно омывается лучами солнца. Грация её движений звучит во мне дивной мелодией, но каждый вечер на закате во мне просыпается волк и хочется выть от бессмысленной этой утраты. И не выдохнуть эту боль в груди. И не выплакать этих слёз. Не вырвать этих воспоминаний. Не утолить эту жажду. Никогда!
Нина! Я любил тебя и только тебя. Тебя одну. Всю жизнь. На всех дорогах, на всех тропах. Со всеми женщинами, со всеми встречами.
Нина! Не было, нет и никогда не будет на свете такой прекрасной, возвышенной и чистой любви. Любви, которой не нужно тела, но только слово и взгляд.
Нина! Сколько долгих ночей я провёл с тобой без тебя!
Нина! Сколько долгих дней я, как в тумане двигаясь, шептал твоё имя и никогда не осквернял его ни одной гадкой мыслью. В мгновения наивысших откровений души я вспоминал твой взгляд и не хотел, не хотел, не хотел с ним расставаться! Все сокровища мира я готов был бросить к твоим ногам! Все сказки света готов был променять на одно твоё ответное «люблю»! Но ты – никогда не любила меня. И никогда не ждала. И никогда не верила.
И что осталось? Несколько наших простеньких диалогов в моей истерзанной страстью памяти, да ещё несколько твоих взглядов. Давно упал самолёт с Бикилой, но раскалённые улицы Рима всё хранят и хранят невидимые следы его босых ног.
Всё заметает и заметает песок мои кровавые следы на битумной дорожке Краснодара. Всё так же упорно стремится к финишу Люда Брагина. И Юра Корченков всё бьёт и бьёт всесоюзный рекорд на десять тысяч метров. Время остановилось.
Ты не вышла замуж. Не родила детей. Всё тот же голос твоего отца отвечает мне в телефонную трубку:
– Она придёт позже, перезвоните.
И век несётся мимо нас, мы меняемся с ним и остаёмся самими собою, пока живёт во мне тот юноша, одетый в нелепый полушубок и валенки и ждущий тебя у подъезда в Москве. В городе, в котором я никогда не ем плов.
Только ты не плачь!
Глава третья
Я думаю о женщинах день и ночь. Я постоянно жду их появления в моём воображении, и они приходят. Они приходят по одной и группами. Они врываются в моё сознание и тревожат мой дух. Они приходят ко мне из памяти. Они возвращаются и вновь растворяются в непонятном «где-то»…
Этот калейдоскоп их появлений и исчезновений звучит во мне какой-то странной пронзительно высокой музыкой. И главная тема этого поразительного концерта – Люба.
Она всегда рядом. Она бдительно охраняет мой мозг от слишком долгих посещений других женских фигур. Она доминирует всюду во мне. Она желанна и неприступна. Она – высшая цель и главная идея всей этой музыки. Я не остаюсь без неё ни на мгновение. И где-то рядом с ней, но всё-таки на втором плане – Наташа.
Но если Люба – это смысл и суть мелодии, и её главный непрекращающийся ритмический рисунок, то Наташа – это страсть и пафос музыки моей души. Люба – это Рим, власть, закон, роскошь и величие. Наташа – Греция, изящество, искусство, возвышенное и чистое пение. Люба – это очаг, Наташа – это огонь. Люба – это дом. Наташа – это хозяйка дома.
Я проклинаю своё гаремное мышление. Я не желаю нарушать ни одного своего данного слова, ни одной своей клятвы. Я люблю их обеих. Я не мыслю себя без них и вне них. Мне нужны обе. Для Любы я – мальчик, для Наташи – мужчина. Для Любы я – дурачок, юродивый. Для Наташи я – гений. Для Любы я – необходимый элемент интерьера и оформления семьи. Для Наташи – муж и отец её ребёнка. Они обе имеют от меня дочерей. Свету и Евдокию разделяют 17 лет! Поразительно: я всегда мечтал встретить с Любой двадцатилетие нашей свадьбы в Реттиховке. Но встретил его в городе, где живёт её родной отец, и в который она сама меня привезла… Но без неё! И уже без Дунечки.
А ведь был февраль 1971 года. Самый его конец. Утро. Я раскачался на кресле, разгоняя кровь в сухих суставах и с силой, вставая, вытолкнулся. Двинулся в коридор к умывальнику. Над умывальником – окно. Сквозь окно било солнце. Его лучи расходились косыми пучками и в этих световых столбах плясали мелкие пылинки. Я обернулся и остолбенел. В дымке световых световых лучей и пылинок, едва различимые глазу, привыкшему к яркому свету, стояли три фигуры, которые вызвали ассоциацию с романом дона Сервантеса: высокая фигура Дон-Кихота, маленькая кругленькая фигура Санчо-Пансы ещё одна хрупкая фигурка прекрасной незнакомки. Это оказались новые жильцы четвёртой квартиры – три девушки, прибывшие отрабатывать три года по распределению в Свердловске.
Тогда у нас в квартире жил Володя, который после армии учился в техникуме. Мы дружили. И решили в тот же вечер «пойти познакомиться». Но для знакомства был необходим достойный повод.
Уже через несколько часов мы знали, что:
а) девушек зовут Руфа, Люда и Люба;
б) они закончили Архангельский коммунально-строительный техникум;
в) они изучали английский язык;
г) они играют в подкидного дурака.
В качестве весомого повода для плотного знакомства был избран английский язык. Я предложил им помочь мне перевести несколько страниц для зачёта.
На всякий случай я взял текст, который сам мог свободно читать и переводить без словаря, поскольку имел счастье в своё время обучаться в английской школе. Им об этом мы, конечно, не сообщили.
Таким образом, пока они собирались переводить текст, изучая его внешне, я внешне изучал их. Люда мне понравилась живым и весёлым нравом, но она была что называется «не в моём вкусе». Руфа была прекрасна, и на неё я направил всё своё внимание.
Люба была некрасива, старалась быть незаметной и не обращала на себя внимания. Однажды у них подпортилась колбаса. Тогда в дело вмешалась моя мама. Дежурила по кухне в тот день Люба.
И вот стоит она над кастрюлей с достопамятной колбасой, подхожу я, и вдруг она оборачивается и смотрит на меня таким взглядом… От этих широко раскрытых глаз всё во мне перевернулось, и я её наконец-то разглядел…
Когда очень одиноко, когда закат наполняет невыразимой грустью и слёзы сами просятся из глаз, смело плачь! Так плачут сильные.
Организация пространства любви
Давным-давно в Архангельске, на острове Соломбала (говорят, сам Пётр Первый здесь правил бал на соломе, откуда и название этого острова в дельте Северной Двины) в посёлке Первых Пятилеток, именуемом в народе просто Сульфат стоял стандартный двухэтажный двухподъездный сложенный из бруса барак, разделённый на четыре секции. Адрес у барака был такой: улица Целлюлозная, 23. В комнате, громко именовавшейся «квартира» под номером 17 поселилась молодая семья из двух человек. Девушку звали Люба. Как звали молодого человека – пока неважно. Окно из комнаты № 17 смотрело прямо на проезжую часть улицы Целлюлозной. Напротив этого барака прямо через дорогу был построен красивый современный пятиэтажный дом, облицованный белым кирпичом. В доме было четыре подъезда. Адрес у дома был такой: улица Целлюлозная, 20. В самом ближнем к бараку подъезде на третьем этаже этого дома размещалась квартира № 62. Окна из этой квартиры выходили на улицу Целлюлозная и из них весь барак и окно комнаты № 17 прекрасно просматривались. Таким образом, эти две квартиры смотрели друг на друга окнами, и можно было за одну минуту попасть из квартиры № 62 в комнату № 17 и наоборот.
– Ты не знаешь, как любят.
(Люба)
Всегда вдвоём
Муж Любаши работал то на почте, то на лесопилке, то на целлюлозно-бумажном комбинате, то у чёрта на куличках в городе, и тогда он каждый день ехал на автобусе № 10 сорок минут туда и сорок минут обратно. А она работала в конторе. В строительно-монтажном управлении № 2, располагавшемся прямо за домом № 20 в глубине этого квартала в деревянном одноэтажном строении. Здесь же работал мастером некий Виктор (назовём его так). Начиная с техникума, и пять лет до замужества (с 18 до 22 лет) Любаша и Виктор «встречались». Нетрудно догадаться, что проживал Витя в квартире № 62 дома № 20 по улице Целлюлозной.
А в бараке восемь лет проживали Любаша с мужем и растили двоих детей.
Встреча
Прошло много лет, Витя четыре раза уже был женат и разведён. И, наконец, серьёзно заболел и попал в больницу.
Любаша с мужем давно уехали в другой город и исчезли с горизонта. Её муж за эти годы неузнаваемо изменился.
И вот в больницу к Вите пришёл какой-то толстый потрёпанный мятый неопрятный мужик, и они оказались друг напротив друга. Мужик держал в руках большую фотографию молодого Вити, поздоровался и присмотрелся. Перед ним сидел волосатый, небритый, как-то болезненно состарившийся худой человек.
– Вы помните Любу Леонтьеву? – спросил мужик у Вити.
В ту же секунду лицо измученного болезнью озарилось каким-то глубоким внутренним светом, взгляд серых глаз вспыхнул ярко и губы расплылись в блаженной улыбке.
– Любаша?! Конечно… Первая любовь… А потом приехал какой-то матрос и забрал её…
– Я взял у ваших родных вашу фотографию, – сказал мужик, – она просила привезти ей на память. Вы не возражаете?
– Конечно, конечно! – закивал Витя.
Расколол
Я рыдаю у Людмилы на кухне. Я осознал, что Люба меня не любит, что я мешаю ей жить своей жизнью, встречаться со своими любимыми. Мне душно. Мне плохо. Я хочу вырвать эту боль из груди. Я хочу выжечь её раскалённым прутом. Я хочу умереть.
– Сердцу не прикажешь, – грустно говорит Люда.
Я цепляюсь за эту возможность последний раз побыть дома с родными. Я осознаю, что я навсегда потерял свой дом, свою любовь, свой мир. Я погибаю. И я пытаюсь, пытаюсь понять: за что? И тогда я внезапно задаю этот вопрос, который не решался задать много лет:
– Ведь я знаю, что до меня у неё был человек!
– Ну и что? Теперь ведь это уже не важно, – успокаивает меня Люда. – Был. И жил на Целлюлозной, 20…
Финал
Я вернулся домой из той тяжёлой, страшной поездки. Люба начала собирать на стол. И тогда я открыл дипломат, извлёк из него фотографию Виктора и бросил перед нею на стол: «Я знаю всё!».
Она замерла на несколько секунд и сразу внутренне напряглась. Я чувствовал всё, что происходило в ней в эти мгновения. И тогда слёзы стали душить меня.
Господи! Все эти годы… Господи! Боже правый!
Я прощу тебе всё, кроме лжи!
Не лги!
Глава четвёртая
Пора! Пора замолвить словечко о Лене Машуковой. Пора рассказать о самой грустной песне моей жизни.
С Леной мы познакомились заочно. У моего школьного друга, Юры Мещерякова, в доме которого я провёл не меньше времени, чем в своём собственном, была двоюродная сестра. Жила она в Кургане и однажды по совету Юры я послал ей письмо.
В первом письме я сообщал свой рост, вес, парижские наклонности и вообще – оно было пронизано Светом и светскостью. Остроумный ответ в том же стиле не заставил себя долго ждать. Мы переписывались почти год…
Наконец наступило лето. Мы встретились и познакомились. Вместе гоняли футбол во дворе Юркиного дома. Вместе гуляли по городу. Мы никогда не целовались. Мы никогда не обнимались, но редко подводившая меня интуиция подсказывала мне, что с этой девочкой будет связана вся моя жизнь. (Иркутск, 1992 год. Мы с сыном Володей покупаем ЕЙ цветы и шампанское).
У Лены было потрясающе интересное лицо: совершенно английский профиль и самый соблазнительный разрез глаз во всей Вселенной. Она была остроумна, умна, сообразительна, интересна как собеседник и имела свой необычный взгляд на вещи, людей и их отношения. (Иркутск. Мы вместе выгуливаем её собаку. Она сердится на меня за то, что я до сих пор не придаю значения решающим мелочам).
О, Лена! Твоё лицо всегда хранится в моём альбоме. Люба не возражала. Люба понимала, что это лучше, чем тайная привязанность к прошлому. (Свердловск, 1975 год. Мы с Любой в гостях у Мещеряковых перед отъездом в Архангельск. Люба видит, как я смотрю на Лену, уводит меня из этого дома и плачет, плачет, плачет…)
Потом Лена училась на геофизика в Горном институте. Странно – но почти все мои знакомые, пообщавшись с моей мамой, шли учиться на геофизику… Таково было влияние личности моей мамы – геофизика, поэтессы, актрисы – на их незрелое подсознание…
Я приходил к ней в общежитие, мы иногда прогуливались по городу… Иногда она мне снилась… Ровные, не омрачённые сексом отношения не развивались и не утихали… Я раздумывал о том, чтобы связать с ней жизнь. Точнее мечтал об этом. Лена была из мира моего дома, из мира моего детского окружения, из мира геофизики.
Тогда я ещё не осознавал всей своей чудовищной силы влияния на женщин. Тогда я ещё не понимал всей сокрушительности своих вербальных агрессий и не различал женщин так, как различаю их сейчас. О, имей я тогда в себе хоть малую часть своих нынешних представлений! Но Лена тоже росла и менялась. В 1974 году я пришёл к ней в общежитие и прямо спросил на скамеечке под окнами общаги, как она смотрит на наши перспективы… Она ушла от прямого ответа. Если до этого я ещё сомневался, то теперь все сомнения были отринуты. «Жребий брошен!» – сказал я самому себе и, прихватив у Юры Мещерякова студенческий билет, нелегально, под его именем, вылетел в Архангельск. Это теперь молодые люди сначала спят, а потом объясняются в любви. Мы объяснились в любви, но никогда не спали вместе. Потому что дух для нас был важнее плоти. Сколько раз я хотел уехать к ней в Иркутск! Всё бросить и уехать. Словно переиграть жизнь… Пойти по другому стволу дерева её вариантов. Но в конце, в самом конце жизни обе ветки встретились и переплелись.
И получилось, что как бы я не двигался – меня ждал один и тот же финал, один и тот же круг игры и одна и та же музыка.
Всё!
Слов нет!
Я распят!
Я смотрю сны своей жизни. Мы всё идём и идём с Леной по мокрому после грозы тротуару улицы Пушкинской. Юра всё ставит и ставит мне тысячу щелбанов и всё крутится и крутится пластинка с песней:
- «Словно сумерек наплыла тень,
- То ли ночь, То ли день…»
Когда очень хочется плакать – уходи от всех в прерии…
Глава пятая
Божественная Валерия! Кто не читал Джованьоли – пусть спросит меня, я знал её!
Я знал станцию метро «Парк Культуры», знал этот типично московский дом с типично московским лифтом. Знал эту коммуналку. Самый южный вид столицы открылся мне рядом с ней на Лубянке. Самые прекрасные виды небоскрёбов с Москвы-реки мы созерцали, катаясь на прогулочном теплоходе.
Валерия! Вот с кем найду я утешение в самый сложный период моей жизни. Вот кто откроет мне дверь вечером и проводит до порога утром. Вот чей голос буду искать я по всем телефонам Москвы!
Божественная! Джованьоли был чертовски прав! И трижды прав был режиссёр американского фильма, потому что смог, сумел, удосужился открыть нам облик самой замечательной женщины всех веков и народов.
Мужчина не способен на успех, если за ним не стоит женщина. Никогда ни один мужчина не имел успеха, если рядом с ним не угадывалась хрупкая фигурка его неизменной спутницы. Валерия принесла Спартаку славу и самый грандиозный успех. Кто ещё имел такой безнадёжный старт и такой блестящий финиш?
Валерия оказалась сильнее Клеопатры и Жозефины, мудрее Ксантиппы и глубже Этелиан Булль. Стать Цезарем, родившись в самом знатном римском семействе и стать достойным соперником всех кесарей мира будучи гладиатором! Нет!
Валерия была и остаётся недостижимым идеалом любого мужчины. Мне сказочно повезло. Я достиг идеала. И она меня полюбила. Редко кого любят так, как она меня…
Её экранная версия уступала ей во всём. Ни одна женщина мира не умела любить так страстно и неистово, быть такой преданной и нежной. Моя мечта понять Спартака осуществилась внезапно через неё. Если в Москве и оставались цветы после наших встреч, то только второго сорта. Если в Москве и писались стихи после наших свиданий, то все самые лучшие строки уже были написаны. Это был первый и последний в моей жизни отпуск, предоставленный мне Ниной!
А потом… я уехал в Урай, и её голос пропал, исчез, растворился, словно и не было его никогда, словно это была моя зелёная дверь, которая каждому открывается только раз в жизни. Уйдёшь, и более никогда не найдёшь. Не уходи из рая! Но я ушёл…
Это бывает. Редко, но это бывает. Всё хорошо, всё нормально. И вдруг накатывает невообразимая волна тоски, врывается буря чувства, и нет никаких сил остановить её и сдержать рыдания. И тогда ты падаешь на диван и хватаешь себя за голову и истово молишься об одном: Боже! Прими же меня! Прими и успокой навек!
Глава шестая
Это был сон. Сон, который снился мне в детстве. Мне часто снились одни и те же сны помногу раз. Потом оказывалось, что сны эти были вещими.
Мне снился странный сон, что я в квартире у Горшковых (самая недоступная для меня квартира в нашем старинном купеческом доме в центре Свердловска на бывшей Хлебной улице) лежу на кушетке (в этой квартире не было кушеток!), и вокруг меня собралась группа женщин… Они ухаживают за мной, гладят меня, жалеют и… я был ребёнком и понять этого действия не мог.
Однажды этот сон материализовался: когда Свердловск уже стал Екатеринбургом. Горшковы умерли, и в их квартиру вселилась молодая семья. Саша и Оля. Впоследствии Оля ушла, а Саша стал сдавать комнату нашим знакомым. Точнее даже не просто знакомым, а моим ученикам. А уж если быть совсем точным, одной моей ученице, Наташе.
Женщины напрасно полагают, что мужчины не плачут. Просто они никогда не показывают им слёз. А если и показывают слёзы, то, будьте уверены, ненастоящие. Настоящие слёзы – это личное сокровище каждого нормального мужчины.
Впервые о Наташе я услышал от графини Орловой. При отсутствии графа, на её уютной кухне, в период работы над проектом школы старшеклассников в Урае я услышал такие слова:
– А знаете ли Вы, Алексей Алексеевич, что в Урае есть такая девочка – Наталья Литвякова?
– И чем же она интересна? – спросил я.
– О! Это очень способная девочка! Начитана и интеллигентна.
Наташа впервые увидела меня в первой школе Урая, и, будучи наслышанной обо мне, подумала: «Интересно, как он будет за мной бегать!».
Первый наш диалог состоялся на встрече учеников первой школы со мной, то есть с руководством будущей школы старшеклассников. После нашего выступления Наташа задала вопрос: