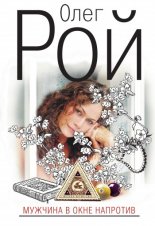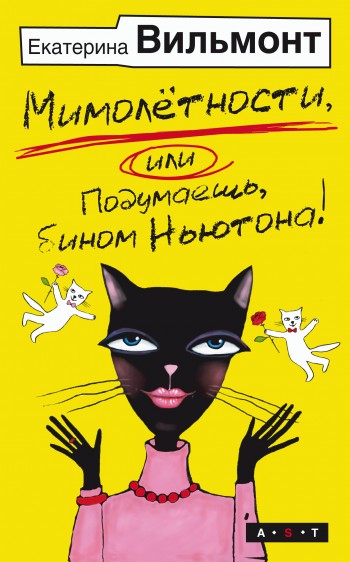Дорога Маринина Александра
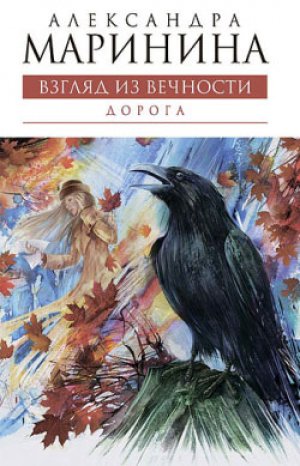
– Какой ужас! – сокрушался Камень. – Поверить не могу, что с Родиславом такое случилось. Ну, секретарши и адвокатессы по случаю – это, конечно, неприятно, но вполне объяснимо. Но такое! Ты меня расстроил, Ворон. Ах, как ты меня расстроил!
– А я, думаешь, сам не расстроился? – Ворон и в самом деле чуть не плакал. – Твой Родислав изменил моей Любе. Да будь моя воля, я бы его с потрохами склевал! И она из-за него мучается, бедняжка, и еще Олег этот масло в огонь подливает, к измене склоняет. Если и Люба теперь изменит Родиславу – я этого не переживу! Я брошу тогда этот сериал на полдороге, черт с ним, не буду досматривать, а то у меня сердце не выдержит.
– Какая семья была! – поддержал его Камень. – Образцовая, показательная, хоть картины с них пиши. Всем на зависть! И такая пошлость… Нет, это просто уму непостижимо! Такая любовь, такое взаимное доверие, такая теплота – и вдруг на тебе, какая-то Лиза, какой-то Олег. В голове не укладывается.
Они долго сетовали на превратности судьбы, потом чуть не поссорились, выясняя, кто именно, Люба или Родислав, виноват в том, что такой чудесный брак дал трещину. Ворон, естественно, отстаивал интересы Любы и с пеной у клюва доказывал, что виноват Родислав, потому что первым начал изменять жене, Камень же твердо стоял на том, что в любой супружеской измене виноваты оба супруга, ибо если один из них ищет чего-то на стороне, стало быть, другой ему этого недодает, и, таким образом, с Любы вину тоже снимать нельзя. Ворон не соглашался, злобно каркал, бил Камня клювом по боку, размахивал крыльями у него под носом, в то время как Камень считал свой подход диалектическим и, как истинный философ, отстаивал свою позицию, апеллируя к различным категориям этики.
Ворон выкричался, охрип и улетел смотреть дальше, а Камень немедленно призвал на помощь Змея.
– Что скажешь? – требовательно вопросил он.
Змей немного подумал, потом подполз поближе и улегся, образовав вокруг Камня толстое зеленоватое переливчатое кольцо.
– Ничего однозначного тебе не скажу. Ты – философ, тебе и решать. Могу только добавить некоторые детали, которые наш когтистый источник информации упустил. Ты его не ругай, он все это видел, ничего не пропустил, просто он у нас с тобой глуповатый и не понимает, какие это важные вещи.
– Например, что? – живо заинтересовался Камень.
– Ну, например, то, что у Любы в ванной полотенца четырех цветов. У Родислава темно-красные, у Николаши светло-зеленые, у Лели розовые. А теперь угадай с трех раз, какого цвета полотенца у самой Любы.
– Голубые, – брякнул наугад Камень.
– Не угадал. Вторая попытка.
– Черные.
– Третья попытка.
– В цветочек! Или в полосочку. В общем, разноцветные.
– Опять мимо. У Любы, мил-друг, полотенца белые. Как в гостинице или в больнице. И это при том, что подружка Аэлла все годы постоянно делает им подарки в виде импортного постельного белья и полотенец, так что этим добром семья обеспечена во всех цветовых вариантах и на долгие годы вперед. Ты понимаешь, что это означает?
– Нет. А что это означает?
– Да то, что она не хочет ничем никому мешать, ничем выделяться, чтобы никого не раздражать. Она даже отказалась от цвета полотенец, чтобы ее цвет, не дай бог, кому-то глаз не резанул. Она старается быть как можно более незаметной в своей семье, не в том смысле, что ее не должны замечать, а в том, чтобы никому не помешать и для всех быть удобной и комфортной. Она стремится ни для кого не быть раздражителем – вот так я бы сформулировал.
– Думаешь? – с сомнением произнес Камень.
Теория Змея показалась ему какой-то, прямо скажем, сомнительной.
– Уверен. Придумай другое объяснение, почему женщина, имеющая в своем распоряжении полшкафа разных полотенец всех мыслимых расцветок и рисунков, выбирает для себя казенный белый цвет. Придумай – и я с готовностью буду его обсуждать. А пока ты думаешь, я тебе еще одну детальку нарисую. Вот ты знаешь, какую музыку Люба любит?
– Понятия не имею. Ворон ничего об этом не говорил.
– Ну еще бы! Наш оперенный корреспондент сам в музыке ни черта не смыслит, поэтому внимания на нее не обращает. Так вот, Люба у нас любит Скрябина, Прокофьева и джаз.
– И что с того? – не понял Камень, который о музыке знал только понаслышке, сам никогда ее не слыхал и слабо представлял себе, о чем могут говорить музыкальные пристрастия людей.
– А Родислав классическую музыку не приемлет вообще, он любит рок и советскую авторскую песню, ну там Окуджаву, Высоцкого, Галича, Клячкина, Кукина, Городницкого и иже с ними.
– А, этих знаю, – обрадовался Камень. – Мне Ворон пел. Со слухом у него, конечно, не так чтобы очень, так что мелодию я оценить не могу, но стихи помню. И насчет рока тоже что-то помню, живьем, само собой, не слыхал, но Ворон рассказывал. Ну так что же?
– А то, что Родислав Скрябина, Прокофьева и джаз на дух не выносит, не понимает, но, как бы сказать… стесняется, комплексует из-за того, что не понимает и не любит, потому что принято считать, что все культурные люди должны любить Скрябина и Прокофьева, а продвинутые должны обязательно тащиться от джаза. А он, понимаешь ли, не любит и не тащится, вот ведь беда какая. Так Люба покупает пластинки с той музыкой, которая ей нравится, прячет в бельевой шкаф и слушает, когда Родислава дома нет. Чтобы он, не дай бог, не начал раздражаться. А при нем делает вид, что ей эти «Зеппелины» и «Юрай Хипы» нравятся, вместе с ним слушает, когда ему приспичит музычкой побаловаться.
– Н-да-а, – протянул Камень озадаченно. – Вот не подумал бы, что у них так далеко все зашло. Это же получается, что Люба себе во всем на горло наступает, только бы быть для всех белой и пушистой, а Родислав и остальные этим пользуются, так, что ли?
– Именно так, – подтвердил Змей. – И только благодаря этому их семья производит на всех впечатление благополучной, а Люба считается идеальной женой.
– Что значит «считается»? – недовольно заметил Камень. – Она и есть идеальная жена. Да, это трудно – наступать себе на горло во всем, но зато это позволяет Любе быть такой женой, о какой мечтает каждый человеческий самец. Скажешь, нет?
– Ну почему же? – усмехнулся Змей. – Скажу твердое «да». Вопрос в том, правильно ли это.
– Что – правильно? Быть идеальной женой? Конечно, правильно.
– Да с этим-то я не спорю. Вопрос в другом: правильно ли иметь такой идеал жены, что женщине приходится давить саму себя, чтобы ему соответствовать. Идеал-то кто придумал? Мужики. В смысле человеческие самцы. Они его под себя придумывали, понимаешь? Создали такую модель, какая им удобна для существования, и внедрили в сознание человеческих самок: дескать, вот вам образец для подражания, а если вы не соответствуете, то и не обижайтесь тогда, что мы вас бросаем и жить с вами не хотим. А женщин они спросили, когда модель свою придумывали, могут ли женщины быть такими? Не спросили.
– Ну, это ты зря. У самок тоже есть свое представление об идеальном самце, и они тоже самцов не спрашивали, удобно ли им быть такими. Просто придумали и начали требовать, чтобы самцы соответствовали, а иначе начинаются скандалы, выяснения отношений и домашняя лесопилка.
– Так в том-то и беда! – воскликнул Змей. – Ты, как настоящий философ, зришь в корень проблемы, только не можешь ее сформулировать. А все потому, что твоя философия оторвана от естественно-научных знаний, она такая, знаешь ли, вещь в себе, ни с чем окружающим не соприкасающаяся. А естественные науки, в частности медицина и особенно наука о мозге, давно уже доказали, что мужчины и женщины устроены совершенно по-разному не только в смысле деторождения, но и в смысле мышления, отношения с миром и эмоционального строя. Мужчины, когда придумывали свой идеал жены, ориентировались только на себя, они и в голову не брали, как на самом деле устроены женщины и какими они могут быть, а какими не могут в принципе. Ту же ошибку допустили и женщины, когда формулировали для себя идеал мужчины. Да вот хоть самый простой пример возьми: самки хотят, чтобы самец был добытчиком, приносил к очагу мясо, но при этом находил время заниматься детенышами и имел физические и душевные силы быть с самкой мягким, нежным и любящим и помогать ей поддерживать огонь в очаге.
– А что в этом плохого, скажи на милость?
– Плохого-то ничего, только оторвано от реалий. Если самец умеет быть добытчиком, это означает, что он жесткий, отважный, грубый, сильный, быстрый и что он тратит на добывание пропитания все свои силы и время. Когда ему детенышами заниматься и очаг поддерживать? Откуда у него возьмутся нежность и мягкость? Если нежность и мягкость, тогда уж не добытчик, а так, мальчик на побегушках. Нежный и мягкий и на детей время найдет, и самке поможет, и ласковое слово ей скажет, но мяса в избытке к очагу уже не притаранит. Одно исключает другое. Понимаешь, о чем я?
– Понимаю, – задумчиво ответил Камень. – Получается, чтобы быть идеальным мужем, самец должен уметь добывать пропитание, а потом прикидываться нежным и мягким, то есть обманывать, так, что ли?
– Ну, примерно. Зато если он на самом деле добрый и нежный, то обманывать и прикидываться добытчиком он уже не сможет. Можно подделать чувства и эмоции, а способности и физическую мощь подделать нельзя, они или есть, или их нет. И вот если доброму и мягкому все-таки приходится притворяться добытчиком, знаешь, что получается?
– Что?
– Он становится шакалом. Пропитание-то надо добыть, а как, если нет ни силы, ни прыти, ни умения, ни жестокости, если не умеет в спину бить и глотку рвать? Значит, приходится воровать или мародерствовать, чтобы жена была довольна. И тысячи нормальных приличных самцов ввязываются в авантюры ради быстрого обогащения, позволяют себя использовать, потом оказываются в долгах или, еще хуже, в тюрьме. Имущество отбирают, семья страдает. А все почему? Потому, что самки придумали принципиально невозможный идеал и требуют, чтобы самцы ему соответствовали. И у самок такая же история: самцы хотят, чтобы в быту самки полностью растворялись в мужьях и ничем их не раздражали, то есть не имели собственной индивидуальности, но в постели чтобы были именно индивидуальны и неотразимы. А как женщина может быть в сексе индивидуальной и неотразимой, если эту индивидуальность ей пришлось в себе затоптать, чтобы, не приведи господь, своему самцу чем-нибудь не помешать? Никак не может. Вот поэтому и получается, что яркие и сексуальные женщины остаются одни, с ними все с удовольствием крутят любовь, но жениться на них никто не хочет, потому что чуют: не станет она давить в себе собственную неповторимость. А покорные и готовые себя затоптать легко находят мужей, только эти мужья очень скоро начинают им изменять с яркими и сексуальными, но при этом разводиться ни в какую не хотят, потому что постель – это одно, а жизнь бок о бок – совсем другое. Вот такой парадокс. Люди сами себе его создали, а теперь мучаются и не знают, как правильно жить.
– А ты знаешь?
– Что?
– Как правильно жить.
– Эх, мил-друг, да кабы я знал, как правильно жить, мне б цены не было, – с горечью произнес Змей. – Вся моя мудрость в том и состоит, что я точно знаю одно: ничего-то я не знаю. Слушай-ка, ты не заболел часом?
Змей плотнее прижался к Камню, на несколько мгновений замер, потом приподнял голову:
– Тебя, по-моему, знобит. И бронхи у тебя забиты мокротой, я слышу. Да ты, брат, простыл! Чем тебя полечить?
– Только Ветром, больше меня уже ничего не берет. Вот если он прилетает из Сахары, тогда мне хорошо помогает.
– Так, может, позвать его? Я знаю, где искать, он мне сказал, когда улетал.
– Да толку-то его искать! – безнадежно выдохнул Камень. – Он в Норвегии с биатлоном балуется, откуда там теплый сухой воздух? Там сырость и холод собачий.
– А что же делать? – огорчился Змей. – У тебя явно начинается бронхит, если немедленно не принять меры, он может перерасти в пневмонию.
– Буду терпеть, – сдержанно, с мужественной скорбью заявил Камень.
– Нет, это нельзя так оставлять, – забеспокоился Змей. – Скажи Ворону, пусть принесет тебе оттуда какое-нибудь средство, у людей полно всяких таблеток и микстур. Да вот хоть горчичники пусть принесет, штучек сто, и облепит тебя. Надо же как-то бороться с бронхитом.
– Нельзя, – строго сказал Камень. – Ничего оттуда приносить нельзя. Ты же знаешь правила. Не дай бог, что-нибудь нарушим, потом хлопот не оберешься. Ну представь, Ворон упрет из аптеки сотню горчичников, никто не заметит, потом придет ревизия, обнаружит недостачу, схватят материально ответственное лицо и в тюрягу упекут. Кому это надо?
Змей отполз на некоторое расстояние, послушал окружающий мир, потом повернул голову в сторону Камня.
– Но ты же можешь сделать так, чтобы никто не пострадал, – осторожно произнес он. – Ты же умеешь.
– Замолчи! – крикнул Камень и уже тише добавил: – Замолчи немедленно. Даже думать об этом не смей. Этого тоже нельзя делать. Мало ли что я умею. Нельзя – и все. Нельзя вмешиваться ни в прошлое, ни в будущее. И вслух никогда об этом не говори, чтобы никто не услышал.
Змей с интересом посмотрел на друга.
– Ты хочешь сказать, что никогда не нарушаешь правила? Никогда-никогда? Вот умеешь изменять реальность, но лежишь тут тихой сапой и никогда не пользуешься этим? Прости, мил-друг, но не верю.
– Ну и не верь, – сердито огрызнулся Камень. – Не больно-то и хотелось.
Это было его большой тайной, состоящей из двух тайн поменьше. Первой, кроме него самого, владели Ворон и Змей: Камень умел изменять реальность, причем в любых масштабах, от жизни маленького комара до исхода грандиозных сражений. Даже Ветру об этом знать не полагалось – разболтает по легкомыслию. А вот второй тайной Камень владел единолично: иногда он все-таки нарушал запрет и кое-что изменял. Так, по мелочи. Когда очень уж хотелось, когда начинало болеть сердце и не было сил терпеть и сопротивляться соблазну. Когда-то давно, еще в далекой молодости, Камень не был таким умным и менял реальность направо и налево, сообразуясь с собственными представлениями о благе и справедливости. И только с годами он понял всю мудрость запрета и стал его соблюдать. Для всех – соблюдать свято. И только он один знал, что все-таки иногда нарушает. Правда, Змей почему-то усомнился… Неужели он, Камень, где-то допустил прокол и дал основания себя подозревать? Впрочем, Змей мудрый и хитрый, он чего не знает точно, о том догадаться может.
Камень не на шутку огорчился. Мало того, что у Любы с Родиславом все плохо, мало того, что бронхит начинается, так еще и Змей что-то заподозрил. Неудачный сегодня день.
* * *
В конце июня Родиславу поручили принять участие в работе над темой, требующей постоянных выездов в командировки: многие сотрудники захотели летом уйти в отпуск, а материал-то собирать надо, никто план научно-исследовательской работы не отменял, вот его и «пристегнули», как «пристегивали» почти ко всем темам, над которыми работал отдел: начальник знал, что майор Романов в сентябре будет поступать в адъюнктуру, поэтому включать его в какую-нибудь тему на постоянной основе бессмысленно, парню просто надо пересидеть несколько месяцев, так пусть помогает другим или выполняет внеплановые поручения.
Он с удовольствием уехал, предварительно договорившись с Лизой, что возьмет, как и полагается, билеты на поезд, которые потом сдаст в бухгалтерию для отчета, а сам вернется самолетом, купив билет на собственные деньги, и явится из аэропорта прямо к любимой. Таким образом, у них будет целых двадцать бесконтрольных часов, которые они проведут вместе, не расставаясь ни на минуту. Родислав подгадал таким образом, чтобы возвращение пришлось на субботу и Лизе не нужно было работать.
Это были упоительные двадцать часов счастья, которые они провели, не вылезая из постели. К вечеру, когда должен был прибыть поезд, Родислав вернулся домой, и вернулся, как всегда, с удовольствием: во время пребывания у Лизы им жаль было тратить время на приготовление еды, они перехватывали бутерброды, запивая их растворимым кофе, да и в командировке кормили отнюдь не разносолами, и он соскучился по настоящей вкусной пище. Кроме того, ему не терпелось рассказать Любе о своих новых впечатлениях, полученных в поездке. Лизе он, конечно, тоже кое-что рассказал, но совсем немного: ей это не было интересно, да и потом, им и без того было чем заняться.
Однако дома, наевшись и перекинувшись с женой буквально несколькими словами, Родислав почувствовал, что его сморило. Он засыпал на ходу. Еще бы, больше суток не спал, сперва отработал день на выезде, потом помчался в аэропорт, летел, ехал к Лизе и у нее тоже глаз не сомкнул. Он устал и смертельно хотел спать.
– Родинька, как же ты измучился в этой поездке, – сочувственно сказала Люба. – Пойдем, я помогу тебе принять душ, а то ты прямо в ванной уснешь. Помоешься – и сразу ложись.
Она отвела его в ванную, заставила сесть в воду, намылила и поливала душем, а он перестал бороться со сном и то и дело задремывал. Потом она вытирала его темно-красным пушистым полотенцем, и Родислав Романов чувствовал себя самым счастливым человеком на Земле. Двадцать часов страстной любви – и впереди покой, прохладная чистая постель, крепкий долгий сон, а затем вкусный сытный завтрак. Хорошо, что завтра воскресенье, и хорошо, что ребята на даче, никто и ничто не помешает ему выспаться. Дача, дача… Наверное, придется завтра ехать за город к детям, повидаться и отвезти продукты. А он так хотел побыть дома!
– Завтра к детям надо… – пробормотал он, засыпая.
– Не надо, я сегодня уже съездила, – донесся голос Любы. – Все купила и все отвезла. Конечно, если ты хочешь…
– Я сплю, – тихо выдохнул он. – Я хочу только спать. Я очень устал.
– Спи, Родинька, спи, мой золотой.
Он мгновенно провалился в сон, успев подумать только о том, как он счастлив.
Следующая командировка не заставила себя ждать, и снова были купленные официально железнодорожные билеты и приобретенный за свой счет билет на самолет, и снова были чудесные, но пролетевшие так быстро часы, проведенные с Лизой. Потом была и третья командировка, потом еще одна, четвертая…
В середине августа Родислав возвращался из очередной поездки, на этот раз из Ленинграда. У него был билет на «Красную стрелу», выезд в 23.55, прибытие в Москву в 8.25 утра. Как и было запланировано, он сел в самолет вечером, закончив работу и отметив командировочное удостоверение, и около полуночи оказался в столице. Телефон Лизы не отвечал, но это Родислава не остановило. Он взял такси и поехал на улицу Маршала Бирюзова, где жила Лиза. Дверь ему никто не открыл. Он несколько раз нажимал кнопку звонка, пока не заметил засунутый в щель между дверью и косяком листочек бумаги. В записке Лиза сообщала, что у нее внезапно заболел отец, живущий в Дмитрове, и ей пришлось уехать к родителям. Там же был и номер их телефона. Но что толку с этого номера, если по нему неоткуда позвонить, кроме как из дому? Номер не прямой московский, а междугородный, областной, из автомата по нему не позвонишь. Родислав крякнул от досады, поразмышлял некоторое время, посмотрел на часы – почти половина первого, и отправился домой. Ему повезло сразу же поймать частника, и он еще успел на последний поезд метро. «Скажу Любе, что устал и соскучился, поэтому поменял билет и прилетел, – думал он по дороге. – Жаль, конечно, что так вышло, но ничего не поделаешь. Люба будет рада, покормит меня, уложит спать, а перед этим мы поговорим. Надо будет обязательно рассказать ей про того питерского подполковника, с которым мы сцепились по поводу секретных документов. Как-то нехорошо мы с ним расстались, кажется, он на меня злобу затаил. Наверное, я был не прав… Во всяком случае, неприятный осадок у меня остался. Расскажу Любе, она как-то так ловко умеет расставлять все по своим местам, что кажется, будто все нормально и ничего особенного не случилось. Эх, черт возьми, жалко, что у нас запрещено двоеженство! У меня была бы идеальная семья с двумя женами: с одной я бы спал, а с другой дружил и растил детей».
Он умел почти всегда и почти во всем находить не только минусы, но и плюсы, и, подходя к своему подъезду, Родислав был уже доволен, что все получилось так, как получилось. По крайней мере, сегодня ему не придется прятать глаза, когда Люба начнет сокрушаться над его усталостью и измученным видом, он явится домой не из постели любовницы, а действительно прямо с самолета. Ну, не совсем прямо, конечно, но и не из постели, и следы усталости на его лице, помятый вид и синева под глазами будут именно от работы в командировке и от жизни в ведомственной гостинице, а не от безудержных любовных утех. Все-таки в том, чтобы приходить домой с чистой совестью, тоже есть своя прелесть!
Он открыл дверь квартиры, зажег свет, сменил ботинки на тапочки и на цыпочках направился в спальню. Темно и тихо, Люба, конечно, уже спит, и надо разбудить ее осторожно, так, чтобы она не испугалась.
После яркого света в прихожей темнота спальни показалась ему кромешной, и первые несколько секунд он ничего не различал, кроме смутного пятна зашторенного окна. Потом глаза адаптировались к темноте, он тихонько подошел к кровати, очертания которой были каким-то не такими… «Да постель же не разобрана! – сообразил Родислав. – Она аккуратно застелена и накрыта покрывалом. Любы здесь нет. Может быть, она спит в детской?» Мысль показалась ему вполне разумной, хотя и слабо аргументированной: зачем спать в комнате детей, если есть спальня? Тем более Лелькина кроватка совсем маленькая, а Колькин диван хоть и достаточно длинный, но слишком узкий для человека, привыкшего к двуспальной кровати. Но где-то же Люба должна спать? Если не в спальне, то в детской или в гостиной, где тоже есть полуторный «гостевой» диван и еще раскладное кресло-кровать.
Но ни в детской, ни в гостиной жены не оказалось. Ее вообще не было дома. «Да она же у родителей! – осенило его. – Ну конечно, она не ждет меня сегодня вечером, я должен приехать только утром, и она планирует встать пораньше и вернуться домой, чтобы приготовить мне завтрак и встретить меня. Правда, странно, что она ничего мне не сказала накануне, я же звонил ей из Питера, но, возможно, желание поехать к маме с папой возникло внезапно, или у них что-нибудь стряслось, как у Лизы. Может, мама Зина прихворнула или Николай Дмитрич. А вдруг что-то с детьми? Моя мама позвонила, и Люба рванула на дачу». При мысли об этом Родислав похолодел. Телефона на даче, естественно, не было, оттуда Клара Степановна звонила с почты, а позвонить туда было невозможно. Что делать? Как узнать, что случилось? Первым порывом Родислава было позвонить Головиным, он уже схватил было телефонную трубку, но опомнился: почти два часа ночи, если Люба мирно спит у родителей и там все в порядке, то он разбудит и переполошит все семейство. А если жена на даче и там тоже все в порядке, то его звонок Головиным ненужную посеет панику. Люба – человек разумный и ответственный, утешал себя Родислав, если бы с детьми что-то произошло и Люба уехала к ним, она обязательно оставила бы ему записку, потому что не могла быть уверена, что сумеет вернуться к его возвращению. Если она записку не оставила, то, стало быть, полностью уверена, что ничто не помешает ей быть дома вовремя, чтобы встретить мужа с поезда. А если она полностью уверена, значит, ничего катастрофического не случилось.
Он поставил на огонь чайник, заварил себе свежего чая, отрезал кусок белого батона, щедро намазал сливочным маслом, положил сверху толстый кусок своего любимого «Российского» сыра и с аппетитом съел бутерброд. Еды в холодильнике было много, но Родиславу лень было заглядывать во все эти кастрюльки, мисочки и судочки и возиться с разогреванием тоже не хотелось, он сделал еще один бутерброд и запил его сладким чаем. После чего разделся и забрался в постель.
Но уснуть не удавалось. В последний раз он спал на этой кровати один, без Любы, шесть лет назад, когда Люба была в роддоме. В командировках ее тоже не было рядом, но это же совсем другое дело! Подсознание давало четкую установку: это командировка, и жены здесь нет и быть не может, так что в поездках Родислав преотлично засыпал один, но здесь, дома, в этой спальне, на этой кровати, он не привык к одиночеству. Он ворочался, то одеяло казалось ему слишком жарким и Родислав отбрасывал его, то он начинал замерзать и снова укрывался до самого подбородка, то ему хотелось пить, то курить. В конце концов он зажег висящее над изголовьем бра и открыл книгу. Сначала показалось интересно, но очень скоро он поймал себя на том, что совершенно автоматически складывает буквы в слова, не вдумываясь в смысл. Встал, снова выпил чаю, покурил. Сна не было.
Наконец ему удалось задремать, но из тревожной полудремы его вырвал донесшийся с улицы через распахнутое настежь окно звук захлопнувшейся автомобильной дверцы. «Люба!» – почему-то подумал он и выскочил на балкон.
Это действительно была его жена. И рядом с ней – красивый молодой человек, который вполне недвусмысленно целовал ее на прощание. Люба погладила его по волосам и скрылась в подъезде, а молодой человек сел в машину и уехал.
«Господи, – с ужасом подумал Родислав, – что это? Что это было? Люба провела ночь у этого парня? Она мне изменяет?!»
И снова накатило «это». Он ничего не соображал, ноги приросли к полу, руки затряслись, подступила тошнота. Он даже не слышал, как открылась входная дверь, и, только увидев Любу прямо перед собой, понял, что она уже здесь.
– Ты дома? – В ее голосе не было ничего, кроме испуганного удивления. – Твой поезд должен прийти только через два часа.
– Я все видел, – выдавил он.
Люба молча сняла платье, накинула легкий пеньюар и вышла на кухню. Родислав услышал, как загремела посуда и полилась вода из включенного крана. Он постарался взять себя в руки и пошел следом за женой.
– Люба, я все видел. Ты мне ничего не хочешь сказать?
– Хочу.
Она обернулась и улыбнулась.
– Нам давно пора поговорить, Родик. Но лучше сделать это не на голодный желудок. Сейчас я приготовлю завтрак, и мы поговорим.
Его затрясло еще сильнее. Что она имела в виду, когда сказала, что им давно пора поговорить? Что этот любовник у нее уже давно и она собирается уйти от Родислава и забрать детей? Или что она давно знает о Лизе? Нет, не может быть, Люба не может ничего знать, он всегда был очень осторожен и предусмотрителен.
Наблюдая за женой, хлопочущей у плиты и накрывающей на стол, он немножко успокоился, уж очень привычной и мирной была картина. И как всегда, на столе появились белоснежные салфетки в старинных мельхиоровых кольцах, фарфоровые голубые с белым сахарница и молочник, и за-шкворчали на сковороде гренки с сыром, колбасой и помидорами, и разнесся по всей кухне запах смолотых в ручной мельнице кофейных зерен. Все было так красиво, так обыденно и так… страшно. Родислава замутило, и он еле успел добежать до ванной.
Завтракали молча, Родиславу кусок не лез в горло, но он мужественно давился и ел, как будто от этого зависела его жизнь. Люба тоже ела мало и медленно.
– Я все знаю, Родик, – наконец произнесла она, глядя ему в глаза. – Я даже знаю, что ее зовут Лизой. Она вчера мне звонила.
– Кто?! – нелепо выкрикнул он.
Как будто и без того непонятно было, кто ей звонил.
– Лиза, – спокойно продолжала Люба. – Она позвонила и сказала, что у нее заболел отец и ей придется ехать к нему в Дмитров. Просила тебе это передать.
– Лиза – наша лаборантка, просто она, наверное, не смогла вчера никому дозвониться, кроме меня, вот и предупредила, что ее сегодня не будет на работе.
Он не мог скрыть облегчения и мысленно хвалил себя за то, что все оказалось так просто и он нашелся, что ответить.
– Родик, какая работа? Сегодня выходной, ты забыл? У тебя с Лизой роман, я давно это знаю. – Люба говорила мягко и, кажется, совсем не сердилась. – Ты больше не любишь меня, ты теперь любишь ее, ну что ж, это жизнь, так случается сплошь и рядом. Ты изменяешь мне уже четыре месяца, и не надо думать, что я ничего не чувствую и не замечаю. Я тоже не храню тебе верность, с недавних пор у меня появился человек, которому я очень дорога и который в меня влюблен. Думаю, влюблен так же сильно, как ты в свою Лизу.
– А ты? – только и мог произнести Родислав.
– Он мне нравится. Может быть, я тоже влюблена, – она слегка улыбнулась, – чуть-чуть. Мы с тобой вместе уже четырнадцать лет, наши чувства ослабели, и это естественно. Мы с тобой должны подумать, как мы будем жить дальше.
Только тут он вдруг сообразил, что не возражает против обвинения в измене, наоборот, вроде как соглашается. Но ведь Люба не может ничего знать точно, не может, не может! Она может только подозревать, но доказательств у нее нет, и вчерашний звонок Лизы ни о чем не говорит, и можно еще посопротивляться и попытаться выйти сухим из воды. Однако Родислав не мог собраться с мыслями, «это» не отпускало его.
– Ты хочешь от меня уйти? – подавленно спросил он.
– Нет. Я очень не хочу от тебя уходить. И не хочу, чтобы уходил ты. У нас дети, и они должны вырасти в полной семье, с отцом и матерью. Лелька у нас очень чувствительная, для нее твой уход будет страшным ударом, от которого еще неизвестно оправится ли она. Ты же знаешь, она из-за сорванного цветочка будет весь вечер рыдать, а когда увидела на улице мертвую птичку, у нее температура поднялась и два дня держалась. Нельзя подвергать девочку такому стрессу. Кроме того, не забывай про папу: развода он тебе не простит. У тебя не будет никакой карьеры, он тебя просто раздавит. Да и мне развод не нужен: после того как папа выгнал Тамару, я у него осталась единственным светом в окошке, и если выяснится, что мой брак неудачен, он этого просто не переживет. В нашей с тобой жизни очень многое завязано на наш брак. Я стою в очереди на машину, но я же не собираюсь ее водить, ездить будешь ты. И меня будешь возить, и детей. Если мы разведемся, ты останешься без машины, а я – без водителя. Нам придется разменивать квартиру и делить мебель, а как? Тем более мы только что купили новую «стенку», год в очереди отмечались. Но это все ерунда, главное – наши дети и наши родители, они не должны пострадать, а они обязательно пострадают, если мы разведемся. Таким образом, развод отпадает.
– А что остается? – глупо спросил Родислав. – Ты хочешь, чтобы я бросил Лизу, и за это ты готова бросить своего красивого мальчика? Думаешь. у нас получится начать все сначала?
– Родинька, милый, я похожа на наивную дурочку? Как мы можем начать все сначала, если ты уже однажды разлюбил меня, а я разлюбила тебя? С этим ничего невозможно сделать. Но мы с тобой не только муж и жена, мы с тобой всегда были друзьями, и это, может быть, самое ценное, что есть в нашей с тобой жизни. А дружба предполагает честность и открытость. Ты готов к честности и открытости?
У него еще есть возможность отступить, она ни в чем его не уличила, ничего не доказала! Но ложь – такая трудоемкая штука, требующая огромного напряжения, а Люба предлагает ему честность и открытость. «Говорить правду легко и приятно», – всплыла из глубин памяти цитата из какой-то книги, но Родислав не смог припомнить, из какой именно.
– Я готов, – вырвалось у него раньше, чем он смог осознать смысл сказанного.
– Тогда я предлагаю тебе договор. Честный договор двух уважающих друг друга людей. Каждый из нас живет собственной личной жизнью. И никто – я подчеркиваю, – никто об этом не знает, даже наши с тобой близкие друзья. Для всех, и в первую очередь для детей и наших родителей, мы остаемся любящей и дружной парой, мы принимаем гостей, проводим вместе отпуск, навещаем родственников и растим Колю и Лелю. Внешне ничего не должно измениться. Вернее, должно стать даже лучше. При этом мы даем друг другу личную свободу, с уважением к ней относимся и покрываем друг друга перед всеми. Ты можешь уходить к Лизе, когда дети уснут, и возвращаться на рассвете, пока они еще спят. Но для всех – ты ночуешь дома. И прекрати эти фокусы с командировками, деньги на авиабилеты ты берешь из нашего общего бюджета, и я как экономист, – она снова улыбнулась. – не могу мириться с таким нерациональным расходованием средств. Мы с тобой будем заранее договариваться и согласовывать графики твоего и моего отсутствия, чтобы ни дети, ни родители ни о чем не догадались. И перестанем друг другу врать. Вот такой договор я тебе предлагаю. Ты согласен?
Конечно, он был согласен! Тошнота и дрожь прошли, и, слушая ровный мягкий голос жены, говорящей такие разумные вещи, Родислав полностью пришел в себя и обрел способность соображать. Какая Люба все-таки умница! Какая она молодец! Никаких скандалов, сцен, слез и упреков. Ну где вы еще видели такую жену? Она предлагает ему ту самую идеальную ситуацию, о которой он в шутку мечтал всего несколько часов назад: у него две жены, с одной он спит, с другой живет и растит детей, и все официально, без лжи и притворства. А еще говорят, что мечты не сбываются!
– Я согласен, – радостно ответил он. – Спасибо тебе, Любаша, ты самая лучшая жена на свете.
Она отвернулась, убирая со стола грязную посуду, и ответила, не поворачивая головы:
– Я знаю.
В ее голосе Родислав не услышал слез, а лица он просто не видел.
– Любаш, а у тебя давно с этим мальчиком?…
– Не очень. С тех пор, как ты прилетел из Сыктывкара.
Она по-прежнему не поворачивалась, стояла к нему спиной и мыла посуду.
– Я приехал поездом, – Родислав машинально все еще пытался солгать.
– Ты прилетел. Ты был настолько рассеян, что выложил на стол все содержимое карманов, в том числе билеты на поезд в оба конца и свой паспорт с вложенным в него билетом на самолет. У нас в тот день была в гостях мама, она полюбопытствовала и задала мне вполне законный вопрос: зачем тебе для двух поездок целых три билета? Я в твоих вещах и бумагах не роюсь, ты же знаешь, но мама у меня женщина простая. Мне нужно было быстро что-то сообразить и ответить. Уж не помню, как я ее успокоила, но я-то все поняла. Я и раньше догадывалась, а с того момента знала уже точно. Олег давно за мной ухаживал, а после Сыктывкара я ему уступила. Мне захотелось почувствовать себя на месте твой возлюбленной, мне захотелось быть любимой и желанной, такой, какой я для тебя никогда не была. И хватит об этом.
У него пересохло во рту, пришлось налить из графина яблочный сок и сделать несколько больших глотков.
– И как? Удалось почувствовать?
– Надеюсь, что да. Я же сказала: хватит об этом. Честность и открытость должны иметь свой предел. Мы не лжем друг другу, но и об интимных подробностях не распространяемся, хорошо?
– Конечно, конечно, – торопливо согласился Родислав. – А давай сегодня на дачу съездим? Я по ребятам соскучился.
– Давай. Сейчас закончу уборку – и поедем.
Они зашли в магазин, накупили продуктов и сладостей для детей и Клары Степановны, провели за городом целый день, Родислав сходил с сыном на рыбалку, Люба научила Лелю шить юбочку для куклы, вечером они вернулись в Москву и на часок заглянули к Головиным, где Родислав поговорил с тестем о проблемах МВД и о судебных процессах над Филатовым и Щаранским, обвиняемыми в измене Родине, а Люба поболтала с матерью о детях и – тихонько, тайком, уединившись на кухне – о Тамаре, которая, кажется, была очень счастлива со своим Григорием, только, к сожалению, пока не беременна.
Люба и Родислав вернулись домой поздно вечером, ощущая за спиной субботу, прожитую так, как проживают выходной день счастливые супружеские пары. Оба они понимали, что это было первым днем их новой жизни, такой непохожей на прежнюю.
* * *
– Так они и протянули пару месяцев, до середины октября примерно. Как тебе это нравится? – В голосе Ворона явственно слышался клекот возмущения.
– Мне это совсем не нравится, – ответил Камень. – Что это еще за договор такой? Тоже мне, ревнители свободных нравов и блюстители интересов родителей. Они что, на полном серьезе эту хрень затеяли?
– В том-то и дело, что на полном, – заверил его Ворон. – Предоставили друг другу свободу в личной жизни. Моя Люба-то не очень злоупотребляет, не чаще, чем раз в неделю к Олегу ездит по ночам, а твой Родислав – тот прямо разохотился, буквально через день к своей Лизавете шныряет. Дождется, когда дети уснут, – и был таков. А к семи утра обратно возвращается. Люба специально будильник ставит на половину седьмого, тихонько встает и дверь ему изнутри открывает, а то у них такой замок громкий, если ключом открывать, – на всю квартиру слышно. Черт знает что! И между прочим, твой Родислав как с цепи сорвался, мало того, что он через день у Лизы ночует, так он еще и проболтался ей про договор, придурок! Ведь просила же его Люба никому не говорить! Так нет, язык за зубами не держится.
– Но он же должен был как-то объяснить Лизе, почему он теперь может у нее ночевать, – заступился за Родислава Камень. – Она ведь не полная дура.
– Может, и не полная, а только она восприняла это как твердое обещание жениться. По ее мнению, от такого договора до развода один шаг, да и тот совсем крохотный. Родислав-то впрямую про развод ничего не говорит и жениться на Лизе не обещает, но объяснил ей, что зависит от тестя и не должен его сердить. То есть вроде как бы сказал, что рядом с женой его ничто не держит и он женился бы на ней с удовольствием, если бы не тесть. А поскольку Николаю Дмитричу на будущий год шестьдесят стукнет и он вполне может выйти в отставку, Лиза и обрадовалась, что тесть Родислава останется не при делах, на карьеру зятя влиять не сможет и тогда можно будет разводиться и снова жениться. Вот такие у нее планы.
– Это точно? – усомнился Камень. – Сам слышал?
– Сам, сам, – подтвердил Ворон. – Она с Родиславом об этом сколько раз говорила! А он в ответ ни «да», ни «нет»… О, в рифму получилось. Я же понимаю, он влюблен по уши и не хочет ее разочаровывать, хотя умом-то понимает, что вряд ли тесть в шестьдесят лет на пенсию отправится, он еще полон сил, да от такой власти, от такой должности разве кто добровольно отойдет? Не-ет, наш генерал-лейтенант Головин еще послужит, еще крови-то попортит подчиненным. А Лиза уже о ребенке подумывает.
– Как?! – ахнул Камень. – Она от Родислава рожать собралась?
– А то, – гордо объявил Ворон. – Чего ей ждать-то? Возраст подходит, ей двадцать семь уже стукнуло, пора. И потом, она надеется, что, если будет ребенок, Родислав быстрее подвигнется в сторону развода. Старые женские штучки!
– А он что? Возражает против ребенка или соглашается?
– Так она что, спрашивать его будет, что ли? – фыркнул Ворон. – Она его перед фактом поставит, когда уже ничего нельзя будет изменить. Плавали, знаем.
– Ну зачем ты так… Может быть, она его по-настоящему любит.
– Так кто ж спорит-то? – Ворон взмахнул крылом, очертив в воздухе загадочную фигуру. – Любит, конечно. И замуж за него хочет. И детей от него хочет. Только знаешь что я тебе скажу, метеорит ты мой самозваный? Ей ребенок нужен только для того, чтобы Родислава привязать к себе покрепче. Она детей вообще-то не любит, они ее раздражают. Но Родислава она любит так сильно, что готова даже на ребенка, только бы он на ней женился. Это она с подружкой разговаривала, а я подслушал.
– И неужели никто из окружающих не догадывается, как Люба с Родиславом на самом деле живут?
– Не-а, – Ворон мотнул черной головой. – Ни одна живая душа, кроме Лизы и Олега. Эти-то понимают, что если их возлюбленные могут по ночам так свободно приезжать, то не все спокойно в Датском королевстве. А больше никто.
– Ладно, с Лизой мне все более или менее понятно. А с Олегом что? Он тоже на развод надеется?
– Нет, куда там! Зачем ему жена с двумя детьми? Он живет себе припеваючи в отдельной квартире, без родителей, наслаждается свободой, на фиг ему вообще какая-то жена нужна?
– Так что же он, Любу не любит, что ли? Слушай, ты так рассказываешь – ни черта не разберешь! – рассердился Камень.
Ворон перелетел с ветки на ветку, чтобы оказаться поближе к Камню, но при этом не пачкать лапки в размокшей от дождей земле.
– Вот как ты есть философ, а не романтик, так ничего в людях и не понимаешь. По-твоему, если секс – значит, любовь, а если любовь – так непременно чтобы жениться. Это только в твоей философии все так ладно да гладко получается, а жизнь – она сложнее и многообразнее, – важно заявил он. – У людей секс вообще не всегда связан с любовью, это разные вещи, а любовь не всегда связана с браком, это тоже разное. Олег мою Любу хочет как самец, понимаешь? Он горит весь, пылает, умирает – до того она ему нравится. Спать с ней он хочет, что есть, то есть, а связывать себя брачными узами он вовсе и не торопится. Он еще не нагулялся. В общем, для тебя это сложно, ты не вникай, ты слушай, чего я тебе рассказываю.
– Нет, погоди, – остановил его Камень. – Как это – не вникай? А Люба? Она Олега этого любит или нет?
– Да ну нет же! – Ворон начал раздражаться. – Она любит не Олега, а то ощущение себя женщиной, которое он ей дарит. С Родиславом у нее такого ощущения не было, они просто с детства дружили себе, дружили, дружили, потом случайно переспали, вроде все получилось неплохо, так чего ж не пожениться? Вот и поженились. Они в том возрасте про настоящий секс вообще ничего не знали, думали: так, как у них, все и должно быть. Потом, с годами, Родислав кое-чего понял, пока с секретаршами развлекался, а Люба-то вообще ничего не понимала, пока Олега не встретила. Между прочим, если хочешь знать, Олег не очень хороший любовник.
– А ты откуда знаешь? Ты же не подсматриваешь. – Камень прищурился и недоверчиво глянул на друга. – И слышать ты ничего не мог, Люба о таких вещах никому рассказывать не стала бы.
– Я и не подсматриваю. – Ворон смущенно потупился. – Но уши-то у меня есть. И заткнуть мне их нечем, пальцев нет. Я отворачиваюсь, чтобы ничего не видеть, и жду, когда они наиграются и разговаривать начнут. Вот и слышу.
– И что же ты слышишь?
– А то и слышу, что Олег за пять минут сгорает, как фитилек. Родислав-то горит долго, со вкусом, а этот – фьюить! И готово. Никакого сравнения он с Родиславом не выдерживает. Да Любе от него этого и не надо, ей надо, чтобы смотрел, как Олег, чтобы дрожал весь, чтобы хотел. А это он ей предоставляет в изобилии. Он душу ей тешит, а не тело, понял, наконец?
– Вот теперь понял. Можешь же объяснять, когда хочешь. А кстати, ты что-то про Аэллу забыл, а про Андрея Бегорского я вообще уж и не припомню, когда ты рассказывал.
– А я знал, что ты спросишь, знал, знал! – Ворон запрыгал на ветке, отчего на Камня посыпались мелкие холодные капли. – Я специально ничего не говорил, потому что Ветра пока нет, хотел при нем рассказать. Но если ты настаиваешь…
– Я настаиваю, – строго велел Камень. – Я требую полноты информации. Ветер наш пока еще прилетит! У него Кубок мира по биатлону, а это долгая песня, там же несколько этапов. И вообще, кроме биатлона, есть еще масса всяких видов спорта, где Ветру можно разгуляться, так что он неизвестно когда появится.
– Ну, тогда слушай. – Ворон принял вид таинственный и заговорщический. – Аэлла, оказывается, периодически звонит Андрею и приглашает в гости. Представляешь?
– Ну и что? – удивился Камень. – Они друг друга с детства знают. Что в этом такого?
– Ой, лопух ты замшелый, ой, валун ты неотесанный, – запричитал Ворон. – Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Аэлла звонит Андрею и приглашает в гости.
– Да все я слышу. Я только не понимаю, что тут особенного.
– Ты что же думаешь, она его чай пить приглашает?
– А что, коньяк?
– Вот дурень, ну дурень же ты, Каменюка, каких свет не видел! Она его в койку приглашает! Понял?
– Не может быть!
Камень вытаращил глаза и уставился на Ворона.
– Ты меня разыгрываешь?
– Да больно надо! Вот как бог свят, век воли не видать. Значит, слушай сюда: как только у Аэллы заканчивается очередной роман, она немедленно звонит Андрею и говорит, что у нее плохое настроение и ей хочется развеяться. Андрей приезжает и развеивает ее. И все. Никаких встреч, никаких романтических отношений, он ей цветов не дарит и подарки не делает. И слов, соответственно, ласковых не говорит.
– Ничего не понимаю, – Камень наморщил лоб. – Это у людей как называется? Любовь? Секс? Похоть? Я и слова-то подобрать не могу к тому, что ты рассказал.
– Это называется «общение в форме секса».
– Не слыхал про такое. Ни в одной книжке про это не написано.
– Еще бы! Это я сам придумал в ходе многолетних наблюдений за человеческими особями. У них есть общение в форме разговора, в вербальном, так сказать, виде, есть общение в форме совместных занятий, например пение в хоре, туризм, рыбалка, охота, а есть общение в форме секса, когда люди занимаются сексом не потому, что у них гормон играет и им надо физиологическую нужду справить, а потому, что они так общаются. Аэлле, например, нужно после каждого разрыва с любовником почувствовать, что она еще ого-го, что есть еще мужики, которые ее хотят и прибегают к ней по первому зову, по первому свистку. Для этого у нее есть Андрей Бегорский, который никогда не отказывается, с удовольствием приезжает и демонстрирует ей, что она ого-го и ее хотят.
– А ему-то это зачем надо? Он ее действительно хочет или он тоже общается?
– Ну, он ее с юности хочет, это ни для кого не секрет, в том числе и для самой Аэллы Константиновны. Но тогда, в юные годы, он понимал, что Аэлла для него недосягаема, и терпеливо ждал. Помнишь, он как-то сказал: сама прибежит, никуда не денется. И действительно, сама прибежала. Внешне, конечно, это выглядит так, что он к ней прибегает, а не она к нему, но поскольку она его зовет, то фактически получается, что Андрей был прав. Прибежала, никуда не делась. У Андрея бурная личная жизнь, женщины за ним табунами бегают, о женитьбе он и не думает пока, вернее, думает, но все никак не найдет такую, на которой захотел бы жениться. А если б нашел, так хоть завтра в загс, он за свою свободу не держится. И детей он хочет. Так вот, когда Аэлла его зовет, он с удовольствием приезжает, немедленно укладывает ее в постель, а потом они мирно попивают винцо и беседуют о жизни. Ой, ты бы слышал, как Андрей с ней разговаривает! Если бы он в юности посмел так с ней разговаривать, она бы его на километр к себе не подпустила. Подшучивает над ней, чуть ли не издевается, а она все терпит.
– Почему?
– Ну а как же? Если не будет терпеть, если выгонит его, то кто же ей в следующий раз будет доказывать, что она ого-го? Бегорский ведь до сих пор единственный, кому она спускает с рук, что он называет ее Алкой, а не Аэллой. Ни одному человеку не позволяет, а ему разрешает. Морщится, но терпит.
– И часто ее любовники бросают?
– Аэллу-то? Да регулярно. И знаешь, в чем парадокс? И красивая она, и яркая, и богатая, и знаменитая, а ведь ни одного своего мужика она сама не бросила. Все ее бросают, что мужья, что любовники. Интересно, правда?
– Да, любопытный феномен, – не мог не согласиться Камень. – А почему?
– Да кто ж его знает! Я за Аэллой не слежу в подробностях, не она же у нас главная героиня. Так, по случаю залетаю на нее глянуть или вижу, когда она в гости к Любе с очередными подарками приходит. Я тебе голые факты докладываю, а в причинах ковыряться у меня возможностей нету, я ж не могу разорваться – и за Любой с Родиславом смотреть, и за Аэллой, и за Андреем. Вот если бы они постоянно вместе тусовались – тогда другое дело.
«Ничего, – подумал Камень. – Спрошу у Змея, он наверняка все знает, а если и не знает, то сползает посмотрит». А вслух произнес:
– Тогда давай про Любу с Родиславом.
* * *
Люба возвращалась домой от Олега на метро. Она почти сразу, после нескольких первых недель, отказалась от того, чтобы оставаться у него на ночь, и договаривалась с Родиславом, что он не будет задерживаться на работе, а она вернется часов в одиннадцать. Если дети или родители будут спрашивать – она у подруги. Ей не нравилось ночевать у Олега, она не видела в этом никакого смысла, потому что сексуальная составляющая этих встреч не требовала так много времени, а больше делать вместе им было нечего. После первого месяца угара Люба обнаружила, что ее любовник глуповат, мало читал, и разговаривать с ним было не о чем. Ну, можно было посплетничать о сотрудниках планово-экономического отдела или отдела снабжения, но ведь этим можно заняться и на работе, в курилке, например, или в столовой во время обеда, можно было обсудить посмотренную по телевизору передачу, но ведь для этого надо было как минимум вместе посмотреть телевизор. Иногда они это делали, но каждый раз Люба ловила себя на мысли о том, что рисковать спокойствием детей и родителей ради того, чтобы просидеть час или два у экрана в чужой квартире, это такая глупость, что даже страшно становится. Телевизор можно смотреть и дома, вместе с мужем и детьми. Что ей давали эти встречи? Ничего, кроме удовлетворенного самолюбия. Но и это немало.
Во всяком случае, на ночь оставаться она перестала. Перед выходом из квартиры Олега она, как обычно, позвонила домой, узнала, все ли в порядке, и сказала, что через час приедет. Первую половину пути домой Люба проделала в приподнятом настроении, которое всегда охватывало ее при виде восторженных и жадно горящих глаз Олега и которое держалось довольно долго, если удавалось правильно уловить момент и вовремя уйти, не дожидаясь, пока его общество наскучит ей и начнет тяготить. На середине пути, однако, ее охватила неясная тревога, которая непонятно откуда взялась и так и не отпустила до самого конца, пока она не вошла в свою квартиру. Родислав встретил ее не в домашнем спортивном костюме, а полностью одетый. «Он хочет поехать к Лизе, – подумала Люба и удивилась тому, что ревность так и не оставила ее. Несмотря на договор и его джентльменское соблюдение, несмотря на Олега, несмотря ни на что – ей было неприятно. – В самом деле, зачем ему терять целую ночь, если я уже дома, а дети спят. Имеет право».
– Уходишь? – спросила она как можно равнодушнее.
– Люба, мама в больнице, – срывающимся голосом сказал он.
– Клара Степановна? Что с ней?!
– Твоя мама. Ее увезла «Скорая». Николай Дмитриевич поехал с ней. Ты не раздевайся, я уже вызвал такси, сейчас мы тоже поедем.
Люба почувствовала, как подгибаются ноги.
– Что с ней? – с трудом двигая губами, спросила она.
– Врачи со «Скорой» сказали, что точно можно будет сказать только в больнице, но по всей симптоматике похоже на большой камень в желчном пузыре. Если это действительно так и если камень сдвинулся, то необходима экстренная операция.
– А как же дети? – беспомощно пролепетала она.
– Коля уже достаточно взрослый, чтобы побыть с Лелькой. Я его разбудил, все объяснил, и он пообещал, что будет караулить сестру, чтобы она не испугалась, что нас с тобой нет дома. Пойдем.
Такси уже стояло у подъезда. Они уселись рядом на заднее сиденье, и Люба знакомым жестом взяла Родислава за руку, как привыкла делать с давних пор в минуты волнения, напряжения или тревоги. Взяла – и тут же собралась отдернуть. Теперь они чужие, теперь они только делают вид на людях, что по-прежнему близки, а здесь, в темноте салона, за спиной у незнакомого таксиста, притворяться незачем. Но Родислав крепко ухватил ее руку и не отпускал всю дорогу до больницы.
– Я совершенно растерялась, – тихонько призналась ему Люба. – Помнишь, когда-то давно я тебе говорила, что, если бы с моим папой случилась беда, я бы растерялась, а ты пришел бы мне на помощь и сделал все как надо.
– Помню.
– Ты мне тогда не поверил.
– Это правда, – он негромко рассмеялся, – я тебе не поверил. Хотя поверить очень хотелось. Ты была так убедительна!
– Теперь ты видишь, что я была права. Ты и машину вызвал, и Колю организовал, а я к месту приросла и собралась в обморок падать. Спасибо тебе.