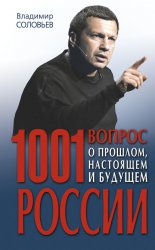Глобальный мир и геополитика. Культурно-цивилизационное измерение. Книга 1 Левяш Илья

Рецензенты:
доктор политических наук, профессор, В. А. Мельник
доктор философских наук, профессор, В. Ф. Мартынов
Введение
В монографии «Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное измерение» рассматривается междисциплинарная проблематика синтеза геополитики и глобалистики на их культурно-цивлизационных основаниях и в результате – формирования такого инновационного направления социогуманитарного знания, как геокультуральная глобалистика.
Работа состоит из объединенных в двух книгах девяти частей. Первая книга включает в себя пять частей.
Часть I «К синтезу метазнания о глобализации и геополитике» посвящена диалектике развития и прогресса, геоглобального хронотопа и в этом свете – методологическим основаниям геоглобалистского знания.
В части II «Современность как проблема глобализации» внимание акглобализации» акцентируется на реализации парадигмы геокультуральной глобалистики в анализе и оценке Модерна как «незавершенного проекта». С этой точки зрения воспроизводятся альтернативные модели постиндустриального, пост-модерного и информационного общества, выясняется соотношение понятий интернационализации, интеграции и глобализации, и предлагается смысловая формула глобализации.
Часть III «Структура глобализации в системно-синергийной оптике» представляет собой морфологическую картину планетарного процесса, в ко тором вычленены такие компоненты, как миросистема и сети, регионализация и глокализация, а также основные сферы процессса.
В части IV «От геополитики к геоглобалистике» дан краткий экскурс в предысторию геополитического знания, рассматриваются судьбы имперских проектов и Nation State в условиях глобализации.
В части V «Великие дилеммы Европы» рассматриваются проблемы региональной структуризации Европы, дифференциации ее центральноевропейской подсистемы, дилеммы евразийского содержания и европейской сущности России, смысл инновационного концепта «триединая Европа».
В тексте используется аббревиатура журналов: «Беларуская думка» – БД, «Вестник Европы» – ВЕ, «Вопросы философии» – ВФ, «Иностранная литература» – ИЛ, «Литературная газета» – ЛГ, «Лiтаратура i мастацтва» – ЛiМ, «Мировая экономика и международные отношения» – МЭиМО, «Международный журнал социальных наук» – МЖСН, «Международная жизнь» – МЖ, «Московские новости» – МН, «Независимая газета» – НГ, «Общественные науки и современность» – ОНС, «Свободная мысль» – СМ, «Социально-гуманитарные знания» – СГЗ, «Социально-политический журнал» – СПЖ, «Россия в современном мире» – РСМ, «Россия в глобальной политике» – РГП, «Современная Европа» – СЕ, «Философские науки» – ФН.
Книга адресована студентам, магистрам, аспирантам, преподавателям учебных курсов социальной философии, политологии и культурологии, а также всем субъектам, вовлеченным в процесс глобализации и регионализации мира.
Часть I
К синтезу метазнания о глобализации и геополитике
1. Концепт «развитие» как принцип постижения глобализации
1.1. Метапроблема «развития». «Есть ли у крота зрение?»
«Думается, что основная задача… в том и состоит, чтобы изобразить человека в его соотношении со временем, показать, в какой мере время было ему враждебно и в какой благоприятствовало, как под воздействием времени сложились его воззрения на мир и на людей…»
И. В. Гете
«Если мы не знаем точных значений используемых нами слов, мы не можем ожидать какой-либо пользы от наших дискуссий»
Л. Витгенштейн
Для начала – мысленный эксперимент. В далеком XIII в. два мыслителя – doctor universalis Альберт Великий и его ученик, впоследствии св. Фома Аквинский, во всеоружии схоластических аргументов спорили во дворике Парижского университета по вопросу: есть ли у крота зрение? Диспут затянулся до заката, и его невольный свидетель, бывший неподалеку садовник, заметил, что мог бы выяснить истину, предъявив одного из кротов в саду. Но оппоненты вразумили доброхота тем, что есть ли у крота зрение – вопрос принципа, а не эмпирического наблюдения.
Возможно, наши диспутанты, перенесенные машиной времени в начало XXI века, спорили бы по вопросу о том, существует ли в современном мире такой феномен, как глобализация. Но теперь к их услугам было бы множество «садовников», готовых предъявить тьму аргументов pro и contra.
Одни из исследователей утверждают, что «глобализация – термин, который должен занять ключевое место в лексиконе общественных наук» [Гидденс, 1999, с. 113], и он обозначает инновационный и ключевой процесс нашего времени. Такое долженствование, даже при условии его адекватности реалиям, не может быть принято на веру и требует обоснования.
Другие авторы склонны полагать, что «ничто не ново под Луной», и глобализацию следует исчислять масштабом… тысячелетий. Обсуждая проблему глобального лидерства, Дж. Модельски отмечает, что «оно охватывает только часть проблемы и не дает ответа на более общие вопросы, которые необходимо задать, чтобы осмыслить процесс в целом… Исследование, способное проникнуть в суть вещей, … должно ставить вопросы относительно природы всего процесса… развитие человечества должно анализироваться в целом, поскольку с момента зарождения последнего на Среднем Востоке 5 тысяч лет тому назад этот процесс демонстрирует существенное однообразие. Но было бы ошибочным считать данный процесс полностью однородным, так как он распадается на крупные эпохи и фазы».
В итоге «мы придем к трехчленной классификации «эр глобальной системы», протяженностью порядка 450–500 лет каждая: (1) эра евразийского транзита, начавшаяся около 930 г.; (2) западноевропейская эра (примерно с 1420 г.); (3) постзападноевропейская эра (приблизительно с 1850 г.) (курсив мой – И. Л.)» [2005, с. 124, 125, 126].
Такие крупномасштабные обобщения основаны на аксиоме «развития» как не требующего обоснования «первотолчка» и perpetuum mobile. Напротив, в российской политологии характерна апелляция к проблемному характеру концепта развития в дискуссиях о феномене глобализации. Н. Косолапов предлагает рассматривать проблему в контексте ответа на центральный вопрос: «Что такое мировое развитие и как, то есть откуда и куда, оно шло в XX веке?… Современная наука переосмысливает концепцию развития (впрочем, не отрицая самого факта развития) и пока не готова дать определение этому явлению, которое отвечало бы новейшим представлениям» (2000). В априорном признании развития, как «факта», конечно, есть уступка аксиоматике его смысла, хотя никаких «фактов» в социуме, как субъектно-объектной реальности, не существует, и она представляет собой совокупность артефактов [Левяш, 2004, с. 17].
Верно отмечено, что «в отсутствие концепции или гипотезы если не мирового развития, то хотя бы взаимосвязи всемирной истории и текущих международных отношений их место занимает идея «крупномасштабных исторических перемен» (largescale historical change). Это именно идея, так как ее сторонники не идут дальше констатации факта перемен и их взаимосвязи с международными и межгосударственными отношениями. Определение самих перемен остается интуитивным. Тем самым в обоих случаях проблема развития как эволюции социального мира, подчиняющейся неким сквозным закономерностям, по сути, снимается».
Не решают проблемы и представители системного подхода, которые «не считают доказанной идею закономерности социально-исторического развития, а потому отказываются ее признать даже как гипотезу». Вопрос же о глубинном основании такого отказа не выяснен. А оно заключается в том, что классический системный подход сводится к «безлюдному» структурализму, который в принципе не нуждается в апелляции к субъекту.
Справедливо отмечается, что «в концепции изменений сделан упор на мироформирующие волю и активность человека, что роднит эту концепцию с марксизмом». Но его презентация автором завершается заимствованным из псевдомарксистских талмудов утверждением, что «классический марксизм полагал развитием последовательный переход отдельных стран, народов и человечества в целом от низших социально-экономических формаций к высшим». Естественно, в такой интерпретации «проблема мирового развития не укладывается в рамки ни одной из концепций» и требует синтеза.
Н. Косолапов постулирует свое понимание проблемы. «По-видимому, развитие (в том числе и мировое) есть процесс и результат становления некой ранее не существовавшей системной целостности; долговременного, отчетливо выраженного качественного усложнения подобной целостности или же такого неслучайного ее распада, который служит одновременно и предпосылкой, и самим процессом, ведущим к становлению на ее месте новой целостности… Международные отношения и международная жизнь оказываются той сферой, в которой прежде всего материализуются потенциальные возможности мирового развития. И если вплоть до середины XX века мировое развитие означало формирование и смену систем международных отношений и их субъектов, то с появлением тенденций к становлению единого целостного мира в содержании мирового развития все заметнее компоненты, связанные с практической и политической организацией этой целостности.
В рамках такого понимания мирового развития в его взаимосвязи с функционированием и развитием систем международных и межгосударственных отношений наиболее существенны три момента: 1) идея цикличности развития, предполагающая возможность и, более того, высокую вероятность временных откатов в его ходе; 2) различение структурного и эволюционного аспектов мирового развития и признание значения первого не в ущерб роли второго; 3) постановка проблемы социального времени, в котором (в отличие от хронологического) на передний план выходит внутреннее время системы: цикличность, ритм, темп ее функционирования и развития, а также предельное число жизненных стадий, отводимых системе ее собственной природой» [Косолапов, 2000].
Изложенная интерпретация проблемы развития достаточно представительна. Она совпадает с поиском современной «повестки дня» в контексте «крупных трендов» мирового развития, его структуры (Соловьев) и концентрируется вокруг трех вопросов, связанных с глобальными тенденциями. Первый – о базовых целях мирового сообщества, второй – о механизмах достижения этих целей, третий – круга субъектов, участвующих в выработке ключевых мирополитических решений. «С нормативной точки зрения вопрос о целях является наиболее важным. В его основе – поиск синтетической интерпретации категории «развитие»… Главное следствие концептуальных исканий… развитие перестает быть категорией, экономической по своему содержанию. В этом – и слабость, и сила оформляющегося подхода к пониманию развития» [Мировая…, 2005, с. 72].
Основные затруднения в современном понимании развития Ю. Красин усматривает, с одной стороны, в том, что «из противоречий переходной эпохи рождается теоретический экстремизм. Это либо постмодернистский релятивизм с его отрицанием «больших смыслов», либо фундаменталистский догматизм (в России – советский вариант псевдомарксизма)». С другой стороны, «нынешний кризис общественной мысли – сигнал, побуждающий задуматься о самой возможности воспринять… действительность достаточно полно и адекватно в рамках одной какой-либо традиции, будь-то либеральная, социалистическая, консервативная или какая-либо другая… Современное видение мира формируется в процессе взаимодействия разных теоретических традиций и подходов… Оно вряд ли вообще возможно как целостная и непротиворечивая теория» [Актуальные…, 1999, с. 44, 45].
Такой скепсис в представлениях о глобализации напоминает ситуацию с Вавилонской башней, и не только метафорически, но и буквально. Источники такой ситуации можно свести к трем позициям. Либо это преимущественно фрагментарное, «партийное» (лат. partia – часть) рассмотрение глобализации под углом зрения «любимых идей каждого философа» (Энгельс), в особенности если они – Пиндары современного экономцентризма. Либо «сегодня… гораздо больший акцент делается на стратегиях и моделях развития в духе «холистического подхода к выживанию»: дебаты по развитию ныне во многих отношениях экологически сориентированы» [Клингебиль, 2000, с. 201]. Наконец, происходит имплантация глобализации в контекст мирового развития, которое понимается в преформистском духе как развертывание «существенного однообразия» (Модельски).
Таким образом, налицо отсутствие уже не семантико-семиотического консенсуса, а хотя бы приемлемого компромисса. В любом из вариантов методологически исходный для постижения глобализации концепт развития и производного от него мирового развития остается метапроблемой.
1.2. Концепт «развитие»: целостность признаков
«Фалес: Пленись задачей небывалой, // начни творенья путь сначала…Меняя формы и уклоны, // пройди созданья ряд законный, – // до человека далеко. Протей: Не думай только, диво эко, // догнать в развитье человека, // а то все кончено с тобой»
И. В. Гете
Имя концепции, представленной Гете устами воображаемых Фалеса и Протея, – натурфилософия. Она безотносительна, «далека» от уникальности человека и лишь включает его в эволюционный ряд, уподобляя движению атомов, в лучшем случае – эволюции биоты. Приступы такой позитивистской редукции всякий раз наступают с триумфами естественнонаучного и технического знания, которое еще не прошло верификацию социальными реалиями. Фордовского конвейера оказалось недостаточно, и понадобились Хиросима и Освенцим, чтобы свершилась «переоценка ценностей» натурфилософии.
Яркий представитель процесса превращения Савла в Павла – П. Сорокин. Он отдал щедрую дань «базовым инстинктам», но, в конечном счете, отверг все разновидности натурализма и вернулся к принципу гуманизма. С ним, писал он, несовместимы «либидо Фрейда, экономические факторы Маркса, «реликты» Парето и многое другое. Человеческая история (в их интерпретации – И. Л.) оказывается ничем иным, как постоянным взаимодействием космических лучей, солнечных пятен, климатических и географических изменений, биологических сил, стимулов, инстинктов, условных и безусловных пищеварительных рефлексов, физико-экономических комплексов… Сам же человек как воплощение надорганической энергии, мысли, совести, сознания, рациональной воли играет незначительную роль в разворачивании этой драмы. В наших «научных» изданиях его оттеснили за кулисы, чтобы он был игрушкой в руках слепых сил… он всего лишь марионетка… Человек падает с величественного пьедестала абсолютных ценностей» [1992, с. 483].
Проблема не в том, чтобы пренебречь генетическими и функциональными аспектами «первой» – космической – природы человека, а в том, чтобы не редуцировать детерминанты этой природы до «космических лучей» или «биологических рефлексов» и рассматривать космическую эволюцию человека во взаимодействии с его «второй», социальной природой и «третьей», ценностно-смысловой природой [Левяш, 2004, гл. I].
В контексте такого объективного триединства объяснение эволюции человека в мире и мира человека, естественно, требует философского и общенаучного инструментария – понятий «качественных изменений», их «системного характера», «синергии», и т. п. Однако это необходимые, но все же несамодостаточные абстракции, если необходимо выявить «лица необщее выражье», или уникальность развития человека и его мира.
Искомая уникальность характеризуется совокупностью признаков, и определяющим среди них является разнонаправленность. Отец диалектики Гераклит утверждал: «Как гармония лиры, будучи проста в явлении, непроста в составе, так и мировой процесс представляет собой только единство множественного, согласие разногласного, или противоположного» [Цит. по: ВФ, 1989, № 6, с. 97]. В эмпирическом опыте это далеко не всегда заметно: «значительное видится на расстоянии». А повседневность, в которую погружен человек, на первый взгляд, незначительна. Она погружена в «одноплоскостное развитие» — многообразные и локальные в своем хронотопе процессы, подобные движению стрелок на циферблате часов. Однако такова «кажимость». Этот феномен связан с особенностью структурно сложных объектов/процессов – их реально разнонаправленной многокачественностью, постепенным развертыванием в пределах основного качества. Не оперируя этими концептами, невозможно объяснить этапные и тем более эпохальные сдвиги, в том числе последний из них – феномен глобализации в современном обществе.
В конечном счете, основные векторы направленности и одновременно типы развития общества – движение вперед и вспять, прогресс и регресс. Но для древнего и средневекового человека мир еще представал в натурфилософской картине естественного круговорота (библейское «Время сеять и время пожинать», «Время войны и время мира»). Как категории социального познания, прогресс и регресс появляются лишь в Новое время.
И. Валлерстайн отмечает, что в эпоху Просвещения «идея прогресса стала основой исследования всемирной истории и краеугольным камнем всех теорий стадиального развития» [2003, с. 237].
В литературе заметно преобладает представление о едва ли не безраздельном господстве культа «линеарного» прогресса, характерного для той эпохи «бури и натиска». Однако наиболее глубокие мыслители, начиная от Вико и Руссо, и заканчивая Гегелем и Марксом, выражали обоснованные сомнения в триумфальном автоматизме прогресса, а регресса – как аномалии, «отклонения от природы» человека. Для них прогресс был магистральной ветвью развития общества, способного разрешать противоречия между свободной, творческой сущностью человека и его отчужденным существованием [Левяш, 1973, 2004].
В этой связи уместен вопрос И. Валлерстайна: «А не были ли… обещания несомненного прогресса одной из форм интоксикации, тем опиумом народа, о котором говорил Маркс, или опиумом самих интеллектуалов, как парировал Маркса Раймон Арон?… Прогресс не просто осознавался и анализировался, но еще и навязывался», являясь «последним рубежом обороны евроцентризма, его резервной позицией» [2003, с. 203, 239]. В конкретно-историческом контексте классической европейской экспансии идея прогресса была дискредитирована, и вместе с мутной водой из ванны удалили здорового ребенка.
Вместе с тем, обоснованно исходя из понимания прогресса как объективной тенденции, «скорее, возможности прогресса, чем его предопределенности», Валлерстайн «наступает на грабли» Руссо и, в духе его антиномии между прогрессом наук и деградацией нравственности, ставит под вопрос прогресс общества в течение пяти последних веков. Он пишет, что это «позиция здравомыслящего человека, а не убежденного пессимиста, разуверившегося в будущем» [Там же, с. 182]. Но если мастер спорта – не олимпийский чемпион, это не означает, что он не мастер. Так называемый «здравый смысл» с позиций этического максимализма – не лучший советчик.
Вообще такие ориентации, как социальный оптимизм и пессимизм, не самодостаточны и, как зрелые установки, производны от вектора общественных интересов. Непреходящая драма общественного развития заключается в том, что в известные периоды оно предполагает предельно нестабильное и напряженное противоборство сил прогресса (вплоть до социальных революций) и регресса (включая социальную реакцию). Это эпохи исторических кризисов. Они – аргумент близости «обетованной земли» для одних или констатации «конца времен» – для других. Но, как заметил Гейне, «если из моей бочки вытекает вода, это еще не значит, что пришел всемирный потоп». «Всякий кризис, – писал Ленин, – означает (при возможности временной задержки и регресса) ускорение развития… обострение противоречий… обнаружение их… крах всего гнилого и т. д. Вот с этой точки зрения и надо рассматривать кризис…: нет ли в нем прогрессивных, полезных черт всякого кризиса» [Т. 26, с. 372].
Другим важным признаком общественного развития является его необратимость. Подобно прогрессу и регрессу, осознание этого признака – плод тысячелетий. Не говоря об архаическом обществе, в эпохи Большой традиции (древности, средневековья) господствовало ветхозветное мировидение: «Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после» [Екклезиаст, 1: 10–11]. В Новозаветном Слове человек впервые отрекся от «ветхого Адама», разомкнул жизненный круговорот и возвестил неизбежность Апокалипсиса – обретения «новой земли и нового неба». Но Страшный суд для грешников и возрождение для праведников были отодвинуты в перспективу. Человек еще не сознавал, что обновление происходит непрерывно – «здесь и сейчас».
С переходом от Большой традиции к динамичному Модерну фаустовский человек практически освоил Божественную максиму: «Я творю новое». В разделе, посвященном Современности как проблеме, этот императив и его последствия являются предметом специального рассмотрения. Здесь же, характеризуя достигнутый уровень понимания взаимосвязи преемственности и отрицания, уместно обратиться к Марксу-философу: «Люди сами делают свою историю, но они делают ее не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбирали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого». Но Маркс-революционер нарушает им же «схваченную» меру традиций и инноваций. «Традиции всех мертвых поколений, – писал он, – тяготеют, как кошмар, над умами живых» [Т. 8, с. 119].
Более сбалансированным представляется суждение А. Мицкевича: «Подготовляясь к грядущему, нужно возвращаться мыслью в былое, но лишь настолько, насколько человек, готовясь перепрыгнуть ров, возвращается вспять, чтобы тем лучше разбежаться» [Мицкевич, с. 28]. Вопрос о позитивном или негативном потенциале наследия всегда остается открытым. Это объясняется тем, что не только у прогресса есть своя логика, имманентно предполагающая возникновение и развертывание специфических, неповторимых для каждого этапа форм. Регресс также претерпевает действительную историю и по-своему обновляется.
К отмеченному сопряжению старого/нового в развитии тесно примыкает такой его признак, как единство равномерных и неравномерных изменений. С очевидностью такие формы общественной жизни, как язык или семья, не развиваются синхронно научно-техническим или политическим трансформациям, хотя и, в конечном счете, испытывают их воздействие. С другой стороны, отмечает Н. Дж. Смелзер, в качестве одной из ключевых характеристик развития выступает отбор для тиражирования только определенных аспектов человеческого опыта [1990, с. 119]. Устойчивая способность к воспроизводству одних форм, как ценностей, предполагает «отсечение» и негативную оценку других форм как антиценностей. Основания такого отбора обусловлены единым общечеловеческим содержанием и вместе с тем автономностью, относительной самостоятельностью и внутренней логикой развития каждой сферы развития.
В принципе, ассиметрия характерна и для такого признака развития, как единство упрощения и усложнения, нарастание стереотипности и разнообразия, дифференциации и интеграции способов деятельности, элементов и подсистем общественных структур и связей между ними. Сегодня мы живем одновременно в век «одноклеточного» конвейерного труда, унифицирующей информации и вместе с тем в далеком от линеарности, как никогда, сложном мире. Но и тенденция к супер-усложнению – тоже угроза саморазрушения человека и его мира. С. Лем отмечал: «Кажется, до потолка усложнений, самая близость которого угрожает личности, прежние общества… не доходили. Может быть, узнай мы код, мы обнаружили бы механизм, который тормозит стремление человека к чрезмерному усложнению…» [ВФ, 1969, № 8, с. 55].
Усложнение остается основной тенденцией в процессе развития, и достижение его динамического равновесия с процессами упрощения определяется определенной степенью организации общества. Исторический опыт показывает, что выживание и свободное развитие общественных систем, в конечном счете, зависит от меры его организации и самоорганизации, способности к созданию условий раскрытия творческого потенциала и мотивации его разнообразия.
Наконец, существенным признаком общественного развития является его ускорение. Возрастание степени организации и самоорганизации общественных процессов приводит к увеличению возможностей, новых дополнительных путей, форм и технологий развития, а это влечет за собой нарастание пассионарности передовых общественных сил, а с нею – и темпов прогресса… И если ускорением отмечены и регрессивные изменения, то прогрессивные преобразования отличаются по степени ускорения.
Степень сложности, высоты организации, взятые в каких-либо частных проявлениях, еще не свидетельствует о прогрессе или регрессе общества как целостности. Каков же в этом аспекте подлинный водораздел между ними? Его следует искать в оптимальности («мере») функционирования и эволюции общественной системы, т. е. степени соответствия между объективно заложенной в ней способностью (потенциалом) и реально достигаемыми результатами. Прогрессивные социальные системы неизменно обнаруживают – прямо пропорционально своей исторической зрелости – очевидные преимущества в этом ключевом пункте.
Указанные различия прогрессивных и регрессивных тенденций в развитии общества позволяют рассматривать его под углом зрения степеней оптимальности их проявления. Все общественные структуры, которые сменяли предшествующие в истории, обладали не только более высоким материальным, социальным, политическим и духовным потенциалом, но и способностью к его более оптимальной практической реализации.
В таком ракурсе XX столетие поучительно той «дистанцией огромного размера», которая отделила реальное развитие общества от оптимального. Вступление в век глобализации открыло неизвестные ранее перспективы организации и самоорганизации мирового сообщества, но вместе с тем на современном этапе с очевидностью вызвало и его дезорганизацию и дезориентацию. Мы достигаем того «потолка усложнений», о котором настойчиво предупреждал С. Лем.
Маркс писал, что философы до сих пор лишь объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы его изменить. Сегодня ясно, что совершенно необходимой предпосылкой глобализации в русле общественного прогресса является адекватное объяснение мира. «Никто за нас эту работу не сделает», – резонно заметил И. Валлерстайн в адрес постмодерна с его отказом от «больших смыслов». Вопреки очевидному кризису воздействия на современный мир практически всех известных Больших теоретико-методологических конструктов, настоятельно необходима мобилизация их идейного богатства постижения их творцами инвариантов, или непреходящего в постижении человеческой природы и на этой основе – обновление методологии развития в контексте современных реалий.
Способен ли Маркс выступать в качестве такой «точки опоры»? Как отмечал Р. Арон, любой мыслитель «неотделим от своей эпохи. Задаваться вопросом, о чем бы думал Маркс, живи он в другом веке, – значит спрашивать себя, о чем думал бы другой Маркс» [1993, с. 148]. Это бесспорно, но приблизиться к «другому» можно, лишь «вернувшись» к аутентичному Марксу. Перефразируя Спинозу, сегодня одни «плачут» по Марксу, другие – смеются, а следует – понять. Востребован ли Маркс как социальный философ?
1.3. «Вечное возвращение»: понять Маркса
«De mortius – veritas» (лат. – «О мертвых – правду»)
«Именно специфика нашего времени позволяет… встать на плечи титанов XIX века и увидеть новые перспективы»
И. Валлерстайн
«Научный марксизм дал чрезвычайно плодотворный метод познания»
К. Ясперс
«Встать на плечи титанов» – парафраз ответа И. Ньютона на вопрос о том, каким образом ему удалось свершить гениальное открытие закона всемирного тяготения («Я стоял на плечах гигантов»). Похоже, не только в гуманитарном сообществе России, но и мира в целом происходит исцеление от поразившего его на исходе XX столетия постмодернистского недуга – опасений поиска «всесторонней теории», поиска, который «уже сам по себе вызывает подозрение» [Elstain, 1995, с. 271].
Другого рода «подозрение» вызывает возврат к концепциям, которые необратимо исчерпали свой эвристический ресурс. Так автор фундаментального труда «Европа с 1815 года до наших дней», французский историк политики Ж.-Б. Дюрасел в духе «школы Анналов» предлагает плюралистический, полифакторный подход. «Поскольку человек является творением очень сложным, то никакие способы объяснения его поведения не могут сводиться к «монистическим» теориям». И далее: «Мы стремились объяснить факты. Означает ли это, что мы, историки политики, должны ограничиться объяснением политики через политику, отказываясь выйти за пределы данной темы? Известно, нет. История единая и всеобщая. Пытаясь объяснить конкретный политический процесс, мы должны обратиться ко всем возможным объяснениям, и тем, что лежат на поверхности, и тем, что совсем далеко от нее. Таким образом, мы быстро узнаем, что не существует политической истории, социальной истории, экономической истории, военной истории, истории религии. Разговор можно вести только о политических, социальных, экономических, военных, религиозных и т. п. фактах. Связь этих фактов и есть история (курсив мой – И. Л.)… давайте воздерживаться от любого догматизма. И если выбирать, то преимущество нужно отдавать не «монистическим» теориям, которые объясняют историческое развитие только с помощью одного типа причин, а «плюралистическим» объяснениям, где учитываются разные причины» [Дюрасел, 1996, с. 361, 372, 373].
Какова эта методология? Выше уже отмечалась неприемлемость позитивистской апологии «факта» и необходимость интерпретации социокультурных артефактов. Но здесь речь о другом. Если Дюрасел манифестирует неприемлемость «тощего монизма», сводимого к детерминации истории одним из факторов, то это шаг вперед в сравнении с гегелевской линейной, «флюсообразной» схемой. Но и самодостаточная «теория факторов» не решает проблемы, и Гегель был прав: «только взаимодействие – пустота». Здесь еще нет необходимой целостности, его системообразующего («монистического») ядра. Поэтому описание объекта (процесса) неравнозначно его объяснению. Тем более – его концептуальная интерпретация, которая откровенно или прикровенно предполагает определенные ценностно-смысловые ориентации.
Проблема не в том, как «уйти» от гегелевского монизма, а как преобразить его в монизме («холизме»), не сводимом ни к линеарному однообразию одного всемогущего «фактора», ни к его поверхностному многообразию. Решение этой инновационной задачи пронизывает все марксовское наследие, и этим курсивом подчеркивается идентификация с социальной философией именно Маркса, а не последующих догматизированных ипостасей марксизма, все более иллюзорно или заинтересованно не совпадающих с оригиналом.
В наше время быстротечного взаимопревращения идеалов в идолы принципиально важно отмежеваться, говоря словами Энгельса, от так называемых «новых марксистов» [Соч., т. 37, с. 395], которые, подобно персонажу платоновского «Чевенгура» Прокофию, имели «все сочинения Карла Маркса для личного употребления, формировали всю революцию как хотели – в зависимости от настроения Клавдюши и объективной обстановки» [1988, с. 81]. Ныне, в зависимости от «объективной обстановки» и тех или иных многообразных корпоративных (в том числе и партийных) интересов, удобно заимствовать заблуждения или софизмы тех, кто, к сожалению, диалектику учил не по Гегелю, но и не по Марксу [Левяш, 1997, 1999].
Характерно, что властители дум XX столетия, чуждые официозной советско-коммунистической версии марксизма, не пожелали быть персонажами в театре кривых зеркал. Тем не менее, почти независимо от степени концептуального родства с аутентичным Марксом, они единодушно признают свою духовную преемственность и непреходящую эвристическую ценность его наследия.
Есть смысл напомнить некоторые оценки его роли совершенно независимыми мыслителями. К. Поппер, крупнейший представитель позитивизма XX в., пишет о «марксовской грандиозной философской системе, сравнимой… с системами Платона и Гегеля и даже превосходящей их… Маркс любил настоящую свободу… Он не чувствовал никакой любви к царству необходимости, как он называл общество, находящееся в плену своих материальных потребностей… он ценил духовный мир, царство свободы и духовную сторону человеческой природы… он безусловно не был коллективистом, ибо полагал, что государство со временем «отомрет». По моему убеждению, Маркс, в сущности, исповедовал веру в открытое общество» [1992, с. 156, 122, 230]. «Все современные исследователи социальной философии, – резюмирует Поппер, – обязаны Марксу, даже если они этого не сознают» [Там же, т. 2, с. 98].
Такой фрейдовский комплекс целиком относится к одному из наиболее влиятельных социологов XX столетия П. Сорокину. Его противоречивое отношение к марксизму [Левяш, 1999, № 5, 6] объясняется не только тяготением к позитивизму на раннем этапе творчества, но и партийными убеждениями бывшего эсеровского идеолога, помощника А. Керенского и, наконец, изгнанника из Советской России. Все же Сорокин «гарвардского» периода писал, что выводы Маркса «весьма резонные», и признал, что социальное знание оказалось «под огромным воздействием марксистской социологии». Важнейшей он считал марксовскую концепцию «структурно-функциональной интеграции», в которой видел предтечу своих поисков интегративной социальной философии. Сорокин признавал, что, хотя марксизм стал «святыней коммунистической революции в России», его «отец» не повинен в том, что «стал объектом религиозно-политического идолопоклонства» [1992, с. 40, 172, 173, 187, 218].
Невозможно заподозрить в поклонении «идолу» Маркса и других отцов западной социологии XX столетия. Р. Арон отмечал: «Я хотел бы подчернуть идеи Маркса, имеющие исторически важное значение… Почти вопреки собственному желанию я продолжаю больше интересоваться загадками «Капитала», чем чистой и печальной прозой (А. Токвиля) «О демократии в Америке» [1993, с. 29, 30]. Э. Фромм писал об «истинном Марксе – радикальном гуманисте, а не о той вульгарной фальшивой фигуре, которую сделали из него советские коммунисты» [1990, с. 22]. По словам Дж. Гэлбрейта, Маркс – «один из величайших ученых всех времен», который является «слишком крупной фигурой, чтобы целиком отдавать его… социалистам и коммунистам» [1988, с. 79]. Ж. П. Сартр полагал, что марксизм был и остается «философией нашего времени: его нельзя превзойти, поскольку еще не превзойдены породившие его обстоятельства. Какими бы ни были наши мысли, они могут развиваться только на его почве». Н. Смелзер утверждал, что без Маркса невозможно рационально объяснить «одно хорошо знакомое противоречие: тенденцию победоносной войны международного капитализма увековечить… крайнее неравенство среди классов и групп внутри государств, а также крайнее неравенство между государствами. Хотя ныне Маркс не в моде в большей части мира, этот аспект марксистской мысли не должен выйти из моды» [1998, с. 22].
Целиком в русле марксовской концепции социума видит себя выдающийся британский историк Э. Дж. Хобсбаум. С его точки зрения, «материалистическая концепция истории, которая представляет собой ядро марксизма, применима всегда и везде» [2004, с. 9]. К «методу Карла Маркса» обращается и британский политолог Л. Зидентоп [2001, с. 243, 270]. Наконец, резюме экс-президента Международной социологической ассоциации И. Валлерстайна: «Все мы в той или иной степени марксисты» [2003, с. 303].
В завершение этого далеко не полного экскурса – парадокс. Бывший советский социолог, ныне эмигрант Е. Спиваковский отмечает, что «в Америке и везде на Западе господствует марксистская… мысль». По его наблюдениям, на одной из кафедр Гарвардского университета «из трех профессоров – двое марксисты, а единственного инакомыслящего они травят»
[НГ, 27.08.1993]. Это можно было бы принять за курьез, если бы не исследование Н. Смелзера среди наиболее известных ученых Запада о престиже социальных теорий. К сведению либерал-нуворишей, 80 % опрошенных ответили: марксизм. О его притягательной силе свидетельствует и анонимный опрос в Интернете: Маркс назван самым выдающимся мыслителем тысячелетия [Высшее…, 2000, с. 50].
Автор этой книги имеет определенный опыт системного изложения и интерпретации марксистской философии социального развития [Левяш, 1973, 1999]. Здесь же, в кратком очерке, невозможно выразить все ее идейное богатство, но реально воспроизвести ее смыслообразующие опоры. Современные интерпретации марксизма – в духе его тяготения к экономизму или, напротив, к гуманизму, системности или линейно-формационному подходу – в лучшем случае не замечают сущности революционного прорыва Маркса и его «своего-другого» Энгельса – разрыва с извечной традицией оперирования «тощими» абстракциями «общества вообще», «человека вообще», равно как и «идеальной» или «материальной» природы человека. Они изначально определились с тем, что напоминающая античный рок «История ничего не делает», люди – «авторы и актеры собственной драмы», и подчеркнули, что «предпосылки, с которых мы начинаем, …не догмы, это действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью» [Т. 3, с. 18].
Если говорить об аутентичном марксизме, то его «точкой опоры» непреходяще является деятельностная методология – кристаллизация фаустовского духа Просвещения, перевод его поэтического пафоса на язык теоретического дискурса. Проблема – в адекватности его интерпретации. Пожалуй, самое устойчивое заблуждение впервые выразил З. Фрейд. Отмечая «проницательную силу» теории Маркса, отец психоанализа вместе с тем сетовал, что если бы Маркс показал, как экономическая детерминанта взаимодействует с внеэкономическими «моментами», «то он довел бы марксизм до подлинного обществоведения» [Фрейд, 1989, с. 413, 414].
Такое критическое пожелание «дорогого стоит». Марксовская концепция деятельности, как синтеза материального и духовного, никогда не была сводима ни к одному из своих моментов, хотя конкретно-исторические обстоятельства выдвигали на первый план ту или иную «переменную». Маркс действительно отдал дань преимущественно экономической детерминации социума, но это был не методологический флюс, а адекватная реакция на онтологическую тотальность экономцентристского общества «всеобщей полезности». Была и другая существенная причина апелляции Маркса к экономическому фактору. Как объяснил Энгельс, она заключалась в необходимости сбалансировать мировоззренческую «лодку», которая опасно накренилась на борт господствовавшего гегелевского идеализма. Но марксизм отнюдь не ставил целью накренять лодку на другой борт и, если не выхватывать из контекста отдельные положения, вовсе не определял экономический фактор как инвариативный.
В марксистском контексте понятие деятельности не противостоит, а «снимает» односторонность как идеалистического, так и «натуралистического» образов человека. С одной стороны, «действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений» [Маркс, т. 3, с. 36]. С другой – материальное в человеке это не просто «натуральное», а преобразованное его духовной деятельностью, работой «головы» [Там же, т. 23, с. 21]. Поэтому жизнедеятельность индивидов не сводима к своим материальным или духовным моментам и, в сущности, является общественно-исторической практикой – процессом, основанным на взаимообусловленности деятельных людей и результатов их деятельности – «обстоятельств». Но всякий раз это уже во многом другие люди и другие обстоятельства.
В центре философии Маркса – диалектика свободы и отчуждения. Отчужденному, «бедному» человеку всегда противостоит (вовне и в нем самом) «богатый человек…, нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни». «Богатый человек» – творец общественного богатства – исключительно важного марксовского концепта, дающего ключ к его гуманистическому и целостному видению мира человека и человека в мире. «Чем иным является общественное богатство, как не универсальностью потребностей, способностей, средств потребления, производительных сил и т. д. индивидов, созданных универсальным обменом? Чем иным является богатство, как не полным развитием господства человека над силами природы, т. е. над силами так называемой «природы», так и над силами собственной природы? Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека без каких-либо предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу» [Там же, т. 46, ч. 1, с. 476].
С марксистских позиций, даже экономический (в своей конкретно-исторической форме) базис не может быть познан в камере-обскуре чисто «экономического» измерения. «Один и тот же экономический базис… благодаря бесконечно многообразным эмпирическим обстоятельствам – естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д., может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирических обстоятельств» [Там же, т. 25, ч. II, с. 354]. Маркс исходил из того, что «каждая данная экономическая формация должна решать свои собственные, из нее самой возникающие задачи; браться за решение задач, стоящих перед другой, совершенно чуждой формацией, было бы абсолютной бессмыслицей» [Там же, т. 22, с. 445].
Но, оказывается, базовый характер общественных формаций может быть и внеэкономическим. «То, что справедливо в отношении к современному миру, где господствуют материальные интересы, – пишет Маркс, – не применимо ни к средним векам, где господствовал католицизм, ни к древним Афинам или Риму, где господствовала политика» [Там же, т. 23, с. 92]. Марксовский концепт «азиатского способа производства» вообще основан на примате этатистского (государствоцентричного) принципа, и для России это традиционная и фундаментальная реальность.
Агрегатному подходу (с позиций теории факторов) Маркс противопоставил формационный анализ общества как специфически системного и, следовательно, целостного социального организма. Автор «Капитала» ясно видит причину такой целостности. Ее ядром является не материальное производство, как это следовало бы из принципа «экономизма» или экономцентризма, а наоборот: «все человеческие отношения и функции, в какой бы форме и в чем бы они ни проявлялись, влияют на материальное производство и более или менее определяющим образом воздействуют на него (курсив мой – И. Л.)» [Там же, т. 26, ч. I, с. 283]. В конечном счете, не тот или иной «фактор», а именно «органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него недостающие ей органы» [Там же, т. 46, ч. I, с. 229].
Эволюция структурной целостности общества имеет свои относительно законченные циклы, которые определяются изменениями природы и взаимосвязей производства, распределения и потребления общественного богатства, процессом развертывания сущностных сил человека. Поэтому категория общественной формации это не только инструмент структурно-функционального анализа общества, но и постижения конкретно-исторической структуры и динамики человекотворчества как глубинного смысла развития формаций. Здесь – формула марксовского гуманизма, видения социума как деятельной и свободной, целостной и самоцельной реализации творческих сил человека.
Однако было бы прегрешением против истины не видеть, что марксизм ратовал отнюдь не ради абстрактного человека. Маркс исходил из того, что «вся человеческая история есть порождение человека человеческим трудом». Поэтому непреходящий предмет его теоретического и практического интереса – социальное освобождение конкретно-исторического субъекта – человека труда как творца общественного богатства. И в этом (в отличие от предельно политизированной «диктатуры пролетариата») он не ошибался.
Маркс впервые в истории общественной мысли порвал с основным методологическим пороком – апелляцией к «извечной природе» человека. Для него, напротив, «вся история есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы» [Там же, т. 19, с. 20]. Именно поэтому не существует никакой априорной заданности направленности ее развития. Классик обращает внимание на «противодействующие влияния, которые ослабляют и парализуют действие общего закона и придают ему характер лишь тенденции». Так происходит, по Энгельсу, потому, что их действие перекрещивается с действием других законов. В реальности господствующий и воспринимаемый как «нормальный» закон противоречиво взаимодействует с унаследованными смыслами предыдущих формаций и зародышевыми состояниями будущих формаций.
Была ли концепция Маркса разновидностью эсхатологии? Стоит напомнить реплику Маркса в адрес его современников-позитивистов, которые обвиняли его как раз в обратном – принципиальном нежелании заниматься «системосозиданием», конструированием законченных, «в последней инстанции» систем. «Revue Positiviste, – пишет он, – упрекает меня, с одной стороны, в том, что я рассматриваю политическую экономию метафизически (примечательное признание Маркса как социального философа, а не «экономиста» – И. Л.), а с другой стороны – отгадайте-ка, в чем? – что я ограничиваюсь критическим расчленением данного, а не сочиняю рецептов (кантовских?) для кухни будущего» [Там же, т. 23, с. 19].
Исходя из деятельно-преобразующей и динамической природы человека, Маркс поставил под сомнение возможность ее «окончательного» познания и на этом основании – построения идеальной модели общественного устройства. Поэтому он, по его словам, не терпел «попов марксистского прихода» и в этом антидогматическом смысле даже объявлял себя «не марксистом». Если его взгляды объективно и являются системой воззрений на человека и его мир, то она имеет открытый характер. Ф. Энгельс подчеркивал: «Никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории» [Там же, т. 19, с. 121].
Метод марксизма по определению антиэсхатологический. Он исходит из анализа объективных тенденций, которые латентно уже сформировались или выявились в общественной практике и, при условии воспроизводимых обстоятельств, являются существенными приметами вероятного будущего. Да, Маркс – коммунист. Но его коммунизм принципиально антидогматичен: «Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления» [Там же, т. 46, ч. 1, с. 476].
Марксовский исторический оптимизм понятен. По Тойнби, «парадоксальным, но глубоко истинным и важнейшим принципом жизни является то, что для того, чтобы достигнуть какой-то определенной цели, следует стремиться не к самой этой цели, но к чему-то еще более возвышенному, находящемуся за пределами данной цели» [Тойнби, Постижение…, 2003, с. 528]. Понять Маркса – не значит автоматически принять его революционное «нетерпение сердца» (С. Цвейг), известную переоценку степени реальной зрелости общества. Этот импульс, никогда не угасая, все более укрощался суровыми реалиями. Оценивая Парижскую Коммуну, Маркс восхищался ее героями и вместе с тем выразительно писал, что они «штурмовали небо». В «Критике Готской программы» речь уже идет о переходном периоде и первой, социалистической фазе коммунизма. Такой подход стал неотъемлемой частью Эрфуртской программы немецкой социал-демократии – важнейшего документа II Интернационала. Однако, в итоге произошел отход партии от коммунизма как конечной цели рабочего движения. В результате партия осталась марксистской в смысле исторического марксизма, но перестала быть коммунистической с точки зрения целей партии [Валицкий, 1998, с. 73].
«Теория суха, но вечно древо жизни зеленеет». В контексте марксистского наследия прослеживается не только эвристический потенциал формационной методологии, но и ее пределы, и отсюда – широкое обращение к культурно-цивилизационному инструментарию.
Одна из сквозных тем марксизма – альтернативы «различающихся ступеней цивилизации». Маркс не ограничивался, подобно Руссо или Бакунину, проклятиями в адрес частной собственности, а усматривал в ней необходимый на определенных исторических этапах цивилизационный институт. Впервые он обнаруживает общую тенденцию: технологически более развитая страна показывает менее развитым картину их собственного цивилизационного (но отнюдь не культурного) будущего. Пока данный общественный строй относительно соответствует расширенному воспроизводству общественного богатства, включая главную производительную силу – человека труда, этот строй – необходимая стадия «культивирования всех свойств общественного человека» и в этом смысле – является «нормальным», «справедливым» (Энгельс). И, напротив, независимо от масштабов, рост общественного богатства, блокирующий развитие человека труда, означает «ненормальность», «несправедливость» данного строя, и отныне дальнейшее развитие человека труда связано с новым способом общественного производства.
Коммунизм предстает как противоположность «грубого», «казарменного» общественного устройства. «Мы вовсе не хотим разрушать подлинно человеческую жизнь со всеми ее условиями и потребностями, – писал Энгельс, – наоборот, мы всячески стремимся создать ее» [Там же, т. 2, с. 554]. Коммунизм это такое общественное состояние, в котором свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех. Но социальная свобода – не нирвана, а «действительное движение» (Маркс).
Человеческая деятельность структурирована в пространстве и времени и является творением формаций. Они – воплощенное, опредмеченное, внешне выраженное бытие целостности сфер, моделей и ценностей культуры, их устойчиво повторяющихся и вместе с тем динамичных, неповторимых связей. Запечатлевая, храня, воспроизводя и до известного времени совершенствуя импульсы, заданные культурой-демиургом, формация создает отношения и институты, которые в целом благоприятны для творческой деятельности субъекта культуры – творца материальных, социальных и духовных производительных сил. Таковы этапы в общем и целом восходящего развития общественных формаций.
Однако, подобно любой структуре, общественная формация обладает инерциальным свойством цивилизационной конструкции, тяготеет к самодостаточности. Это ее не априорное свойство, а выражение интересов определенных социальных сил. На известном этапе способность такой конструкции быть матрицей исторического творчества скудеет и иссякает, и она становится его прокрустовым ложем, лишается легитимности. Культура, напротив, изначально и непреходяще есть творческая реконструкция, она непрестанно самообновляется, стремится к преодолению своих цивилизационных форм. Благодаря этому культура обеспечивает жизнеспособность формаций в достижимых на ее базе пределах, и на этапе исчерпания их потенциала отрицает устаревшие стереотипы отношений и структур, подготавливая и обеспечивая восхождение к качественно новому, более жизнеспособному и легитимному социальному организму.
В такой «любви-ненависти» культуры и ее цивилизационных ипостасей – формаций обнаруживается решающее сущностное и динамическое различие между ними. Культура – непреходящая драма человекотворческой деятельности, а формации – преходящие акты этой драмы, «калифы» на исторический час. Секрет жизнестойкости культуры в том, что она охраняет и воспроизводит свое первородство – творческую жизнедеятельность людей благодаря или вопреки обстоятельствам. В культурной деятельности не столько обстоятельства творят людей, сколько люди творят обстоятельства.
Однако верно и то, что в марксизме эти идеи еще не обрели характера интегративной парадигмы. В условиях безраздельного господства капиталистической формации и ее триумфальной экспансии представления о культуре, цивилизации и варваризации еще не выявились как «последние основания» развития общества, диалектики его прогресса и регресса. Эта проблематика стала центральной в XX–XXI столетиях – эпохи планетарного конфликта общественных систем и ее трансформации в процесс становления глобального мира.
2. «Последние основания» развития: культура, цивилизация, варваризация
2.1. Триада базовых понятий
«Вместо «общества» – культурный комплекс – как предмет моего главного интереса (как бы некоторое целое, соотносительное в своих частях)»
Ф. Ницше
Вероятно, после Маркса первым из философов, которых не удовлетворяли «тощие» абстракции «общества вообще», был Ф. Ницше. Он посвятил свое творчество критическому постижению европейского социума современной ему эпохи как противоречивого культурно-цивилизационного феномена. Об этом свидетельствует не только выраженный в девизе раздела предмет его «главного интереса», но и критика мыслителем самодовольства Европы, которая противопоставляла себя варварству как единственная Цивилизация и не замечала ее нарастающего конфликта с культурой.
Ницше писал «об утраченном… понятии «культура» и призывал «к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура» [1990, т. 2, с. 374, 375]. «Культура contra цивилизация, – подчеркивал он. – Высшие точки подъема культуры и цивилизации не совпадают… Цивилизация желает чего-то другого, чем культура: может быть даже чего-то прямо противоположного… От чего я предостерегаю? От смешения… средств цивилизации с культурой» [1994, с. 97]. В этом же духе – программное методологическое замечание О. Шпенглера о том, что «одной из важнейших причин, почему в хаотической картине исторической внешности не была усмотрена истинная структура истории, было неумение взаимно отделить друг от друга проникающие комплексы форм культурного и цивилизационного существования» [1993, с. 74].
Это были «преждевременные мысли», но они оказались синхронными с размышлениями русских мыслителей (Достоевский, Бердяев, Розанов) о роли «любви-ненависти» культуры и цивилизации [Левяш, 2004, гл. 3]. Понадобилось столетие, чтобы заключить, что «на протяжении последних двух десятилетий произошли два важнейших события в интеллектуальной жизни, заложивших совершенно новую тенденцию… Я имею в виду то, что называют исследованием неравновесных систем в естественных науках и культурологическими исследованиями в гуманитарных… В ходе своего развития культурология вышла из поля, традиционного для гуманитарных наук, и переместилась в сферу обществоведения, рассматривающего действительность как сконструированную реальность. Именно по этой причине многие обществоведы столь восприимчивы к культурологическим исследованиям» [Валлерстайн, 1993, с. 283, 287].
Если в духе Маркса, Ницше и Шпенглера структурировать реальность под углом зрения ее культурно-цивилизационных оснований, то они предстают в виде ценностно-смысловой триады.
Культура – «царство свободы», субъектная и «становящаяся», динамическая человеческая деятельность, творческий и ценностно ориентированный на общественное благо процесс реализации способности человека к социальному освобождению; в конечном счете, человекотворчество. Цивилизация – «царство необходимости», объектная и «ставшая», опредмеченнная и кристаллизованная сторона человеческой деятельности, «застывшая культура», совокупность ее прагматических, «полезных» результатов; воспроизводство человека и его мира. Варваризация – архаизация и деградация культурных ценностей и смыслов, их мутация из созидательных в разрушительные силы; в конечном счете, отчуждение и обесчеловечивание человека [Левяш, 1999, 2004].
Противоречивая взаимозависимость между культурой и цивилизацией – сложнейший комплекс, и он выступает в трех основных ипостасях.
Первая из них – генетическая. Культура творит цивилизацию и нуждается в ней, как мать в своем ребенке. Первую создает творческий субъект, но его замысел не полон, не завершен, пока не воплощен, не объективирован во второй. Цивилизация возводит стены Собора, культура одухотворяет их откровением. Цивилизация это совокупность результатов человеческой деятельности «в себе». Она «не ведает, что творит» и должна быть преобразована деятельностью «для себя» – культурой, которая придает цивилизации направленность и смысл. Достоевский, отвечая тем, кто «стук телег, подвозящих хлеб человечеству», ставил выше Сикстинской Мадонны, писал: «В чем же великая мысль? – Ну, обратить камни в хлебы – вот великая мысль. – Самая великая…? – Великая, но второстепенная…наестся человек и…тотчас скажет: «Ну вот я наелся, а теперь что делать?». Вопрос остается вековечно открытым» [Т.13, с. 173]. В этом – взаимодополняемость и вместе с тем принципиальные различия между цивилизацией и культурой. «Цивилизация, – писал В. Мирабо, – ничего не довершает для общества, если она не дает ему… добродетели» [Цит. по: Бенвенист, 1974, с. 72].
Вторая форма взаимосвязи культуры и цивилизации – структурно-функциональная. Они являются разными сторонами человеческой деятельности как системы, и ни одна из них не мыслима без другой. Остро сознавал взаимообусловленность между высокими целями и дефицитом средств их достижения автор гениальной «Палаты № 6». «Класть серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки… нельзя, – писал Чехов, – потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, …то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры. Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого?» [Чехов, т. 8, с. 85].
Структурно-функциональные зависимости между культурой и цивилизацией являются инвариантными, «сквозными». Но между цивилизацией и культурой возможна и, в конечном счете, наступает дисфункциональная (нарушающая нормальное выполнение функций) связь. Впервые в истории культуры ее ярко выразил Гай Валерий Катулл: «Да! Ненавижу и все же люблю. // Как, возможно, ты спросишь? // Не объясню я. Но так чувствую, // смертно томясь». Мир человека, это, по М. Цветаевой, «и мир, и Рим», и в терминах Фрейда, перед нами «любовь – ненависть». Этот экзистенциальный и неистребимый феномен – «амбивалентность чувств в настоящем смысле, т. е. совпадение любви и ненависти к одному и тому же объекту, в основе значительных культурных образований… можно допустить, что она – основной феномен жизни наших чувств» [Фрейд, 1991, т. 1, с. 346].
Почему столь противоречивы взаимосвязи цивилизации и культуры? В субъективном смысле проблема сводится к непростым взаимоотношениям между людьми и их идеалами. Как было известно уже Платону и Боэцию, если человек способен приближаться к идеалу полностью, он становится богом. На практике же человек частично или вовсе отклоняется от идеала. Это объяснимо как с точки зрения жизненности самого идеала, так и степени человеческой свободной воли. Слишком регулярно, чтобы быть случайностью, она оборачивается «бегством от свободы» (Фромм).
Но в этой коллизии есть и менее видимые, объективные основания. Достигнутые результаты деятельности, становясь стереотипами, шаблоном, имитацией, а не новацией, ведут к утрате смысла, «высоты» культурных ценностей, инерции самосохранения, формируют иллюзию самодостаточности и комплекс самодовольства цивилизации, или синдром «сумасшедшего фортепьяно», которое мнит себя творцом музыки (Д. Дидро). Цивилизация перестает «задавать вопросы себе самой» [Бауман, 2002, с. 244], стремится подменить собой культуру, оставляя последней участь аутсайдера. Образ самодовольной цивилизации, которая молится на идола «полезности», создал Достоевский. «– Тут просто работа, полезная обществу деятельность, которая стоит всякой другой, и уже гораздо выше, например, деятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что полезнее! – И благороднее, благороднее… Все, что полезно человечеству, то и благородно! Я понимаю только одно слово: полезное! «[Т. 6, с. 285]. Отсюда – всего шаг до претензии цивилизации вершить суд над культурой, порой в респектабельных формах. Так, еще в XVIII в. «в английском парламенте…назначена была комиссия из юристов, чтоб рассмотреть весь процесс Христа перед первосвященником и Пилатом, чтоб узнать, как теперь это будет по нашим законам… присяжные принуждены были вынести обвинительный протокол» [Достоевский, т. 13, c. 222].
Такая цивилизация равнодушна к человеку, тем более – к его высшим смыслам. Чехов отмечал ее «слепоту» на примере судебной практики. «Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе как формально… да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?» [Чехов, т. 8, с. 77–78].
Цивилизацию, в конечном счете, покидает «душа» культуры. Это известный синдром Эдипа, в другом варианте – менее известный, но однотипный синдром Электры, бунт блудной дочери против своей матери. Цивилизация «перестает задавать вопросы себе самой» [Бауман, 2002, с. 244], стремится подменить собой культуру, оставляя последней участь аутсайдера. В таком состоянии цивилизация напоминает пустынника, который расчищает себе место в лесу: чем усерднее он работает, тем сильнее разрастается лес.
Это эпоха распада и тупика во взаимоотношениях цивилизации и культуры. Цивилизация становится лабиринтом без исхода, кафкианским замком, в котором, как известно, жесткая регламентация не только не отменяет, но и по определению предполагает абсурд существования. Для культуры это сигнал к возвращению и обновлению вечных смыслов и их объективации в новой цивилизации.
Однако, безотносительно к характеру «любви – ненависти» между культурой и цивилизацией, это не причина и даже не повод для анафемы последней, ее противопоставления, как абсолютного Зла, культуре как абсолютному Добру. Цивилизация не самоценность и тем более – не высшая, но великая ценность как объективация культуры, и в этой ипостаси мы обязаны ей очень многим. Поэтому Достоевский исходил из того, что «сила в нравственной идее. Нужен подвиг. Но ведь нужны и заводы, и промышленность? Зачем все это останавливать? Пусть идет своим чередом» [Достоевский, 1974, с. 178]. Чехов разделял какой подход. «Возьмите его увертки и фокусы, например, отношение к цивилизации. Он не нюхал цивилизации, а между тем: «Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!»…видите ли, что он когда-то… всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; он, видите ли, Фауст, второй Толстой» [Чехов, 1977, с. 374].
Однако течение жизни нередко оказывается не между берегами культуры и цивилизации, а перед смертельно опасными для обеих порогами – варваризацией и одичанием. Такая разрушительная способность в символической форме отмечена уже у истоков культуры. К примеру, как один из первых известных прецедентов феномена «собаки в библиотеке» (все видит, но ничего не понимает), халиф Омар (VII в.) сказал в ответ на запрос одного из своих военноначальников, которые только что захватили Александрию и не знали, что делать с ее уникальной библиотекой: «Если писания греков согласуются с книгой Бога, то они бесполезны и хранить их нечего; если же не согласуются, тогда они опасны и их тем более следует уничтожить» [Тойнби, Постижение…, 2003, с. 445].
В древневнекитайской повести «Яньский наследник Дань» изображен пир, который устроил некий принц Дань. В разгар веселья принц велел позвать девушку, которая славилась игрой на цитре. Его друг, восхищенный танцовщицей, похвалил ее: какая красавица! Наследник тотчас предложил ее в дар. Цзин Кэ возразил, что ему нравятся только ее руки. Гость не успел опомниться: Дань отрубил руки красавицы и преподнес их другу.
«Цивилизация отрубленных рук» – символ смерти творчества, или срыв в варварство – циклически воспроизводимая, трагическая реалия как результат отрекшейся от смыслов и ориентаций культуры, самодостаточной и упорствующей в своей слепоте цивилизации. Многомиллионный Холокост, обугленная Хиросима, американский «черный вторник» в сентябре 2001 г., российский «Норд-Ост», без кавычек – избиение младенцев в Беслане, наконец, обрушение индийского отеля «Тадж Махал» – дурная бесконечность этих злодеяниий напоминает, что у креста, как распятия, нет срока давности.
Только примат культуры над цивилизацией является гарантом человечности, не говоря уже о человекотворчестве. И, напротив, самодостаточность цивилизации, – предпосылка ее кризиса, тупика, распада и катастрофы. Диалектика культуры и цивилизации не только пронизывает, но и определяет становление, функционирование и динамику социума. «Культура – самый древний персонаж истории: экономики сменяли одна другую, политические институты рушились, общества следовали одно за другим, но цивилизация продолжала свой путь» [Бродель, 1992, с. 60]. Российский культуролог А. Флиер прав: культура это «наше не все». Но решительно все подлинно значимое в истории – культура и ее ипостаси, и в первую очередь – ее «свое-другое», конкретно-исторические состояния культурно-цивилизационного комплекса. Но и варваризация – «от мира сего», не просто чужое, а «свое-чужое» – ублюдочный продукт бунта цивилизации против культуры. Печально известный Нерон, инквизиция и нацизм – все они вышли из чрева европейской цивилизации, и «диктатор Самоса – сукин сын, но это наш сукин сын» (Дж. Кеннеди-старший).
Человеческий род прошел действительно крестный путь – от доисторических первобытных анклавов до глобальных масштабов и темпов динамики современности, путь все более смыслоемких свободы и отчуждения, падений и воскрешений. Этот путь подтверждает недооцененное по достоинству предупреждение А. Камю о том, что «варварство никогда не бывает временным» [Камю, 1990, с. 370].
Печальными свидетельствами циклических «затмений» варваризации являются периоды тупика и распада самых грандиозных цивилизаций. Мыслитель позднего Рима Тит Лукреций Кар в знаменитой философской поэме «О природе вещей» писал: «Ныне к упадку идут времена. Истощенная почва // слабые силы рождает в животных… // Мы истомляем быков, истомляем и пахарей силу, // тупим плуги, чтоб хоть малое вызвать содействие почвы, // но постепенно хиреют плоды, а труды возрастают. // Ныне, главою качая, вздыхает седой земледелец, // как он великий свой труд убивает по рою напрасно… // чахнет все мало-помалу и направляется к гробу, // под бременем лет истомившись» [1933, с. 59, 60].
Хрестоматийно известная «ночь средневековья» – понятие не только символическое, но и по ряду признаков – буквальное. Для этого времени были характерны не только бесконечные межфеодальные и конфессиональные войны, истребление десятков миллионов людей, материальных и духовных ценностей, но и отмеченные Ницше периодические ожидания «конца света» и связанные с ними «колоссальные эпилепсические эпидемии, величайшие, какие только известны в истории, как, например, пляски святого Витта и святого Иоанна…массовые мании самоубийств, ужасный клич которых «evviva la morte» («да здравствует смерть») раздавался по всей Европе, прерываясь то сладострастиями, то бешено разрушительными идиосинкразиями» [1990, т. 2, с. 128–129].
Замечательный итальянский мыслитель начала XVIII в. Дж. Вико проницательно усмотрел в этих феноменах устойчивую и емкую закономерность. В своих «Основаниях новой науки о природе наций» он писал, что, когда «народы доходят… до последнего состояния гражданской болезни…тогда Провидение в этом крайнем случае применяет следующее крайнее средство: так как народы, подобно скотам, привыкли думать о личной пользе каждого в отдельности, …тогда народы в силу всего этого из-за упорной партийной борьбы и безнадежных гражданских войн начинают превращать города в леса, а леса – в человеческие берлоги. Здесь в течение долгих веков варварства покрываются ржавчиной подлые ухищрения коварных умов». Вико верил, что «новое варварство» не вечно, и с течением времени народы «снова возрождаются как феникс» [1940, с. 47, 469].
В такие «смутные времена» особенно необходимы «отчаянное терпение и осмотрительная непокорность, чтобы вновь обрести долю престижа, необходимую для всякой культуры» [Камю, 1992, с. 415]. Для нее это сигнал к возвращению и обновлению вечных смыслов «Учитель, – спросили Конфуция, – ваш Путь несказанно велик, вот почему мир неспособен принять его. Не лучше ли вам приспособиться к миру? – Хороший земледелец может вспахать и засеять поле, – сказал Учитель, – но не может ручаться, что снимет богатый урожай… Мудрый может следовать праведному Пути, но не может ручаться, что люди примут его правду… Но вы должны и впредь твердо идти своим путем» [Цит. по: Малявин, 1992, с. 266].
Это непреходящая задача. Только примат культуры над цивилизацией является гарантом человечности, не говоря уже о человекотворчестве. И, напротив, самодостаточность цивилизации, – предпосылка ее кризиса, тупика, распада и, в конечном счете, катастрофы.
В таком контексте диалектика культуры и цивилизации не только пронизывает, но и определяет подлинно значимое в становлении, функционировании и динамике социума. Решительно все в нем – ипостаси культуры, и в первую очередь – «свое-другое», конкретно-исторических состояний культурно-цивилизационных комплексов. Культура – не «часть» и тем более – не «аспект» социально-исторического целого. Как заметил английский социолог К. Милтон, «не существует «культурного ядра»…Именно наша культура в целом, а не просто ее часть располагает нас внутри мира, делает его многозначительным для нас и направляет наши действия» [Милтон, 1998, с. 54]. К. Леви-Стросс отмечал, что «провозглашает ли себя антропология «социальной» или «культурной», она всегда стремится к познанию человека в целом, но в одном случае отправной точкой в ее изучении служат его изделия, а в другом – его представления» [Леви-Стросс, 1985,
с. 317]. Здесь человек един и неделим, и лишь его ипостаси разные: «изделия» это цивилизованный мир вещей и отношений, их форм и структур, а «представления» – мир ценностно ориентированного творчества.
Поэтому широко бытующий дуализм мира человека, как покоящегося на двух «осях» – социальной и культурной, напоминает формулу-предупреждение Гегеля: «Только взаимодействие – пустота». Это не означает умаления роли социальной подсистемы, но – памятуя предупреждение У. Оккама об избежании удвоения сущностей – означает ее производность от культурно-цивилизационных оснований. Необходима парадигма пан-культурализма – однако не в ницшеанском смысле: «Вместо общества – культура», а культур-философское знание не «всего и вся» (это претензия «науки наук»), а глубинных оснований, «скалы» ценностей и смыслов исторически-конкретных культурно-цивилизационных комплексов (КЦК).
Проблема – в объективной рядоположенности или целостности их функционирования и развития и отсюда – когнитивной возможности выработки интегрального критерия прогресса КЦК и его исторической цены.
2.2. Критерии прогресса культуры и цивилизации
«По плодам их узнаете их»
Библия
«Поиск в действительной истории человека критериев истинности и ложности, прогресса и регресса»
Маркузе
Если люди творят единую в своей структуре и динамике историю культуры/цивилизации, возникает вопрос о возможности и необходимости оценки степени их зрелости как единства в многообразии. Решение этого вопроса блокируют агностические подходы, снимает позитивистская апология «фактов» и опрощают «линейные» интерпретации. Для первых исключена или абсолютно неопределенна самая постановка вопроса, ибо любая культурная модель, как и в целом культурно-цивилизационая деятельность, лишены объективной реальности или обладают ею как непостижимой кантовской «вещью в себе». С позитивистской точки зрения, «больной может жаждать здоровья, не имея его критерия… отсутствие критерия истины не в большей степени лишает понятие истины смысла, чем отсутствие критерия здоровья делает бессмысленным понятие здоровья» [Поппер, 1992, т. 2, с. 446]. Остается загадкой, что вообще означает здоровье/нездоровье, если нет критерия их различения. Медвежью услугу оказывает и плоский эволюционизм, для которого в культуре, как у вольтеровского Панглоса, «все к лучшему в этом лучшем из миров», и все последующее в ней автоматически совершеннее предыдущего.
Есть смысл изложить одну из типичных «переоценок ценностей» представленных в отечественной литературе. Эта интенция исходит из «принципиальной уязвимости» понятия «прогресс» на том основании, что не является однопорядковым строго «объективным» критерием естествознания, например, введенным Дж. Гексли критерием прогрессивной биосоциальной эволюции. В отличие от них, критерий прогресса общества «содержит еще и субъективную (аксиологическую) составляющую». Как устранить такое препятствие? Автор предлагает, «наряду с понятием «прогресс», использовать другое, которое представляется ему лишенным аксиологической составляющей, «чисто объективное понятие – «восходящее развитие человечества». Восходящее развитие, пишет он, одновременно и реально, и относительно, поскольку в ходе его многое приобретается, но что-то и теряется. На отдельных этапах оно может останавливаться и даже временно поворачивать вспять. При этом различные аспекты этого процесса субъективно (по шкале «хорошо – плохо») могут оцениваться людьми по-разному. «Но существует главный объективный критерий восходящего развития – увеличение разнообразия действий, мыслей, возможностей человека и общества в целом. Рост разнообразия является основным результатом раскрытия потенциальных возможностей и коррелируется с увеличением степеней свободы».
В целом процесс «реализуется как суммарная тенденция во взаимодействии разноориентированных, а иногда и противоположно направленных потоков деятельности людей и социальных структур». Эта тенденция обосновывается по аналогии с жизнью цветкового растения («росток – бутон – цветок») или человека в процессе смены стадий «рождение – детство – юность – зрелость». Но любой форме жизни присуще также «нисходящее развитие» (старость, смерть). Обе тенденции совершенно реальны и тем не менее относительны. Оказывается, они проявляются и в периоды нисходящих тенденций: в старости человек, если он прилагает усилия, может совершенствоваться по целому ряду параметров, а значит, не останавливаться в развитии, несмотря на неумолимо идущие процессы старения. В итоге и нисходящая линия может быть… восходящей.
Рассмотрев обе линии развития отдельного человека, автор считает возможным экстраполировать представления о них на все человечество. Возраст человеческой цивилизации приравнивается к 17-ти годам человеческой жизни. Корректность проводимой аналогии аргументируется главным образом тем, что «обе системы построены на принципиально близких кооперативных началах: человек состоит из относительно автономных живых систем микроорганизмов (клеток), являющихся частями общего организма; человечество состоит из относительно автономных индивидов, являющихся частями социума. С этой точки зрения человечество еще «подросток», оно обладает избытком юных сил и объективно находится на этапе восходящего развития» [ОНС, 1996, № 1, с. 156–158].
Есть, впрочем, вопросы относительно корректности аналогии прогресса человечества с прогрессом отдельного человека и их вместе – с природой. Первый из них поставлен Б. Расселом, который отмечал, что человечество принципиально отличается от человека уже тем, что у второго есть мать. Второй вопрос – об аксиологических затруднениях выработки критерия прогресса общества на том основании, что здесь, в отличие от природы, действует субъект. Вообще это не препятствие, а фундаментальное условие решения проблемы. Общепризнанно, что в природе есть эволюция, но нет ни «прогресса», ни «регресса», поскольку здесь нет отношения к ним оценивающего субъекта. Это чисто антроморфные понятия, и, к примеру, солнце не «восходит» и не «заходит», а лишь движется.
В принципиальном отличии от природы, человеческая деятельность по определению имеет субъектно-объектный и субъектно-субъектный характер, и ее оценки могут иметь объективный смысл, но не могут перестать быть оценками. Это верно и в том случае, если понятие «прогресс» заменить (или деликатно рядоположить) понятием «восходящее развитие». Оценки для определения последнего нужны не менее, чем для прогресса. Правда, эти оценки не могут быть серыми кошками. Иными словами, по таким критериям, как «реальность и относительность» восходящего и нисходящего развития, они верно определяются как разнонаправленное развитие, но в чем суть этих различных векторов, остается неясным.
Изложенная концепция – лишь одна из граней более общей и, оказывается, нерешенной проблемы. На методологическом «дворе» – вновь модная натурфилософия и ее легитимное дитя – редукционизм, но с этих позиций, как убедительно показал П. Сорокин, в принципе невозможно заместить философский анализ такой уникальной «природы вещей», как критерии человекотворческой деятельности [1992, с. 483].
Перед нами – действительно пробный камень культурологии в ее статусе философии культуры. Накопленная информация о критериях прогресса культуры/цивилизации позволяет заключить, что их познание возможно лишь при условии выработки совокупности методологических принципов. Они должны исходить не из естественной, а культурно-цивилизационной природы человека и синтезировать весь потенциал культурологического знания. Каковы эти принципы?
1. Объектно-субъектный характер критериев
Критерии зрелости культуры/цивилизации не могут быть сформулированы с объективистских, лишенных реальной субъектности позиций рода «Человек». «Меня не интересует, – писал А. Камю, – свободен ли человек вообще… Проблема «свободы вообще» не имеет смысла… Чтобы знать, свободен ли человек, достаточно знать, есть ли у него господин» [1990, с. 54]. Культуру/цивилизацию творит не абстрактное человечество, тем более, не человек-масса, как антипод народа и антагонист культуры. С его позиций никакие критерии не могут быть объективными. Такую «объективность» Ф. Бэкон иронически называл virgo sterilis – бесплодной девой. «Часто за горячим стремлением к общему благу скрывается оговорка: поскольку это соответствует нашим интересам» [Гегель, 1999, с. 51]. Последователи Гегеля отмечали, писал Г. Плеханов, что «объективность… – не больше, чем болтовня. И вовсе не в том смысле, что объективность есть недостижимый идеал. До объективности, т. е. взгляда, свойственного большинству, до миросозерцания массы историк может только унизиться. Раз он поступает так, он перестает быть творцом» [1956, т. 1, с. 670]. Верно в этой мысли то, что человек-масса не способен возвыситься до объективности, не верно признание объективности лишь как конвенции большинства, т. е. того, с чем оно согласно.
Объективное – все то, что по своему содержанию не зависит от мнения не только большинства, но и меньшинства, и существует как природа оцениваемого процесса. Природа культуротворческого процесса такова, что ее непреходящим субъектом выступает творческий человек. Относительно его интересов, ценностей и смысла жизни возможно определение критериев зрелости культуры, которые дистанционированы как от объективистских рассуждений о «культуре вообще», так и от ее субъективистских интерпретаций. Такая мера возможна в критериях культуры/цивилизации, если они включают в себя моменты абсолютности, т. е. степени зрелости культурной деятельности, и вместе с тем – относительности, поскольку содержание понятия «субъект творческой деятельности», его культурный опыт всегда имеют конкретно-исторический характер.
2. Единство интегративного и частных критериев
Целостность культуры в ее многообразии обусловливает возможность «сведения его в один фокус» (Э. Кассирер), правомерность выработки единого, интегративного критерия ее зрелости и вместе с тем – связанных с ним, но относительно самостоятельных, частных критериев культуры в различных сферах, формах и моделях. Интегративный (основной, «высший») критерий должен быть методологически плодотворным для частных критериев своей способностью «схватывать» главное, существенное, устойчиво повторяющееся в мировой культуре.
Вместе с тем он не может быть универсальным, «всепроникающим», подобно пушкинскому персонажу – французу Ромму, способному «объяснить всё, даже Апокалипсис». Кстати, апокалипсис, как символ судьбоносных переломов в истории человечества, его «страшного суда», очищения от скверны «авгиевых конюшен» и возрождения к новой жизни, объясним только на основе знания о постоянной незавершенности исторического творчества и все же – возможности его совершенствования. Однако, резонно отмечал Ленин, совокупность всех общественных изменений не могут охватить даже 70 Марксов, вместе взятых. Высшую познавательную задачу он видел в том, чтобы в главном, в общих и основных чертах охватить объективную логику развития общества. Иными словами, не ставя под сомнение необходимость самоо-предел-ения философии культуры, ее предметных пределов, не впадая в крайности когнитивного «всеведения», тем не менее реально выработать единый, интегративный критерий зрелости культуры/цивилизации. Это исключает определение такого критерия как механической суммы или агрегата каких-либо частных критериев. Их обширная проблематика должна решаться в многообразных и относительно самостоятельных, специальных культуроведческих теориях.
Вопрос о том, кто «прогрессивнее» – Шекспир или Пушкин – некорректно поставлен, и его невозможно решить даже в лоне эстетики. Иное дело – с позиций философии культуры можно и должно решать вопрос о том, каковы место и роль художественного гения или нравственных постулатов в прогрессе общества как целостности.
3. Сущностный критерий
Поиск высшего мерила требует ясной ориентации на точку опоры культурной деятельности как процесса, в котором зарождается и генерируется магма культурной лавы, в конечном счете, определяя энергию ее потока в целом. К. Маркс предлагал «оставить… ту точку зрения, с которой мир и человеческие отношения видны только с их внешней стороны. Необходимо признать эту точку зрения непригодной для суждения о ценности вещей… Мы должны… оценивать бытие вещей с помощью мерила, которое дается сущностью» [Т. 1, с. 54] оцениваемого процесса. Он подчеркивал, что «промышленная нация достигает высокого уровня своего производства в тот момент, когда она вообще находится на высоком уровне своего исторического развития» [Т. 46, ч. 1, с. 22], т. е. на определенной ступени своей культурно/цивилизационной зрелости [Т. 3, с. 28; т. 9, с. 320; т. 13, с. 7; т. 25. ч. 2, с. 245, 386].
Следовательно, высший критерий зрелости КЦК следует искать в средостении процесса, направленном на общественное благо освобождения творческого человека как сущности культуры.
4. Сущее и должное критерия
Освободительный процесс не является неким предзаданным и извечным состоянием. Он – неустанное становление, постоянная и напряженная устремленность от «дольнего» к «горнему» миру. Такая особенность культурной деятельности провоцирует устойчивую традицию оценки реальной исторической ступени ее зрелости с точки зрения цели – идеала. Так, Руссо считал справедливым и разумным соотносить состояние общества с «последней точкой». Чтобы судить о том, что есть, надо знать, что должно быть [Цит. по.: Гегель, 1993, с. 30]. Для А. Сен-Симона история не представляла самоценности, а являла собою лишь «эпоху подготовительных работ», «предварительную подготовку, до завершения которой человеческому уму было бы невозможно создать правильный план дальнейших трудов и установить метод, согласно которому следует направлять свои изыскания и соображения» [1952, т. 1, с. 242]. В сущности, аналогичную точку зрения разделял и Н. Бердяев: «Бесконечное совершенствование человечества предполагает нравственный миропорядок и сверхэмпирический мир идеальных норм, которыми все оценивается в эмпирической действительности…Творить красоту и добро, творить то ценное, по чем тоскует человек, можно только создавая высшие формы жизни и культуры» [1994, т. 2, с. 209].
В такой трактовке цель, рассматриваемая вне реального культурно-исторического процесса, становится эталоном оценки предшествующих ее достижению этапов. Это – еще одна ипостась «внешнего» подхода к развитию культуры, в котором действительно не может быть никакого критерия, соответствующего сущности этого динамичного процесса.
Если К. Маркс в принципе указал на методологическую непродуктивность такого подхода, то Ф. Ницше предельно обнажил его несостоятельность в своем критическом отношении к эсхатологическим концепциям прогресса культуры/цивилизации. С его точки зрения, у движения мира, как и движения человечества, «нет никакой цели». «Мы должны объяснить становление, не прибегая к такого рода конечным целям: становление должно являться оправданным в каждый данный момент (или не поддающимся оценке, что одно и то же; настоящее ни под какими видами не должно быть оправдываемо ради будущего или прошедшее ради настоящего). «Необходимость» не в виде возвышающейся над нами первенствующей мировой силы или первого двигателя; еще менее как нечто, что необходимо для того, чтобы обосновать верховную ценность мы должны остерегаться видеть в известных конечных формах развития… некое «в себе», стоящее за развитием вообще, как его основа!» [1994, с. 338, 339].
Однако не плодотворно и определение критерия зрелости культуры/цивилизации безотносительно к её имманентной самоцели. Маркс предложил парадоксальный методологический афоризм: «Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны». Проблема – не в той дерзкой фантазии, что приматы усматривали свою цель в эволюции к человеку, а в знании о человеке как ключе к познанию эволюции к человеку. Так и знание компьютера облегчает выявление логики технического прогресса. Вместе с тем, применив такой подход в оценке движения христианской модели культуры/цивилизации, К. Кедров констатировал эволюцию от богочеловека Христа к современной «обезьяне» – человеку-массе XX столетия.
Цель – идеал культуры, выражающий ее сущность, – не только внешнее и завершенное состояние, но и внутренняя, всегда обновляемая, субъективная по форме и тем не менее объективная по сути тенденция. Избежать ловушки конечной цели – значит оценивать культуру как процесс практической реализации самоцели культурной деятельности. Каждый результат в ней – исходный пункт дальнейшего движения. Достоевский, отводя разуму и науке «второстепенную и служебную» (цивилизационную) роль, видел сущность всемирно-исторического культурного процесса в том, что «народы слагаются и движутся силой иной, повелевающей и господствующею… Эта сила есть сила неутомимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила непрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, «реки воды живой». «Искание бога» – так называю я всего проще… Бог есть синтетическая личность всего народа» [Т.10, с. 198]. Здесь мыслитель не только по существу демистифицировал понятие Бога, но и отождествил его «искание» с земным, но высшим смыслом «реки воды живой» – свободным историческим творчеством народа.
Проблема, следовательно, не в том, чтобы отрицать плодотворность оценки прогресса культуры/цивилизации с точки зрения их интенции к имманентной цели, а в воздержании от абсолютизации практически достигаемых и неизбежно аксиологически выраженных конкретно-исторических целей. Так, А. Н. Уайтхед писал, что любой историк культуры исходит из собственных суждений о том, что составляет суть человеческой жизни. Он все же остается во власти определенных представлений относительно того, что является высшей точкой этой фазы человеческого опыта и что знаменует ее упадок. Поэтому, отмечал мыслитель, «нельзя оценивать нечто как мудрость или глупость, как прогресс или упадок, не сравнивая это нечто с определенными образцами или подразумеваемыми целями. Эти образцы и цели, распространяясь вширь, становятся движущей силой идей в истории человечества» [1990, с. 393].
Однако существенна не только историческая самоценность предмета оценок, но и его конкретно-исторический характер, единство моментов вечности и необратимости, динамика сущего и должного в оценках. «Не ищите в нашем прошедшем своих идей, в наших предках – самих себя, – писал В. Ключевский. – Они жили не вашими идеями, даже не жили никакими, а знали свои нужды, привычки и похоти. Но эти дедовские безыдейные нужды, привычки и похоти судите не дедовским судом, прилагайте свою собственную, современную вам оценку, ибо только такой меркой измерите вы культурное расстояние, отделяющее вас от предков, увидите, ушли ли вы от них вперед или попятились назад» [1990, с. 358].
5. Масштаб оценки
Особая проблема – масштабы «реки живой» культуры как бесконечной цепи творческих актов «здесь и сейчас». Вырванные из контекста отдельные моменты ее эволюции – наличный, но явно недостаточный материал для философско-исторической оценки зрелости культуры как системы-процесса.
В таких парадоксальных для линейного мышления свойствах – глубокие основания: любой процесс может быть объективно и всесторонне оценен лишь при условии развертывания всего богатства своей сущности.
А. Сен-Симон подчеркивал, что исследования степени зрелости общества «могут быть поучительны и полезны лишь в том случае, если производятся в большом масштабе и относятся к общественной системе в целом или наиболее существенным ее элементам. Если же они производятся к слишком близкой эпохе или же произведены со слишком частной точки зрения, то они могут лишь породить новые заблуждения» [т. 2, с. 33].
Сова Минервы вылетает только в полночь, и «большое видится на расстоянии». Исторический масштаб – предпосылка приближения к «классической ясности» оценки (К. Маркс). Предел ее минимизации это оценки не только прогрессивной, но и регрессивной эпох развития конкретно-исторических КЦК. «Если я отрицательно отношусь к данному общественному строю, – писал Г. Плеханов, – то мое отрицание «разумно» только в том случае, когда оно совпадает с тем объективным процессом отрицания, который происходит в собственных недрах этого строя, т. е. когда этот строй утрачивает свой исторический смысл» [т. 1, с. 455].
Исходя из совокупности изложенных принципов, интегративным, или «высшим» критерием зрелости культуры/цивилизации, как единого органического процесса, может быть становление, развертывание и реализация потенциала, обогащение исторически определенной меры гуманизации и освобождения субъектов культуротворческой деятельности в масштабах всемирной истории, ее социокультурных моделей или эпох. В таком контексте цивилизация – «свое-другое» культуры, и предложенный высший критерий позволяет оценить единый вектор и «лад» между двумя ипостасями культурно-цивилизационной целостности.
Однако между культурой и цивилизацией систематически наблюдаются и эпохи разлада, дисфункции цивилизации, ее «эдипова синдрома» в отношении культуры. Возможно ли распространить единый критерий на такие эпохи. Ответ на этот, по Гегелю, «с трудом поддающийся определению» вопрос объясняется почти не поддаюшейся меркам обыденного сознания «дистанции огромного размера» между культурой и цивилизацией, дистанции между абстрактно-умозрительным для «человека вообще» и практическим гуманизмом, ориентированным на интересы и ценности творца культуры – человека творческого (и неважно, физического или умственного) труда. В конечном счете, этот ответ может быть дан только путем анализа зрелости диалектики культуры/цивилизации в контексте их исторической цены.
2.3. Цена прогресса, или судьба девяти праведников
«Прогресс выше гуманизма»
Наполеон
«Небеса и преисподняя расположены по соседству»
Дж. Оруэлл
«Совершенные средства при неясных целях – характерный признак нашего времени»
А. Эйнштейн
«Высший» критерий зрелости культуротворческой деятельности это выражение логоса культуры/цивилизации с позиций гуманизма. Однако гуманизм – не только, говоря словами П. Сорокина, исторически «переменная величина», но и всегда – двуликий Янус, который предстает в различных ипостасях в зависимости от решения проблемы соотношения целей и средств человеческой деятельности. В этой связи в истории сложились и поныне устойчиво воспроизводятся далеко не однозначные, вплоть до альтернативности, традиции выявления цены прогресса.
Символическое ab ovo (лат. «от яйца») всех противоречий и коллизий этой проблемы предстает в Книге Бытия. Когда Бог решает покарать нечестивый Содом, Авраам, призванный Божьим именем творить «правду и суд», не допускает возможности неправого суда – покарания праведных людей – и вопрошает Творца: «Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?.. Не может быть, чтобы Ты поступил так… Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу место сие». Затем Авраам, как искусный адвокат, устраивает настоящую тяжбу с Творцом, вопрошая, не пощадит ли он город, если (в последовательном ряду) там есть сорок пять, сорок, тридцать, двадцать, наконец, хотя бы десять праведников. И тогда Бог сказал, но не всё из своего замысла: «Не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом» [Книга Бытия, 18: 19–33].
Здесь – обнаженный нерв проблемы. Изначальный гуманистический вердикт Творца очевиден, более того – он становится все более конкретным, и вдруг эта «восходящая линия» – без всякой мотивации – обрывается. Бог намерен покарать Содом, если там будет всего девять праведников. Неужели они, каждый из них, а в предельном случае, возможно, один-единственный, не только не достойны «правды и суда», но Бог даже не желает говорить о них? Неужели «десять праведников», или мини-общество, – это цель, а один праведник, да просто любой смертный – уникальный, богоподобный человек – лишь средство утверждения высшей «правды и су да»? Стало быть, никто не может быть самоцелью, и все люди – не более чем средства, в лучшем случае – много званых, мало избранных, но и среди последних – никто не сторож брату своему?
С тех пор человек ищет ответ на экзистенциальный вопрос: является он творческим субъектом и самоцелью совершенствования общества или он – его объект, а по А. Платонову – «дубъект» и средство для «праведников». Как творец своего мира, человек не может бесстрастно регистрировать триумфы и падения и вправе разрешать парадокс «зияющих высот» – проблему равноденствующей между высотами и безднами, целями и средствами.
Многие мыслители тяготеют к формуле «десяти праведников», как пределу гуманистической цены свободы. Гегель обосновал функцию человека в качестве инструмента самореализации мирового духа. Конечно же, «всемирная история есть прогресс в сознании свободы», но это абстрактная свобода, и «можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти…Частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань… бренности не из себя, а из страстей индивидуумов» [1993, с. 84]. В этом смысле «господни мельницы мелют медленно, но верно», и прогресс оказывается вампиром, который не желает пить нектар иначе, как из черепа убитого (Маркс).
Поппер писал, что Маркс ценил не гегелевскую, а «подлинную свободу», и, казалось бы, он сделал все для сокрушения неотступно требующего жертв гегелевского идола свободы. Маркс утвержал, что «цель, для которой требуются неправые средства, неправая цель». Но этот гуманизм, рассматривая в качестве высшей самоцели человека труда, а средства – его социальное освобождение, оставался детищем европейской традиции. Маркс принимал латинский афоризм: «Ничто человеческое мне не чуждо», но эта абстракция не мешала ему, говоря словами Камю, быть пророком «производства ради производства». «Он не уставал защищать Рикардо, экономиста манчестерской школы капитализма, от тех, кто обвинял его в желании развивать производство ради производства. («Он желал этого с полным основанием!» – восклицал Маркс)… «В этом и состоит его достоинство!» – подчеркивал Маркс с той же беззастенчивостью, что и Гегель… какое значение имеют человеческие жертвы, если они послужат спасению человечества!» [1990, с. 277].
Последовательно выраженная Гегелем и Марксом традиция решения проблемы цели и средств, основанная на формуле «десяти праведников», имеет многих известных последователей и даже пророков. Среди них наиболее заметен, хотя и менее однозначен в сравнении со своими предтечами, Ницше. Подобно Достоевскому, которого Фрейд подозревал в подверженности эдиповому комплексу на основании выстраданного, по его мнению, личным опытом изображения писателем характера отцеубийцы, устойчивый имидж Ницше, как «убийцы» не только Бога, но и человека, основан на отождествлении взглядов мыслителя с ниспровергаемым им фарисейским гуманизмом [Левяш, Центральный…, 2004; он же, Европейский…, 2005]. «Стремление «гуманизировать», – писал он, – есть тартюфство, под прикрытием которого вполне определенный род людей стремится достигнуть господства» [1994, с. 133]. Ницше предельно ясно формулировал ответ этого «рода людей» на главный вопрос: «Зачем?». «Есть нечто, в тысячу раз более важное, чем вопрос о том, хорошо ли нам или плохо – таков основной инстинкт всех сильных натур – а отсюда и отношение к вопросу о том, хорошо ли или плохо другим. Одним словом, возможна некая цель, ради которой без колебания приносят человеческие жертвы, идут на все опасности, берут на себя всё дурное, даже худшее: великая страсть… Жизнь есть результат войны, само общество – средство для войны… человечество просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося…» [1994, с. 46, 60, 341].
В устах Шпенглера, который наблюдал подъем фашизма в Европе, это был не отвлеченный симбиоз идеализма и варварства, а новый тип «фаустовского человека». По словам философа, формируется «высшая порода людей, которая благодаря своему превосходству в воле, знании, богатстве и влиянии воспользуется демократической Европой как послушнейшим и подвижнейшим орудием, чтобы взять в свои руки судьбы земли и как художник работать на материале «человека» [1993, с. 536].
Однако в мировой и отечественной истории всегда была альтернативная традиция. Ее «критерий ценности» – невинное дитя. Уже Новый завет осуждает «избиение младенцев» только за то, что один из них – Христос. Эта тема стала апофеозом «Божественной комедии» Данте. В обстановке мрачной религиозной нетерпимости мыслитель встал на защиту безвестного нехристианского ребенка: «Родится человек / над брегом Инда; о Христе ни слова / не слыхал и не читал вовек. / Он был всегда, как ни судить сурово, / в делах и в мыслях к правде обращен, / ни в жизни, ни в речах не делал злого. / И умер он без веры, не крещен. / И вот проклят; но чего же ради? / Чем он виновен, что не верил он?» [1987, с. 395–396].
Кант придал этому табу характер категорического императива: человек – человеку не средство, а цель. Она пронизывает и творчество Достоевского. Для него цена прогресса измеряется не «аршинами и пудами», а «слезой ребенка». Размышляя о наследии своего учителя, Розанов писал: «Показав… мнимую конечность цели, он (Достоевский) выступил на защиту не относительного, но абсолютного достоинства человеческой личности, – каждого данного индивидуума, который никогда и ни для чего не может быть только средством» [О великом, 1993, с. 95, 99]. Вердикт мыслителя: «История не есть ли чудовищное другое лицо, которое проглатывает людей себе в пищу, нисколько не думая о их счастье. Не интересуясь ими? Не есть ли мы – я в «Я»? Как все страшно и безжалостно устроено» [1970, с. 91].
Эта нить неизбывного и страстного интереса к судьбе конкретного человека, как самоцели, подхвачена Солженицыным, и у него вновь критерий ценности – дети. Его известный персонаж, «тетушка Федосевна до чужих милосердна, а дома дети не евши сидят» [1991, т. 2, с. 142]. Но не все обитатели «первого круга» российских страстей XX в. довольствуются перспективой неизменно «светлого будущего». Разжалованный, обесчещенный, но талантливый человек и поэтому привлеченный в неволе к секретным работам, – «вот понадобился и он! Вот и ему придется сейчас поработать на старуху – Историю. Он снова – в строю! Он снова – на защите мировой революции!», и его вдохновляет такая перспектива. Однако другой зэк иного мнения: «Да на хрена мне перспектива! – говорит он. – Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что ты скажешь! – бюрократические извращения, временный переход, переходный строй – но он мне жить не дает, ваш переходный строй, он душу мне топчет, ваш переходный строй…Над христианами мы издеваемся, – мол, ждете рая, дурачки, а на земле всё терпите, – а мы чего ждем? А мы для кого терпим? Для мифических потомков? Какая разница – счастье для потомков или счастье на том свете? Обоих не видно» [1991, т. 1, с. 344].
Наконец, наряду с устойчивыми традициями отношения к человеку, как к средству или цели, наблюдается тенденция к эволюции крупных мыслителей, фундаментальная инверсия «критериев ценности» в обоих направлениях. Первое из направлений инверсии представлено Белинским. Вначале в письме к В. Боткину мыслитель возвестил о разрыве с абстрактно-отвлеченным гегельянством и заявлял, что «судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб мира». Он утверждал, пишет Л. Франк, что никакая мировая гармония не удовлетворит его, если он не сможет разделить ее с каждым из «братьев по крови», что, даже достигнув «верхней ступени лестницы развития», он потребует отчета «во всех жертвах условий жизни и истории», и иначе бросится вниз головою с этой «верхней ступени». Но далее Белинский становится «неистовым Виссарионом» – страстным сторонником социальной революции – и приходит к следующей формуле: «Если для утверждения социальности нужна тысяча голов – я требую тысячи голов». Герцен рассказывал, как Белинский с горящими глазами проповедывал необходимость гильотины [Социс, 1994, № 1, с. 128].
Не уставал спорить с собой и Герцен. Известно, что он звал Русь «к топору». «Если прогресс – цель, – размышлял он, – для кого мы работаем? Кто этот Молох…? …вы обрекаете современных людей на жалкую участь… быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку… со смиренной надписью «прогресс в будущем» на флаге… Цель бесконечно далекая – не цель, а уловка». Но уже в письме к своему сыну Герцен утверждал: «Я не моралист и не сентиментальный человек. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гете, и радуюсь, что псковский оброк сделал возможным Пушкина… Виновато ли меньшинство? Тут не вина: тут трагическая сторона истории» [Т.2, с. 51, 75]. «Ход развития истории, – писал Герцен, – есть не что иное, как постоянная эмансипация человеческой личности от одного рабства вслед за другим… История есть развитие свободы в необходимости. Как выйти из этого круга? Дело не в том, чтобы выйти, а в том, чтобы понять».
Однако понять трагедию не означает принять неизбежность ее жертв. Практика реализации целей, которые оправдывают любые средства, подтверждает выдвинутый Марксом принцип: цель, для которой требуются неправые средства, неправая цель. Марксизм возвышен в своих целях, но его радикализация в теории и практике «диктатуры пролетариата» – «десяти праведников» XX столетия, дискредитировала цель.
Кто прав? Ответ не может быть однозначным, ибо свобода начинается со свободы выбора, и не человечество, а каждый человек, даже если он не «праведник», сам решает, какую цену он готов заплатить за нее – и готов ли вообще. Но конкретного человека по-прежнему не спрашивают, и «Карфаген должен быть разрушен». В условиях современности такая практика, освященная миссионерскими мотивами, обрела глобальный масштаб, и она предстает в превращенных и изощренных формах «экспорта демократии», «гуманитарной интервенции» и т. п. «Ничто не ново под Луной», и «слеза ребенка» – по-прежнему не табу. Совсем недавно, в конце 90-х гг., во время бомбежки американской авиацией Белграда, безымянный сербский подросток встал на мосту, держа плакат с надписью: «Я – цель». Одного этого Гавроша достаточно, чтобы проблематизировать понятие Современности и заново спросить вместе с П. Гогеном: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы?»
3. Полития глобализации и геополитики
3.1. От Левиафана к политике: эволюция смыслов
«Для нас уже не существует судьбы, которая подавляла бы людей, и роль древней судьбы теперь играет политика»
Наполеон
Политика «признается достойною уважения, лишь поскольку она мудро желает права, справедливости и блага целого»
Гегель
«Я разделяю прежнее определение социальных наук как «наук политических»
А. Турен
Политика всегда была неразрывно связана с государством, более того – отождествлялась с ним, и такой знак равенства стал хрестоматийным после известной книги Т. Гоббса «Левиафан» (1651). Однако исторически исходный смысл этого образа прямо противоположен. Архетипический Левиафан в библейской традиции был символом стихийной и мистической сверхмощи. Левиафан, или библейский liviatan, – одно из названий монстра водных глубин. В Книге Иова сказано: «Можешь ли удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?… помни о борьбе; впереди не будешь» [Книга Иова, 40: 20, 27]. Однако, по Исайе, в день Страшного суда «поразит Господь мечем своим… левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское» [Исайя, 27:1]. Эксперты отмечают, что «символизм этого существа, столь пугающего, что «никто не смеет тревожить его», произошел из месопотамских и финикийских мифов, в которых герой-бог сражается с богом морских глубин за установление порядка из первобытного хаоса» [Тресиддер, 2001, с. 191–192).
Из такого хаоса изначально выходили все народы, и государство было «несущим каркасом» политики и гарантом логоса, законосообразного Устроителя цивилизованного космоса. В мировидении античного мира были выработаны такие смыслоконцепты, которые стали непреходящими архетипами и хорошо узнаваемы в мире современной политики.
Сivis – гражданин города-государства, по определению Аристотеля, это zoon politikon – политическое животное, т. е. прежде всего субъект политики. Понимание ее сути отражено в сопряжении таких понятий, как poli – множество и tikos – интересы. Позднее интерес препарируется как inter – между и esse – бытие, т. е. по смыслу «между-бытие», совокупное бытие людей, требующее упорядочения, согласования, регулирования.
Архетип понятия «политика», пришедшего в русский язык через польское polityka, а в последний – через латинское politica, следует из существа понятия «полис» как города-государства. Латинское слово politio означает: «разглаживание, полировка, обработка, возделывание» [Дворецкий, 1984, с. 594]. Последний из этого ряда смыслов совпадает с одним из значений латинского же слова cultura («возделывание, обработка, уход, разведение»), причем именно в благоприятном развитию живого смысле. Второе значение английского слова police, почти повторяющего греческое polis, переводится на русский язык и как «охранять», что тоже вполне отвечает смыслу «экологической» компоненты слова cultura (охрана как способ защиты «возделываемой», культивируемой жизни, и словами «поддерживать порядок», «чистить», которые принадлежат экологическому словарю» [Полис, 1997, № 4, c. 98, 100].
Х. Арендт обратила внимание на исторически ограниченный смысл политики в античной, конкретно – в аристотелевевской интерпретации гражданина полиса как zoon politikon – субъекта bios politicos. Для Аристотеля жизнь в обществе не считалась специфически человеческой особенностью, а, наоборот, чем-то общим в жизни человека и животного. Поэтому данную непреложность нельзя было относить к коренным условиям человечности. Естественная, общественная совместная жизнь человеческого рода принималась Стагиритом за ограничение, наложенное надобностями биологической жизнедеятельности.
Главная особенность – в представлении о «биос политикос» как политической деятельности в тесном смысле. В греческом понимании ни труд, ни создание (изготовление) вещей вообще не могли сформировать образ жизни, достойный свободного человека и манифестирующий его свободу. Служа добыванию необходимого и полезного производству, труд и ремесло, как судьба и удел «одушевленных орудий» – рабов, оставались несвободными, будучи продиктованными витальными нуждами и желаниями людей. Под эту категорию необходимого и полезного жизнь в сфере полиса подпадать не могла, ибо в восприятии гражданина полиса-государства собственно политическое возникало там, где люди начинали упорядоченную совместную жизнь [НГ, 22.03.200].
Греч. politice – это синоним политической культуры как мудрости и искусства управления государством. Аристотель подчеркивал, что из интересов «одинаковых людей» возникает семья, а политика зиждется на согласовании интересов «разных людей». Политика предстала как универсальная творческая форма, т. е. способ самоутверждения человека в социуме. Жизнь в политике – выражение естественной сущности «очеловеченного» существа – субъекта культуры/цивилизации. Общество и государство тождественны, и назначение последнего в том, чтобы быть политическим сообществом людей, которые объединяются для достижения всеобщего блага [История…, c. 160, 161].
Непреходящие смыслообразующие категории политики – гражданская свобода и ответственность, противоречиво связанные с равенством и справедливостью. Эти ценности незаменимы для преодоления социального хаоса, «bellum omnium contra omnes» (лат. «война всех против всех») или
принципа «homo homini lupus est» (лат. «человек – человеку – волк») и достижения космоса упорядоченных договорных связей между людьми. Античные мыслители исходили из их антропной природы, и «по отношению к тем животным, которые не могут заключать договоры, чтобы не причинять и не терпеть вреда, нет ни справедливости, ни несправедливости, – точно так же, как по отношению к тем народам, которые не могут или не хотят заключать договоры, чтобы не причинять и не терпеть вреда» (Эпикур). «Справедливость не существует сама по себе; это – договор о том, чтобы не причинять и не терпеть вреда, заключенный при общении людей и всегда…, где он заключается» [Диоген, 1979, с. 440–441].
Политическая культура, по Платону, отождествлялась с «царским искусством», которое «прямым плетением соединяет нравы мужественных и благородных людей, объединяя их единомыслием и дружбой, и создавая таким образом великолепнейшую из тканей» [Т. 3, ч. 1, c. 82) совместной упорядоченной жизни. В платоновском идеале было нечто, что, не достигая абсолюта «золотого века», кумулировало вполне реальный опыт – относительную, но ставшую архетипом, модель цивилизованного политического сообщества людей как воплощенного смысла первой в европейской истории гуманистической культуры.
В эпоху европейского Средневековья смысл политики претерпел существенную эволюцию. В 802 г. император Карл Великий привел своих подданных к присяге. «Клятву должны были произнести все мужчины…, «каждый христианин» и «абсолютно все без исключения». Эта клятва означала признание у рабов души, того нравственного потенциала, который и придавал значение их присяге. Нравственные принципы, ассоциироваавшиеся с формулой «христианский народ», произвели коренной переворот в умах…» [Зидентоп, 1991, с. 253]. Апелляция к нормам христианской морали – уважению личности и свободы ее совести – в корне отличались от религиозных основ большинства человеческих сообществ. В фундаменте незримой «конституции» лежал принцип универсализма.