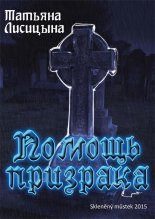Фотография и ее предназначения Бёрджер Джон
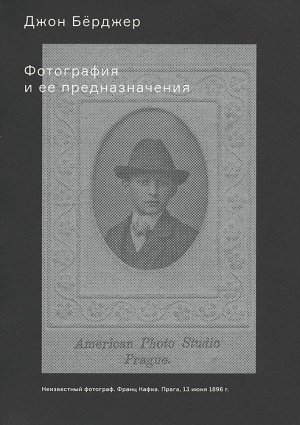
John Berger
Canongate
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014, 2017, 2024
Апология бокового зрения
В этот сборник Джона Бёрджера (1926–2017) вошли в основном эссе об искусстве, ведь даже если он пишет о технических свойствах фотографии или о политических манифестациях, то в первую очередь оценивает их с точки зрения «культурного выхлопа»: символического значения и красоты результатов конкретного действия. Поэт и прозаик, критик и искусствовед, теоретик и практик искусства, а также режиссер, актер и телеведущий (плюс, разумеется, публицист и общественный деятель, эстет и левак, марксист и французский фермер, остряк и, в конечном счете, культовая величина), Джон Бёрджер создал (синтезировал, структурировал) особый стиль и способ сторителлинга, в котором всяческие искусства, художественные школы и направления, а также отдельные творческие биографии исполняют роль персонажей и фабульных фигур. В залихватских рецензиях подобный подход интеллектуального письма обозначают обычно «приключением мысли»: авторский захват фактур здесь всегда шире заявленной темы и подразумевает массу подводных течений и интересов, многоуровневый нарратив, способный раскрыться позже, через углубленное понимание контекста. Чем дольше ты находишься внутри такой книги, тем она действеннее и глубже, так как второе дыхание, подключающееся к ее содержанию, принадлежит уже читателю. Его восприятию.
Но если брать лишь узкий спектр прикладного искусствознания Бёрджера, интонационно повлиявшего на нынешнее понимание актуальной культуры (и ощутимо расширившего его), то более всего поражает, с каким методичным и виртуозным вниманием он вглядывался в эти отдельно взятые, вычлененные из исторического или медийного потока картины и фотографии, биографии авангардных художников и всяческие культурные, а также общественные явления вроде кубизма или же политической демонстрации. А затем Бёрджер концентрировал опыт своего переживания в цепочках снайперски точных определений, одна из важнейших задач которых – попытаться освежить взгляд на привычные явления нашей жизни, обычно воспринимаемые «на автомате», вроде воскресного культпохода, еще одного газетного заголовка, рекламного коллажа на журнальном развороте или шокирующего снимка на первой полосе – это когда «пунктум» побеждает «стадиум», целиком забирая всё внимание от механизма воздействия на себя [1].
В эссе «Страдания в кадре» Бёрджер объясняет как такой тщательно отобранный кадр воздействует на зрителя: «Подобные мгновения, снятые или нет, оторваны от любых других. Они существуют сами по себе. Однако читатель, которого захватила фотография, возможно, ощутит этот разрыв, скорее, как собственную моральную неадекватность. А как только это произойдет, рассеется даже ощущение шока: теперь собственная моральная неадекватность способна шокировать его так же сильно, как и преступления, совершаемые на воине…»
Сторителлинг Бёрджера делает видимым и очевидным до сих пор неочевидное (почитаемое за данность) и невидимое, стертое инерцией повседневности. Там, где глотатели пустот механически переворачивают очередную газетную полосу, отводя глаза от неприятного снимка с телом убитого Че Гевары (по ходу дела Бёрджер эффектно сравнит его с холстами Мантеньи и Рембрандта), автор погружается в размышления о странной связи правды и мифологии, биографии конкретного человека, заклинающего собственную судьбу, ну и специфики жанра репортажного снимка. Впечатление от черно-белого оттиска зашкаливает. Думая над увиденным, Бёрджер не может остановиться, чувства переполняют его, провоцируют новые приступы рефлексии. Десятого октября 1967 года, закончив очерк «Образ империализма», посвященный смерти Че Гевары и оставленному ею фотографическому следу, Бёрджер пишет вторую колонку на ту же самую тему. Теперь судьба революционера подается им с совершенно иного ракурса. Разворачиваясь в историософский экскурс о восприятии революционерами собственных рисков до и после Французской революции. О самоощущении человека, выбившегося из инерции.
«То, что нам показывают, нас ужасает. Следующим шагом с нашеи стороны должно стать столкновение лицом к лицу с собственнои нехваткои политическои свободы. В существующих политических системах у нас нет законнои возможности эффективным образом влиять на ведение воин, развязанных во имя нас. Осознать это и поступать соответственно – единственныи деиственныи способ откликнуться на то, что изображено на фотографии. Однако двоиное насилие, которым сопровождается запечатленныи момент, на деле противодеиствует этому осознанию. Вот почему газеты безнаказанно публикуют подобные фотографии…»
Главным персонажем этого концентрированного выплеска, продолжающего размышление о Че Геваре, становится Сен-Жюст, а мы вынуждены идти дальше – ведь каждое эссе в этом сборнике, покуда читаешь его, композиционно кажется главным. Именно это, а не все предыдущие. Ловишь странный эффект – пока воспринимаешь тот или иной текст Бёрджера, именно он перемещается в центр. Это его назначаешь главным – вот, пока не испарилось послевкусие, – и снимаешь, с полки том коллекционера и критика, поймавшего ауру («Вальтер Беньямин»). Или сборник рифмованных лесенок главного русского футуриста («Владимир Маяковский, его язык и его смерть»). Ну или же альбом картин Фрэнсиса Бэкона («Фрэнсис Бэкон и Уолт Дисней»), или антропологически безошибочных портретов Августа Зандера («Костюм и фотография»). Разыскиваешь в сети коллажи Джона Хартфильда («Использование фотомонтажа в политических целях») или же архитектурные примеры «машин для жилья» («Ле Корбюзье»). Близость к открытиям Бёрджера хочется длить как можно дольше, раз уж они обогащают палитру нашего собственного понимания и столь решительно отвлекают от окружающей реальности, делая восприятие искусства чем-то самодостаточным и бытийно важным. А после переходишь к следующей, соседней, колонке – и теперь уже она оказывается самой важной, насыщенной и остроумной.
Акценты в статьях Джона Бёрджера, разворачивающихся поначалу будто бы необязательным рассуждением в режиме «свободного полета мысли», смещаются в сторону онтологии плавно и примерно так же, как роль искусства в жизни общества. Первоначально искусство выражало что-то сакральное, затем символизировало богатство. Позже вместе с наукой пыталось отражать реальность, первоначально – наглядную и очевидную, затем – абстрактную и подчас умозрительную. Некоторое время искусству отводили роль главного социально-политического и общественного критика. Но и это прошло. В статье «Искусство и собственность в наши дни» Бёрджер констатирует, что теперь искусство докатилось до игрушечного функционала: «Иными словами, теперь произведения искусства можно выпускать промышленным способом, им не обязательно иметь ценность раритета. Им не обязательно иметь даже фиксированное надлежащее состояние, в котором их можно сохранять, – их можно постоянно менять, переделывать. Подобно игрушке, произведение искусства снашивается…»
Даже по тем пяти книгам Джона Бёрджера, изданным Ad Marginem [2], можно увидеть, насколько широк диапазон его тем и возможностей. А еще о важности для этого автора неотменимой «русской культуры». Достаточно заглянуть в английскую Википедию, чтобы удивиться количеству книг и публикаций Бёрджера, который до самого смертного часа, кажется, не бездельничал ни минуты и упражнялся в различных жанрах и видах творческой деятельности. А если и не писал об увиденном, то думал о нем, делал наброски для будущих текстов или фильмов. Ну или же посещал очередную ретроспективу.
Разнообразием подходов и тем, впрочем, дело не ограничивается. Помимо прагматики нового знания классический, кристально чистый стиль рассуждений Бёрджера, никогда не стоящий на месте и развивающий концепты и авторские догадки от абзаца к абзацу, имеет самодостаточную эстетическую ценность как нарратив какого-то нового типа. А уж углубляться в приятные для себя материи Бёрджер может бесконечно – во многих эссеэтого сборника, вместившего тексты, написанные с 1965 по 1979 год, возникают важные методологические или фактологические отступления, требующие вагоны специальных изысканий. В переживании причин самоубийства Владимира Маяковского Бёрджер с уверенностью знатока объясняет особенности строения русских слов, создающих дополнительные возможности поэтической речи. То есть речь здесь идет не только о лингвистике, но и о поэтике. В очерке о кубизме автор и вовсе продумывает собственную, параллельную общепринятой историю европейского искусства на протяжении всех ее веков, объясняя логику стилистических и формальных изменений своим особенным, нестандартным образом:
«Искусство Бэкона по сути конформистское. Сравнивать этого художника следует не с Гоиеи или ранним Эизенштеином, а с Уолтом Диснеем. Оба они выносят суждения по поводу отчужденного поведения в современном обществе; оба, каждыи по-своему, убеждают зрителя принять то, что есть. У Диснея отчужденное поведение выглядит смешным и сентиментальным, а потому приемлемым. Бэкон подобное поведение интерпретирует в свете того, что самое худшее из всего возможного уже произошло, и потому выдвигает мысль о том, что и отказ, и надежда бессмысленны».
Бёрджер ведь явно видит важнейшую свою задачу именно в том, чтобы останавливаться там, где другие пробегают мимо. Нам же всем постоянно некогда, из-за чего формулирование собственных суждений мы передаем на субподряд другим людям, способным вызывать интеллектуальное (да и какое угодно) доверие – во-первых, своей опытностью, во-вторых, бескорыстием. Вот таким людям, как Джон Бёрджер, делающим локальные открытия в каждом своем очерке или эссе. Именно эта его способность углубляться в то, что кажется привычным и очевидным, представляется мне сейчас такой важной – она позволяет не только присоединяться к его исследованиям, но и совершать свои.
Тут еще важно, что, имея марксистский бэкграунд, Бёрджер говорит как бы от лица не «гения» и «творца», но «обычного потребителя» культурной продукции, раз уж речь идет о повседневной жизни. Несмотря на презрение, с которым он описывает профана, гнущего шею перед Боттичелли в Галерее Уффици («Они постояли достаточно близко к полотнам Боттичелли, чтобы убедиться: это – заключенные в рамы куски дерева или холста, которые можно заполучить в собственность…»), Бёрджер и сам повседневно потребляет картины и фотографии без ложного пафоса причастности, рассуждая об увиденном с точки зрения того, кто купил билет в музей и смотрит, а не того, кто это самое высокое искусство творит и делает. Ведь мотивация художника всегда судьбоносна: творение – это акт экзистенциальной ценности, тогда как потребление искусства вариативно и, чаще всего, необязательно. Можно смотреть кино, а можно сериал, можно выбрать галерею методом перебора афиш на сайте, а можно пойти на концерт или вовсе остаться дома сидеть на диване. На передний план здесь выходит проблема правильного выбора и отбора, тем более что современное предложение многократно превосходит спрос. Это значит, что особенно значимыми оказываются вопросы вкуса и знаточества, насмотренности. Именно они способны отделять в глобальном супермаркете духовных ценностей зерна от плевел, позволяя вкушать изысканные яства картинных галерей и частных собраний без опасности отравиться чем-нибудь поддельным.
Именно осознанное потребление позволяет ощущать себя знатоком искусства, делая посещение музеев и концертных залов осмысленным и, следовательно, продуктивным. Не пустым и полезным. Отличие Бёрджера от своего читателя в том, что он потребляет художественные ценности еще и с точки зрения их политического значения. У него ведь не только писательский талант, но и продуманная, явно выстраданная гражданская позиция. Можно восхищаться классикой или авангардом из эстетических пристрастий, можно пересчитывать в голове потенциальную стоимость всех этих кусков холста в золоченых рамах, а можно видеть в экспонатах очередного выставочного блокбастера орудие капиталистического производства, создающего спрос на самого себя у всё тех же самых профанов, что, попав в Флоренцию, «сдаются на часовую или двухчасовую экскурсию, во время которой им не удается сделать никаких открытии…»
На самом деле такая бескорыстная тревога о чужом времяпрепровождении выдает его собственный подспудный страх. Подобно всем другим людям, живущим в постоянном контакте с актуальными культурными практиками, Джон Бёрджер пытается найти и определить смысл самых простых и очевидных действий. Что дает нам культпоход в художественный музей? Ведь, в самом-то деле, мы туда не за красотой идем и не за новыми знаниями, которые можно найти в книге или в интернете, не покидая квартиры. Но что заставляет нас, преодолевая непогоду, хандру и порой разбитое физическое состояние, идти в общественные пространства, наделенные специфическим уютом пустоты, вместо того чтобы валяться у экрана? Только нахождение смысла делает любые усилия незряшными, затраты оправданными и приносящими хотя бы символическую прибыль.
Кажется, что Бёрджеру непонятна (даже неприятна?) эта блажь и слабость, делающая его особенно уязвимым, расслабленным – привычка тратить массу времени и сил на премьеры и вернисажи, опосредованно иллюстрирующие общественные и социальные процессы вокруг да около, раз уж к реальности невозможно прорваться напрямую и нужны посредники. Обойтись без них он не в состоянии – постоянная подпитка впечатлениями необходима, но, может быть, следовало бы заняться чем-то иным, более продуктивным? Да попросту какой-то иной «инфраструктуры культуры», как Адорно называл эти выхолощенные и выхолащивающие суть механизмы капиталистического хозяйства в «сфере духа», не существует. Приходится довольствоваться теми институциями, что цивилизация сначала породила, затем пестовала до полного их перерождения в нечто прямо противоположное первоначальному импульсу-смыслу.
«Проидите по улице с частными галереями, – вряд ли стоит описывать дилеров с лицами, похожими на шелковые кошельки. Всё, что они говорят, произносится для того, чтобы завуалировать и скрыть их настоящую цель. Если бы произведения искусства можно было не только покупать, но и спать с ними, они были бы сутенерами; правда, будь это так, тут можно было бы предположить некую любовь – на самом же деле они мечтают лишь о деньгах и славе…»
Конечно, знаменитые арт-теоретики многое объясняют здесь замаскированной зависимостью от денежного мешка и от подкупа мировым капиталом, но он-то, эстет и умница Джон Бёрджер, тут причем? Почему и он тоже должен тратить себя и тратиться на то, что производят другие? В конце концов, почему ему всё это так нравится? Возможно, потому что в секулярном обществе «духовное» и «спиритуальное» выглядит именно вот таким, «музейно отработанным» образом? Дух более не веет, где хочет, но вынужден прикрепляться к стандартизованным институциям и процедурам, всяческим устойчивым жанрам, вроде экскурсий или сознательно выстроенных медитаций перед скульптурами и холстами.
«Уже двадцать лет я, подобно Диогену, ищу человека, испытывающего подлинную любовь к искусству; наиди я такого, я вынужден был бы отбросить собственное отношение к искусству, неизменно и открыто политическое, как поверхностное, как акт измены. Подобного человека я так и не нашел…»
Тут, между прочим, наклевывается некоторое методологическое противоречие: если культурное потребление делается понятным и осмысленным только с идеологической точки зрения, то тогда, чтобы доказать их истинность через действие, надо идти вслед за убеждениями, бросать пошлую буржуазную жизнь с премьерами да вернисажами и становиться революционером. Желательно бескомпромиссным ниспровергателем старого. Что, впрочем, особой удачи не принесет – как не принесло оно самоубийцам вроде Маяковского или Беньямина или же Че Геваре, мучительно погибшего в Боливии. Своими эссе Бёржер наглядно объясняет, что любой радикал почти всегда (исключений практически нет) обречен на поражение и гибель, так что лучше, конечно, лишний раз сходить залы Королевской академии художеств, ну или в Лувр.
Тем не менее, Джон Бёрджер бросает родной берег и привычную среду обитания, эмигрирует, уезжает из городов, становится фермером – выбивается из формата как может. Причем не только в реальной жизни, но и в литературе. Революционность творчества Бёрджера заключается в том числе и в нестандартных подходах к стандартным вещам вроде фотографии, потребляемой нами ежедневно в каких-то диких количествах. Про живопись ему, конечно же, писать гораздо интереснее – здесь всегда есть где разогнаться, но именно фотография становится у Бёрджера базовой метафорой будничных культурных процессов, обычно проникающих в быт и в сознание людей без какой бы то ни было внятной рефлексии. Бессловесно.
Особенно когда сам не снимаешь, но смотришь чужие снимки на различных носителях (Бёрджер пока не знает о цифре – и это важно: все потоковые технологии у него еще впереди, а одна из важнейших функций эссе, собранных под этой обложкой, – быть еще и памятником человеческой мысли «доинтернетной» эпохи), в изданиях или соцсетях, как это и предполагает автор, извлекающий пользу из печатной продукции «с той стороны зеркального стекла»…
Бёрджер весьма озабочен меновой стоимостью произведений искусства – тем, что любовь к живописи и скульптуре подчас является замаскированным инстинктом купить-продать. В этом смысле фотография, которой в этом сборнике он уделяет особенно пристальное внимание, – важное подспорье в борьбе с элитарностью. Фотография помогает преодолеть буржуазно-коммерческую сущность искусства средствами самого искусства. Его новых возможностей массового и бесконечного копирования. Особенно теперь, когда интернет позволяет публиковать любое количество снимков на безграничном числе фотопорталов или же в соцсетях.
Так человечество переходит к какой-то новой стадии (для удобства назовем ее «пост-искусством», требующим новых жанров и «пост-нарративов») публикаторских возможностей, и, следовательно, новому градусу потребительской ажитации-изжоги, окончательно стирающей границу между «творцом» и «зрителем». Развитие и расцвет искусства Бёрджер напрямую связывает с развитием капитализма: «Значит ли всё это, что долговечное, уникальное произведение искусства отслужило свое? Его расцвет совпал с расцветом буржуазии – значит ли это, что им предстоит исчезнуть вместе?» Здесь меня особенно трогает местоимение «им»: себя-то Бёрджер явно выносит за скобки медленного исчезновения того, что ныне так распространено. Этим он напомнил мне Василия Розанова, описывавшего в одном из своих «Коробов», как он сидел на Тверском бульваре, долго смотрел на разношерстную толпу и думал: «Неужели же они все умрут?»
Симптоматично, что тексты этой книги Бёрджера, фиксирующего «мир переходных состояний» и диалектики перехода из ниоткуда в никуда, особое внимание обращают как раз на поэзию и фотоснимки – два вида творческой деятельности, ставших особенно массовыми после появления интернета. В «Очерке веры», посвященном авангардистам нидерландской группы «Стиль» (De Stijl), Бёрджер выкликает уже и наше с вами будущее: «Индивидуум должен затеряться и вновь наити себя в универсальном. Искусство, полагали они, стало черновои моделью, с помощью которои человек может наити способы контролировать и упорядочивать свою среду целиком. Когда такои контроль установится, искусство, возможно, исчезнет вообще…»
Они ведь, фотография и лирика, чем-то между собой методологически схожи. Хотя бы широтой назначающего жеста (буквально – «я так вижу…»), а еще субъективностью свидетельства, необходимостью достраивать произведение, подпитывающееся от контекста (любого). Раз уж смысл снимка и стихотворения зависит от того, кто его сделал, один и тот же кадр способен рассказывать самые разные истории, если мы узнаём, что его снял не безымянный бармен из пляжного кафетерия, но, к примеру, Хемингуэй. Точно так же любая захудалая графомания, авторизованная звучным именем, почти мгновенно способна обратиться в раскованный эксперимент с выходом за рамки конвенции и даже элементами институциональной критики.
Мир достиг предела развития («самое худшее уже произошло», говорит Фрэнсис Бэкон и это «то, что человек рассматривается как безмозглое существо», отныне «человек – несчастная обезьяна…»), а теперь и вовсе разваливается на части: последними гениями полноты оказались кубисты и члены группы «Стиль», после чего всё на планете покатилось по наклонной. Фотография, неуемно распространяющая фотоснимки как осколки того самого старого мира, пытается склеить реальность во что-то хоть сколько-нибудь приемлемое. «Доступ к реальности», осуществляемый с помощью камеры, следует понимать именно в этом смысле: цельность более недоступна, но ее можно заменить (подменить) набором изображений, раз уж каждый конкретный снимок – это то, что мы видим в данный момент. Буквальный образ настоящего.
Фотография для Бёрджера – рефлексия о рефлексии, вторичная, если даже не третичная, моделирующая система, а фотоискусство (как и поэзия, заряженная социальной активностью и даже мессианством) не только участвует в политической пропаганде и осуществляет доступ к реальности, но еще и позволяет превратить тиражирование в бескорыстный творческий акт. Правда, помимо всего прочего, эта бескорыстность творения таким странным, парадоксальным способом вписывается в механизмы уничтожения индивидуальности – процесса неизбежного и неизбывно выхолащивающего антропологическую сущность современного человека. Эссе «Как меняется образ человека», открывающее книгу, ровно об этом кризисе портрета как упадке уже даже не уровня технического мастерства, но человеческого восприятия, за последние пару веков ужасно измельчавшего.
Другой вопрос: почему и зачем мы снимаем, останавливаем мгновение, убиваем единицу времени, переводя ее в оттиск или отпечаток? Показательно, что в рассуждениях о чужой фотографии Бёрджер почти всегда касается других теоретиков этого вида искусства, обращаясь к тезисам то Беньямина, то Барта, то Сонтаг. Они ведь тоже точно так же, практически на ощупь, выдувают на эту тему собственные, как это называл поэт Алексей Парщиков, «фигуры интуиции». Потому-то сочинения, посвященные теории фотографирования, слегка напоминают джазовые импровизации – порой в конце своих логических цепочек они и сами не способны указать на то, чем сердце успокоится.
Сторителлинг фотографической теории поэтичен, высокохудожественен в лучших своих проявлениях, предельно субъективен. Он предполагает сугубо авторский взгляд на процесс того, как фотография воздействует на современного человека, из-за самых разных потребностей и способов потребления. Логично же, что у каждого писателя они свои, и Беньямин пользовался чужими снимками не так, как Сонтаг. Причем субъективность удваивается, а то и утраивается, если иметь в виду, что фотография является материализацией конкретного взгляда конкретного человека, овеществлением его интенции, направленности на тот или иной объект. Существующие в ситуации стихийного гандикапа, для того чтобы быть понятыми и оцененными другими людьми, все мы так или иначе должны проявлять свои способности вовне. Иначе каковы будут возможности и критерии твоей собственной творческой значимости? И чем тогда ты будешь отличаться от соседа, раз уж на слово веры больше нет? «А если я сны гениальные вижу?» – вопрошает один из персонажей Дмитрия Галковского.
Между прочим, сны тоже ведь можно по-бартовски раскладывать на фотографические «пунктумы» и «стадиумы», атмосферные особенности ситуативных контекстов и нарративные ссадины. Отныне сон очень даже легко присваивается камерой и существует в виде файла, даже если никогда не будет просмотрен. Неслучайно в своей фотографической рефлексии эпохи перехода от «лампы» к «цифре» Бёрджер вновь идет следом за олдскульными Беньямином и Бартом.
Жил Джон Бёрджер много позже эпохи географических открытий, достижений психоанализа и кризиса уже не только высокого модернизма, но и концептуализма с постмодерном. Он посвящает очередное фотографическое эссе Сюзан Сонтаг как наследник опыта ХХ века, плавно переходящего к нынешнему веку и даже тысячелетию. Ведь пише он уже даже после Сонтаг, которую пережил. А это накладывает самый непосредственный отпечаток на стиль его примеров и ментальных конструкций.
Так в статье 1967 года он еще только предполагает о существовании выставки какашек [3] как о потенциально возможном недоразумении, а мы-то видели уже не только дерьмо художника, закатанное в консервные банки, но и картины, написанные слоновьими экскрементами. Тем не менее тексты Джона Бёрджера экзистенциально искренни и проникновенны, поэтому они настоящие и не устаревают, хотя уже и взяты в кавычки да в скобки, как любые «литературные памятники», заслуживающие не только уважения и изучения, но еще и почитания «в ряду» себе подобных – в той самой цепи творцов опыта, отработанного культурой и навсегда растворенного в ней; опыта, образующего классику традиции и потому всегда видимого боковым зрением, опыта, без которого невозможно отыскать и сформулировать что-то действительно новое.
Делать ранее невидимые черты мира заметными и очевидными Джону Бёрджеру позволяет уникальная широта его писательского горизонта. Она непредсказуема в комбинаторике контекстов и способна, кажется, сочетать всё со всем. Причем с такой заразительной силой, что и читателю тоже ведь может достаться немного нового знания. Выдающиеся художники расширяют возможности нашей оптики и понимания, их вклад уже не развидеть. Классическая эстетика требует уравновешенного сочетания всех составляющих, тогда как нынешнее расширенное и нестандартное понимание красоты (в том числе и того, что раньше казалось ошибкой), извлекаемой буквально отовсюду, позволяет увидеть окружающую действительность под новым и острым углом зрения.
Дмитрий Бавильский
Фотография и ее предназначения
Как меняется образ человека на портрете
Мне представляется маловероятным, чтобы в будущем появились какие-либо новые значительные портреты. Речь идет о портретной живописи, как мы понимаем ее сегодня. Могу представить себе некие мультимедийные композиции, посвященные тому или иному персонажу. Но они не будут иметь никакого отношения к тем работам, что висят нынче в Национальной портретной галерее.
Не вижу причин оплакивать уход портрета: талант, некогда задействованный в написании портретов, может быть использован по-другому, поставлен на службу более актуальным, более современным целям. Однако стоит задаться вопросом, почему портретная живопись устарела; это поможет нам более ясно понять современную историческую ситуацию.
Начало упадка портретной живописи, говоря приблизительно, совпало с подъемом фотографии, а значит, самый первый ответ на наш вопрос – которым задавались уже в конце ХIХ века – состоит в том, что место художника-портретиста занял фотограф. Фотография оказалась точнее, быстрее и куда дешевле; благодаря ей портретное искусство стало доступным для всего общества – прежде такая возможность была привилегией очень малочисленной элиты.
Желая противопоставить что-то ясной логике этого довода, художники и их покровители изобрели ряд загадочных, метафизических качеств, которые призваны были доказать, что в портрете, написанном художником, есть нечто ни с чем не сравнимое. Душу модели способен интерпретировать лишь человек, не машина (фотоаппарат). Художник имеет дело с судьбой модели, фотоаппарат – лишь со светом и тенью. Художник выносит суждения, фотограф фиксирует. И так далее, и тому подобное.
Всё это не соответствует истине по двум причинам. Во-первых, отрицается роль фотографа как интерпретатора, а она существенна. Во-вторых, утверждается, будто портретам свойственна некая психологическая глубина, которой девяносто девять процентов из них совершенно не обладают. Если уж рассматривать портрет как жанр, следует вспоминать не горстку выдающихся полотен, но бесконечные портреты местной аристократии и знати в бесчисленных провинциальных музеях и ратушах. Даже средний портрет эпохи Возрождения – пусть он и подразумевает существенное присутствие личности – обладает крайне малым психологическим содержанием. Древнеримские и египетские портреты удивляют нас не потому, что им присуща глубина, но потому, что они очень ярко демонстрируют нам, как мало изменилось человеческое лицо. Способность всякого портретиста обнажить душу – миф. Есть ли качественная разница между тем, как Веласкес писал лицо, и тем, как он писал зад? Те сравнительно немногочисленные портреты, где действительно видна психологическая проницательность (некоторые работы Рафаэля, Рембрандта, Давида, Гойи), предполагают личный, граничащий с одержимостью интерес со стороны художника, такой, который попросту не укладывается в профессиональную роль портретиста. По сути, эти работы – результат поисков самого себя.
Рафаэль. Портрет мужчины. 1502
Рембрандт. Портрет мужчины. 1632
Задайте себе следующий гипотетический вопрос. Допустим, существует какая-то фигура второй половины ХIХ века, которая вас интересует, но изображения лица которой вы ни разу не видели. Что вам больше хочется найти: портрет этого человека или фотографию? Ответ на вопрос, таким образом сформулированный, склоняется в пользу живописи. Логичнее спросить так: что вам больше хочется: найти портрет этого человека или целый альбом фотографий?
До изобретения фотографии портретная живопись (или скульптура) была единственным средством зафиксировать и представить внешность человека. Фотография перехватила у живописи эту роль и одновременно сделала нас более разборчивыми в суждениях о том, что должно включать в себя информативное внешнее сходство.
Я не хочу сказать, что фотография во всех отношениях стоит выше портретной живописи. Она более информативна, более показательна в психологическом смысле, в целом более точна. Однако в ней нет столь тесного единства. Единство в произведении искусства достигается в результате ограничений, налагаемых способом изображения. Необходимо преобразовать каждый элемент, чтобы найти ему нужное место в рамках этих ограничений. В фотографии это преобразование в значительной степени осуществляется механически. В живописи каждое преобразование – как правило, результат сознательного решения художника. Таким образом, единство, свойственное живописи, в куда большей степени проникнуто намерениями автора. Полный эффект, производимый картиной (в отличие от ее правдоподобия), менее произволен, чем эффект фотографии; конструкция ее лучше вписана в социальный контекст, поскольку она основывается на большем количестве решений, принимаемых человеком. Фотопортрет может обнажать больше, точнее передавать сходство и характер модели; однако он, скорее всего, будет менее убедителен, менее окончателен (в строжайшем смысле этого слова). Например, если художник намерен льстить или идеализировать, он сможет сделать это куда убедительнее с помощью картины, чем с помощью фотографии.
Франсиско Гойя. Портрет актрисы Антонии Сарате. 1810–1811
Этот факт позволяет нам яснее разглядеть настоящую функцию портретной живописи во времена ее расцвета – функцию, которую мы обычно сбрасываем со счетов, когда сосредоточиваемся на небольшом числе выдающихся «непрофессиональных» портретов работы Рафаэля, Рембрандта, Давида, Гойи и других. Функцией портретной живописи было подтверждать и идеализировать избранную социальную роль модели. Представлять модель не как «личность», но как личность монарха, епископа, землевладельца, купца и так далее. У каждой роли были свои общепринятые качества и свой допустимый предел расхождений. (Монарх или папа мог быть куда более характерным, нежели обычный джентльмен или придворный.) Роль подчеркивалась позой, жестами, одеждой и фоном. Тот факт, что ни модель, ни преуспевающий профессиональный художник почти не были вовлечены в написание этих деталей, нельзя целиком объяснять экономией времени; их считали общепринятыми атрибутами данного социального стереотипа, по замыслу они так и должны были прочитываться.
Поденщики от живописи никогда особенно не выходили за пределы стереотипа; крепкие профессионалы (Мемлинг, Кранах, Тициан, Рубенс, Ван Дейк, Веласкес, Хальс, Филипп де Шампань) писали личностей, но это всё-таки были люди, чей характер и выражение лица воспринимались и обсуждались исключительно в свете уготованной им социальной роли. Портрет должен быть человеку впору, как пара туфель, однако каких именно туфель – такой вопрос никогда не возникал.
Удовлетворение от того, что с тебя написали портрет, было удовлетворением, какое дает личное признание и утверждение тебя в твоем статусе; это не имело никакого отношения к современному желанию одиночки, чтобы его признали «как он есть на самом деле».
Теодор Жерико. Ампутированные конечности. Вторая половина 1810-х
Если бы нужно было назвать момент, когда упадок портрета стал неизбежным, приведя в качестве примера произведение того или иного художника, я бы выбрал два-три выдающихся портрета безумцев работы Жерико, написанные в первый период романтического разочарования и протеста, последовавших за поражением Наполеона и жалким триумфом французской буржуазии. Эти картины не были ни моральными повествованиями, ни символическими работами – обычные портреты, написанные в традиционном стиле. И всё же у их моделей не было никакой социальной роли, предполагалось, что они не способны ее выполнять. На других полотнах Жерико – отрубленные человеческие головы и конечности, какие можно найти на прозекторском столе в анатомическом театре. Его отношение к предмету было горечью критика; решение писать лишенных всего безумцев представляло собой комментарий в адрес людей, владевших имуществом и обладавших властью; но было тут еще и стремление заявить, что человеческий дух по сути своей не зависит от роли, навязанной ему обществом. Общество в глазах Жерико было столь негативным, что он, хотя сам и был нормален, находил в изоляции безумных больше смысла, чем в социальных почестях, отдаваемых преуспевающим людям. Он был первым и в некотором смысле последним глубоко антисоциальным портретистом. В этом термине заключено неразрешимое противоречие.
После Жерико профессиональная портретная живопись выродилась в подобострастную, ничем не прикрытую лесть, за которую брались с цинизмом. Стало невозможно и дальше верить в значимость социальных ролей, избранных или доставшихся человеку. Искренние художники написали ряд «интимных» портретов своих друзей или натурщиков (Коро, Курбе, Дега, Сезанн, Ван Гог), однако на них социальная роль модели сводится к роли того, кого пишут