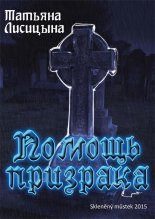Лекции о Лейбнице. 1980, 1986/87 Делёз Жиль

Иными словами, какова наша прогрессия? Вначале я сказал, что точка зрения есть точка зрения на бесконечный ряд, то есть что точка зрения есть точка зрения на конституированный ряд, а бесконечный ряд конституирован состояниями мира. Вот что такое точка зрения, она соотносится с бесконечным рядом состояний мира.
Вы видите, что у меня на первом этаже, выше материи, вырисовывается нечто вроде разнооразных малых ярусов; я бы сказал, что если я остаюсь на уровне точки зрения, то я остаюсь там как на шкале перцепции; это мир перцепта. Точка зрения «смотрит» на бесконечный ряд состояний мира. Но и, более того, я говорю: мир, ряд мира, бесконечный ряд мира обволакивается некоей вещью, исходящей из точки зрения, то есть обволакивается субъектом.
Вот в этот момент заметьте, что статус мира изменился; только что он представлял собой бесконечный ряд состояний мира, а теперь уже не совсем так: теперь он обволакивается субъектом – и это что? По природе это то, что мы называем предикатом, или – если вы предпочитаете – атрибутом. Бесконечный ряд состояний мира теперь стал бесконечным рядом предикатов субъекта. Бесконечный ряд предикатов охватывающего их субъекта. Мы перешли от бесконечного ряда состояний к бесконечному ряду предикатов, или атрибутов. Действительно, если бесконечный ряд состояний мира находится в субъекте, охватывается субъектом, то состояния мира суть также предикаты, или субъекты, атрибуты, или субъекты. Все это влечет за собой много разнообразного, но мы пока еще этим не занялись; а именно, мы не занялись устрашающим и прекраснейшим вопросом: что такое атрибут субъекта?
Я говорю вот что: если состояния мира охватываются субъектом, то надо полагать, что состояния мира суть предикаты субъекта, который их охватывает. Вы всегда видите небольшой прогресс, мы находимся уже не в области видимого, мы перешли от видимого к читаемому. С определенной точки зрения я вижу мир, но в самом себе я его читаю. Отсюда текст, который кажется мне столь очаровательным: Лейбниц, «Монадология», параграф 36… Нет, не то, нужен параграф 61; я вам его читаю: душа (то есть субъект) может читать в самой себе лишь то, что представлено в ней отчетливо (неважно, что означает этот текст. Нам пока еще не по силам комментировать его, но мы вполне можем заметить, что Лейбниц никогда не скажет – когда он говорит строго, хотя ему случается говорить и нестрого, чтобы продвигаться быстрее, – он никогда не скажет, что душа видит внутри себя, он скажет, что душа читает в самой себе)… То, что она охватывает, суть состояния мира как предикаты субъекта. Душа читает собственные предикаты, и в то же время в точке зрения, где она находится, она видит состояния мира. Это усложняется, но в этом следует разобраться, потому что на уровне охвата мы уже не находимся в сфере перцепта. На уровне точки зрения мы находимся в области перцепта, но на уровне охвата «субъект – предикат» мы находимся в области концепта. Именно концепта. С точностью до одного основополагающего замечания: при условии того, чтобы мыслить, конципировать концепт как индивида. Субъект индивидуален.
Почему? Как раз потому, что он не существует, не переходя к точке зрения. Иными словами, что такое субъект? Это концепт, это понятие, и всякий раз, когда Лейбниц говорит «субъект», вам необходимо корректировать, подставляя «понятие», у Лейбница это всегда понятие субъекта. А что такое понятие субъекта? Это индивидуальное понятие, говорит он. Иными словами, концепт доходит до уровня индивида. И более того, индивид – это концепт, это понятие. Вот какая причудливая штука, и нам пока совершенно не по силам понять ее. Но интересно отметить то, что необходимо будет понять на будущее. Я могу сказать, что Лейбниц – это, вероятно, древний, относительно древний, философ, но он в высшей степени современный с точки зрения логики.
Если мы спросим у Лейбница, что такое субъект, то он ответит, что это то, что обозначается именем собственным. Вы знаете, до какой степени в современной логике после Рассела велико значение теории имен собственных… Мы еще увидим это в подробностях. Лейбниц – первый, кто сказал нам, что подлинное имя индивидуальной субстанции, подлинное имя субъекта есть имя собственное. И вероятно, как раз с Лейбница начинается подлинная логика имен собственных. Что такое субъект? Это Цезарь, Адам, вы, я. Это индивидуальное понятие каждого из нас, так как только индивидуальное понятие включает в себя предикаты. А что такое «все предикаты, которые включаем мы»? Все состояния мира!
Иными словами, что занимает точку зрения? То, что занимает точку зрения, есть субъект, понимаемый как индивидуальное понятие. То, что занимает точку зрения, есть то, что обозначается именем собственным. Я вижу с некоей точки зрения, и я читаю в субъекте.
Видеть и читать. Перцепт и концепт.
Иными словами, мы уже перешли – если я возобновлю предыдущее замечание, – от сгиба к присущности. Но какой ценой? Ценой того, что обнаружили, что не только сгиб отсылал к некоей точке зрения, но и точка зрения отсылала к тому, что эту точку зрения занимало. Нечто, занимающее эту точку зрения, назовем его душой, вот она, душа, субстанция, суперъект, если говорить как Уайтхед, а не как Лейбниц, потому что это слово принадлежит Уайтхеду; индивидуальное понятие, имя собственное.
Мы совершенно упустили одну значительную трудность, не надо удивляться, что мы не понимаем того, что пока непонятно: что же такое, на самом деле, предикат, или атрибут, – субстанция или субъект? Мы только что видели, что в той мере, в какой имеется охват, состояния мира стали предикатами индивидуального субъекта. Существует только индивидуальный субъект, и это нечто весьма странное в философии. Прежде всего остального: что обсуждалось в вопросе о том, индивидуальна или не индивидуальна душа, и что влекло за собой все это?
Приходит Лейбниц и совершенно спокойно ошеломляет нас: всякий субъект индивидуален и, более того, концепт доходит до уровня индивида и существует не иначе как доходя до уровня индивида. Все это не происходит само собой, но здесь есть трудности, которые необходимо разрешить впоследствии. Итак, мы постепенно подходим к тому, что способны решить, и отсюда мое шестое замечание. Надо, чтобы вы почувствовали необходимость перейти от точки зрения к присущности, то есть к включению, то есть к идее чего-то индивидуального, которое занимает точку зрения, а следовательно, включает, охватывает бесконечный ряд.
Я догадываюсь, что вы очень хорошо поняли это. А так как вы ничего не выражаете, по вашим лицам ничего не расшифруешь… Лейбниц говорил, что в вашей душе, – а вы прекрасно видите разницу между точкой зрения и душой, – в вашей душе вы великолепно читаете. На первый взгляд, вы ничего не видите… в вашей душе.
Седьмое замечание. Необходимо знать, что мы способны понять. Мы видели то, что были пока еще не способны понять; но к седьмому замечанию относится целый ряд текстов Лейбница, которые мы встречаем повсюду и которые теперь для нас уже не представляют реальной проблемы. Во-первых, и это мы видели на предыдущей лекции, тема зеркала: каждый субъект есть зеркало мира со своей точки зрения. Вы видите, что он не смешивает субъекта с точкой зрения, то есть субъекта с «зеркалом мира» в модусе той точки зрения, которую он занимает.
Уточним, что «зеркало» необходимо понимать как вогнутое зеркало. Все предшествующее обосновывает это – добавление вогнутости. Вторая проблема: это всего лишь метафора, и необходимо преодолеть эту метафору. Зачем преодолевать эту метафору? Потому что она застревает на середине пути. Не следует говорить, что каждый субъект есть зеркало, смотрящее на мир, так как это было бы приблизительно тем же, что и сказать, что мир существует сам по себе. Но ведь вспомните: он существует только как сложенный, то есть он существует как запертый в каждой душе, он существует только как охватываемый каждой душой или каждым субъектом. Значит, необходимо сказать, как я предлагал в прошлый раз: субъект – это скорее не зеркало, открытое миру, а экран, на котором показывают фильм. Но это было бы еще недостаточно, так как фильм прокручивается и отсылает к экстериорности, пусть даже предполагаемой. Поэтому нам следовало бы сослаться на непрозрачную таблицу, на непрозрачную информационную таблицу, куда вписываются данные, без отсылки к экстериорности.
Мир охватывается каждым субъектом и существует, только будучи охваченным каждым субъектом. Именно в этом смысле «Монадология» скажет нам: субъекты, индивидуальные субстанции – «без дверей и окон». Они ничего не получают извне. Вы видите, почему они ничего не получают извне: ведь все, что они имеют, все, что они читают, или все, что с ними происходит, они охватывают, они включают. Иными словами, мир не существует помимо субъектов, которые его включают; мир не существует помимо субъектов, которые его охватывают.
Как лейбницианский символ я предлагал вам в прошлый раз знаменитую картину Раушенберга, где есть все, что нам подходит: поверхность картины как информационная таблица, которую следует воображать слегка вогнутой, и туда вписывается зашифрованная переменная кривизна. По сути, такова репрезентация лейбницианского мира. В этом седьмом примечании мы перешли от текстов Лейбница, где он говорит нам, что субъект, индивидуальная субстанция, есть зеркало, смотрящее на мир, к другому, более глубокому типу текста: индивидуальный субъект охватывает мир, мир не существует помимо охватывающих его субъектов.
Восьмое замечание. Настал час для того, чтобы решить трудность: почему несколько точек зрения, почему несколько субъектов? Почему не существует одного-единственного субъекта, который располагался бы в одной точке зрения, и эта точка зрения указывала бы на бесконечный ряд состояний мира, а стало быть, охватывала бы целую совокупность предикатов, имела бы атрибутом один термин: бесконечный ряд состояний мира; один-единственный субъект был бы Богом. Определенным образом это был бы Спиноза: одна-единственная субстанция, Бог… который охватывает, который содержит всевозможные модификации, который включает всевозможные конститутивные модификации мира, бесконечный ряд конститутивных модификаций мира. Это означает, до какой степени Лейбниц привержен множественности субъектов и множественности точек зрения! Впрочем, мы пройдем от второй к первой, от множественности точек зрения к множественности субъектов.
Но опять-таки, если верно, что одна точка зрения схватывает бесконечный ряд мира, или – что то же самое – если верно, что субъект включает мир, охватывает мир, то это странно! Почему множество точек зрения? Напомню, что на последней лекции я попытался предложить вам ответ, и он таков: дело в том, что бесконечный ряд, по существу, подвержен бесконечному количеству вариаций. Вариации одного ряда – необходимо к ним вернуться, необходимо помыслить их разнообразные типы: ритмические вариации, мелодические вариации, противоположно направленные движения, когда восходящее становится нисходящим, а нисходящее – восходящим. Ретроградные (ракоходные) движения, когда вы начинаете с конца и получаете другой ряд. Стало быть, существует бесконечное множество вариаций бесконечного ряда.
Тогда что означает, что каждый субъект соответствует некоей вариации? Вероятно, именно то, что не существует двух субъектов, которые начинали бы бесконечный ряд с одного и того же члена либо заканчивали бы его одним и тем же членом. Именно поэтому с необходимостью существует бесконечное множество субъектов. Но тогда здесь существует и некое основание, а именно: каждый субъект охватывает бесконечный ряд мира, но каждый субъект определяется неким регионом этого ряда, регионом, который он может прочесть ясно и отчетливо. Я выражаю мир, или, – если угодно, – я его охватываю, я выражаю мир наподобие зеркала, и я охватываю его наподобие субъекта. И потом еще вы, все мы выражаем мир – очень хорошо. Только вот что: ясно мы выражаем не одну и ту же его часть. Каждый субъект обладает конечной способностью к ясному прочтению, а остальное – что? Необходимо сказать, что каждый субъект буквально дислексичен. Вы видите, кто великий читатель. Великий читатель мира – это Бог. Ну а мы, индивидуальные субъекты? Вы скажете мне: ну да, Бог – это индивид, разумеется, но тогда перед нами встают проблемы: в каком смысле это индивид и в каком смысле мы тоже индивиды? Но мы пока еще до этого не дошли. Бог охватывает весь ряд мира ясно и отчетливо, а мы? Это уже довольно-таки красиво: малая часть нашего чтения является ясной и отчетливой, а остальное мы невнятно бормочем. Мы охватываем весь мир – да, но запутанно, смутно, так что ничего прочесть нельзя. И у нас есть наша малая часть, наш малый ясный и отчетливый свет, освещающий мир, наш малый регион мира – вот моя комната. Это уже неплохо, если я охватываю свою комнату! Не надо больше задавать многочисленных вопросов. Я выражаю весь мир, я охватываю весь мир, но я ясно охватываю лишь небольшую его часть.
Что отличает меня от вас, а вас от меня? То, что ясно мы выражаем не одну и ту же часть. Вы скажете мне: у нас есть некая общая сфера, и тем самым мы принадлежим к одному и тому же миру, мы со-существуем. Вы понимаете: у каждого из нас есть своя часть, но она может заходить на часть соседа; например, когда мы собираемся в этом замкнутом месте, мы ясно выражаем малую часть пространства. Но если мы рассеиваемся, то каждый обретает собственную комнату. Мы можем объединяться, разлучаться, и это похоже на складывающийся и раздвигающийся аккордеон. Но, как бы то ни было, наша часть ясного и читабельного охвата остается крайне ограниченной.
Итак, с необходимостью существует несколько точек зрения, или – если угодно – с необходимостью существует множество индивидуальных субстанций. Теперь у меня есть ответ, ибо даже если верно, что всякая индивидуальная субстанция охватывает весь мир, она способна ясно прочесть лишь часть мира, с необходимостью отличающуюся от другой части читабельного мира. И в то же время этого недостаточно, так как мы сейчас окажемся перед неразрешимой проблемой. Из нее следует хотя бы немного выпутаться.
Какой бы великой ни была данная проблема для Лейбница, он всегда думал только об этом: об индивидуации. Вот в чем его проблема. По счастью, удалось сохранить небольшую его диссертацию, точное ее заглавие написано по-латыни, потому что в те годы в университетах писали по-латыни, и озаглавлена она «Рассуждение о принципе индивида»; ему было 17–18 лет. В ту пору это было преждевременно, это небольшая записка, и неслучайно, что с самого начала это стало его проблемой. Это очень интересная дискуссия с несколькими философиями Средневековья, с Аристотелем, но прежде всего с Фомой Аквинским и Дунсом Скоттом – и именно это сохранится во всей философии Лейбница до самой старости.
Здесь мы попадаем в невозможную ситуацию, так как вы видите, чт творит индивидуацию у Лейбница.
Первый ответ, который напрашивается: точка зрения. Он наделил понятие точки зрения непротиворечивостью, достаточной для того, чтобы это был возможный ответ. Это совершенно ново – определять индивидуацию через точку зрения: необходимо было иметь для этого средства, необходимо было пройти через всю теорию сгиба, кривизны. Ответ: может быть и так, но это не последнее слово, потому что, строго говоря, точка зрения не может определять индивидуацию, точка зрения не может определять индивида, потому что точка зрения есть всего лишь модальность индивида. Это всего-навсего модус индивида…
[Конец пленки.]
…Что же определяет индивидуальность индивида? Что же такое индивидуация? У нас уже есть два возможных ответа, они возможны, но не удовлетворительны.
Повторим: весь мир охватывается каждым субъектом, субъект – это индивид, это индивидуальная субстанция, или индивидуальное понятие, это концепт, доходящий до индивида. Индивидуальное понятие – это то, что заслуживает имени собственного; субъект – это то, что заслуживает имени собственного. Почувствуйте: забавная история с этой логикой собственных имен. Это забавная история, потому что, вообразите – сколь бы мало вы ни знали, – до какой степени это порывает со всей философией, до какой степени это вносит новое. Вообразите Платона… Нет, это предполагает, что вы знаете Платона. Платон – это идеи. Платону случалось спрашивать: существуют ли идеи индивидов? Существует ли идея Сократа, идея Алкивиада? И все такое. Но он сталкивается с проблемами. И тут приходит Лейбниц и говорит нам, что понятие индивидуально, что концепт доходит до самого индивида. Почему он может сказать это – вот что нельзя отложить про запас, потому что на это надо отвечать. Необходимо срочно на это отвечать, необходимо отвечать сегодня. Может быть. Предполагаю, что у нас не будет времени, но ответить следоало бы сегодня. Почему?
Здесь есть нечто необычайное. Можно было бы подумать о Декарте. Все картезианцы непрестанно размышляют о «Я» у Декарта, о «Я мыслю». И что же такое это «Я»? Существует очень интересная диссертация, написанная о понятии индивида у Декарта. Но это чрезвычайно сложная тема, потому что надо глубоко зарываться в тексты. «Я» из «Я мыслю» – это что, индивидуальный субъект? Нет, это трудно, мы уже не можем сказать, кто именно обозначен именем собственным: «Я мыслю» не означает, что я, Декарт, мыслю! А вот что говорит нам Лейбниц: «субъект» может иметь лишь один смысл – это то, что имеет в виду имя собственное. Цезаря, Августа, вас, меня. Субъект индивидуален.
Я возобновляю рассуждения. Каждый мир охватывается каждым субъектом – мы видели, как именно, по мнению Лейбница, различаются субъекты: малой частью. Заметьте, что уже здесь у нас два ответа: вариацией в ряду, или, что сводится к тому же самому, малой частью. Я говорю, что в конечном счете это сводится к тому же самому, потому что малая, ясная и отчетливая часть, охватываемая каждым субъектом, варьируется сообразно субъекту; это вариация бесконечного ряда. Итак, два ответа хорошо работают, но они хорошо работают, если включаются в то, что представлялось нам их недостаточностью.
Если я говорю, что мир существует, будучи охватываемым каждым субъектом, то, очень хорошо, он существует не иначе как будучи охватываемым каждым субъектом. Мир не существует за пределами охватывающих его субъектов, мир не существует за пределами имплицирующих его, включающих его субъектов. Можно ли сказать, что это идеализм? Это будет очень трудно представить: даже если это отчасти идеализм, то необходима осторожность – почему? Потому, что, к счастью, существует несводимое множество субъектов. Видите трансформацию проблем, которые Лейбниц нам навязывает? Я бы сказал, трансформацию на двух уровнях: отношения, которые я мог бы назвать отношениями восприятия, отношения «видимое – точка зрения» заменяются отношениями точек зрения между собой. Или же – что сводится к тому же самому – отношения «мир – субъект» заменяются взаимоотношениями субъектов. Мир не существует независимо от субъектов, которые его охватывают; мир существует лишь как охваченный субъектами. Да. Но тогда основополагающей проблемой становится проблема взаимоотношения субъектов, так как объективность и реальность мира неукоснительно совпадают со взаимоотношениями субъектов.
Девятое замечание. Наконец настала пора. Ее следовало бы назвать как в английских романах, где бывают названия глав вроде следующей: «Как складываются события, в результате коих Лейбниц будет говорить с нами о понятии монады?». Как монада, это типично лейбницианское понятие, проистекает из всего этого? Именно по этому монада – термин, которого я до сих пор не смел произнести.
Отдохните, но, прошу вас, возвращайтесь…
…Об этом переходе от сгиба к присущности – нет вопросов? Нет проблем?
Вопрос: [о незнании…]
Жиль Делёз: Он продумал все, ваш вопрос очень уместен. Речь, наверное, идет, если я правильно понимаю, о том, можно ли иметь в виду нечто находящееся вне субъекта из-за того, что субъект об этом не знает. Ответ Лейбница, который мы пока не можем как следует оценить, потому что у нас будет еще несколько лекций на эту тему: незнания не существует, существуют только степени знания, эшелонированные до бесконечности. И фактически ваше замечание очень хорошее: существовало ли для Лейбница незнание? Необходимо сказать, что в мире есть нечто, что ускользает от субъекта, что не охватывается субъектом. Но для Лейбница не существует незнания; существуют лишь степени более или менее ясного, более или менее темного, более или менее смутного знания – то есть либо нечто ясно и мы знаем, либо же, как Лейбниц все время говорит, мы слышим какой-то гул. Когда вы говорите: «Я не знаю», речь идет о состоянии гула, о состоянии плеска, о своего рода космическом плеске в глубине каждого из нас. И тогда возможно, что все субъекты общаются при помощи этого космического плеска, но сам он – не за пределами субъектов. Но ваше замечание весьма справедливо. Лейбниц не мог бы ничего извлечь из него, если бы он не разработал теорию, которая является теорией не знания, а бесконечного множества степеней знания.
Вопрос: [нрзб.].
Жиль Делёз: Речь идет, конечно, о бесконечном множестве. Нет никакой оппозиции между множеством и бесконечным. У Лейбница бесконечное представляет собой необходимый статус множественного, множественное доходит до бесконечного. Тут нет проблемы. И у Лейбница [сказано] гораздо больше: нет конечных множеств.
Вопрос: Я не понимаю, в чем разница между индивидуальным понятием и концептом, который доходит до уровня индивида?
Жиль Делёз: Никакой разницы, это два эквивалентных выражения. Я говорил, что я накапливаю, а иногда и приумножаю выражения, потому что некоторые из вас могут понять одно и не понять другое, а могут и много разного добавить. Я пытаюсь объяснить вам Лейбница. Я как раз нахожусь в ситуации незрячей головы, которая пытается достучаться до ясной части в сознании каждого. Но ясная часть в сознании одного индивида сильно отличается от ясной части в сознании всех остальных – благодаря чему? Все объясняется просто: дело в вашей культуре. У тех, кто уже читал Лейбница, есть ясная часть в сознании – это не для того, чтобы разозлить других, – есть ясная часть, которая больше части, что есть у тех, кто совсем его не читал. И однако в той мере, в какой все субъекты содержатся в каждом субъекте, необходимо, чтобы Лейбниц, даже если вы его не знаете, находился в вашем сознании – в состоянии гула. Вы слышали, что говорил Лейбниц. Он произносил слово «монада». И тогда вас можно свести к этой минимальной части, а если существуют те, кто прочел Лейбница, то у них – бльшая ясная часть. Ваша задача такова: улавливайте идеи Лейбница ясной частью вашего сознания. Почему у Лейбница мы увидим некий прогресс? Почему это один из первых философов, выдвинувших понятие прогресса? Потому что каждое индивидуальное сознание обладает свойством – увы, довольно ограниченным – увеличивать свою ясную зону. Узнать это означает повышать степени знания по шкале.
Вопрос (возможно, Контесс): Как ты смотришь на следующую вещь касательно Лейбница: он сразу утверждает, что субъект как индивидуальная субстанция, центр (?) индивидуального единства, ничего не получает извне, и, однако, он определяет индивидуального субъекта через имя собственное, а это как раз имеет в виду получение чего-то извне?
Жиль Делёз: Уф… Я говорю, что необходимо различать – здесь я ничего не придумываю, потому что тексты сами приходят ко мне на ум, – необходимо различать номинальное собственное имя. Номинальное собственное имя есть имя конвенциональное. Если Цезарь зовется Цезарем, а Август зовется Августом, а каждый из вас зовется так, как он зовется, то вот это – конвенциональная операция, о которой некоторым образом можно сказать, что она приходит извне, но, согласно Лейбницу, она ничего не затрагивает в субъекте. Более того, в одном тексте из «Новых опытов о человеческом разумении» есть небольшая глава, посвященная именам собственным, где он говорит нам: имена собственные образуются от имен нарицательных, это имена видовые и родовые. Например, вы зоветесь «пахарь» или кто-нибудь зовется «пахарь». Это означает, что Лейбниц не верит в имена собственные в этом смысле. Когда я говорю: «имя собственное обозначает индивидуальную субстанцию», то это означает, что конвенциональное имя собственное символизирует нечто – но всего лишь символизирует. Имя собственное означает то, что включено в бесконечное множество пропозиций. К примеру, я говорю: x перешел Рубикон, был убит своим сыном или зятем. Здесь индивидуальный субъект обозначается именем собственным, которое служит его внутренней детерминацией. И тогда, если ты спрашиваешь меня: что такое имя собственное «Цезарь», то я говорю: это внутренняя детерминация Цезаря. Условно мы скажем, что внутренняя детерминация Цезаря, то, посредством чего она его охватывает, конвенционально обозначается иенем собственным «Цезарь». Фактически это имя нарицательное применительно к индивидуальной субстанции.
Девятое замечание. Сегодня мы уже к нему обращались. Откуда берется «монада», это странное слово? И лучше этого слова, действительно, не придумаешь, так как, если вы откроете «Монадологию», то первым словом «Монадологии», после заглавия, будет (абзац 1): «Монада, о которой мы будем здесь говорить, есть не что иное, как простая субстанция». «Монада» звучит очень причудливо, так что – всякий раз, как мы слышим слово «монада», – мы добавляем: «Как говорил Лейбниц». И откуда оно берется? Необходимо заметить, что он воспользовался им довольно поздно. Специалисты отмечают первое употребление слова «монада» в 1697 году. Стало быть, существует изрядная часть произведений Лейбница, где он говорит об индивидуальной субстанции, о душе, о понятии индивида, но пока еще не пользуется словом «монада». Грубо говоря, оно должно было бы ему нравиться, но он еще не придумал слово. Слово «монада» становится предметом систематического, непротиворечивого философского применения у весьма интересных авторов, какими являются неоплатоники. Греческое слово – monas, это дает «монаду», так как оно относится к склонению на «d»{ Дело в том, что «d» появляется в косвенных падежах.} (monado), Monas. Надо бы хорошенько поискать, так как я говорю вещи, в которых не слишком уверен, потому что эти исследования провел не я и у меня нет необходимых словарей. Слово встречается у Плотина. Но в каком смысле? В смысле «единицы». Не то чтобы в каком угодно смысле «единицы», но в переменном смысле «единицы». Могу сказать, что, по-моему, ни Платон, ни даже Плотин, являющийся основателем неоплатонизма, не употребляли его систематически. Зато его систематическое употребление отмечается у неоплатоников, то есть у учеников Плотина, из которых первый и величайший зовется Прокл. Monаs означает «единственный», «один-единственный». Мы видим, читая очень короткую книгу Прокла, а именно «Основы теологии», – мы прекрасно видим в «Основах теологии», что monas означает нечто очень конкретное, потому что monas – это единица, но существует и другой термин. Monas – это единство. Но «Один» (с заглавной «О») по-гречески не monаs, один – En, E + n. И в греческом есть существительное, образованное от En, Henas, и его передают как Энада. Стало быть, любопытно – вы видите: монада, энада, monas, henas – что это такое? Либо все это ничего не означает, и тогда оно бесполезно, либо же монада означает особый тип единицы, который мы сейчас выделим и который получает особый, все более строгий статус начиная с Прокла.
Об этом необходимо знать чуть больше: каков этот особый смысл единицы? Прокл много говорит нам об определенной стадии Единого. Вы знаете, что неоплатонизм – если его надо определить – это философия, выделяющая в качестве основополагающих категорий Единое и Множественное. В этом его задача. Начиная с Платона, имеется два основных направления: аристотелизм, берущий у Платона пару «форма – материя», и неоплатонизм, берущий – начиная с Плотина – пару «Единое-множественное».
Аристотелевская традиция будет рассматривать композиты из формы и материи, образующие твердые тела. Плотинизм, или неоплатонизм, будет изучать композиты Единого и множественного, из чего образуются фигуры света. Если у Плотина и есть какая-нибудь фигура, то это фигура света. Это великий философ света. До вещей существует свет, и свет эманирует из Единого, из En. В скобках: здесь я становлюсь чересчур ученым, в пифагорейской традиции Monas – это огонь. Вы видите, почему я это говорю?
У Прокла мы прекрасно видим, что Monas не обозначает какой угодно тип единицы. Monas в общем и целом имеет два особых свойства. Она обозначает ту стадию единства, которая уже может породить виртуальную множественность. И в действительности неоплатонизм состоит из ряда ярусов, причем на последнем ярусе, на самом верху, располагается Единое, или Свет. Единое превыше всего. Единое, о котором мы не можем ничего сказать. Единое больше Бытия. Единое, которое до такой степени единое, что мы даже не можем сказать, что оно есть, потому что, если бы мы сказали, что оно есть, оно было бы двумя – Единым и Бытием. Но Единое, которое не есть, это Единое выше Бытия – выше всего. И из этого Единого, в той форме, в какой оно предстает в философии Плотина – а она не является нашим предметом в этом курсе – я бы даже не сказал, что все проистекает, но течет подобно свету, подобно лучам света, течет лучами – и мы можем отметить вырожденные стадии Единого.
И одна из стадий Единого – это когда Единое перестает быть просто Единым, чтобы имплицировать, involvere, как говорят латинские переводы, чтобы охватывать множественное, и это охваченное множественное есть множественное виртуальное. Пока еще не перешедшее в действие. Единства, готовые породить виртуальное множественное, – вот что будет называться Monas. А ниже Monas, как и выше Monas, располагается Единое, которое является всего лишь Единым, Единым без множественности, сугубо Единым. Существует такое единое, которое представляет собой всего лишь арифметический элемент, числовой элемент в множественности, перешедшей в действие, в актуальную множественность, – и вот это и есть числовая единица.
Вот очень приблизительно, потому что Прокл чудовищно сложен, я говорю в общем и целом; монада означает в первую очередь единство, когда единство готово породить виртуальную множественность. Во вторую очередь монада означает единицу, когда та является основой вырождающегося (регрессивного) ряда. Вот пример: в тексте «Основ теологии» я читаю: «Монада, играя роль принципа, порождает множественность, которая ей свойственна. Вот почему каждый ряд (неоплатоники первыми представляют философию ряда. – Ж.Д.) – один и каждый порядок – Един». В греческом тексте тут слово En. Вы видите: монада, играя роль принципа, порождает свойственную ей множественность; вот почему каждый ряд – один, и каждый порядок – един. Тот, кто полностью зависит от своей монады, спускается к множественности, так как если сама монада остается бесплодной, то он не относится ни к порядку, ни к ряду. Иными словами, монада – это единство (единица) как принцип вырождающегося (регрессивного) ряда. Примеры: из чистой души проистекают души богов, и сами души богов образуют целый ряд. Здесь неоплатоники показывают, на что они способны, так как есть юпитерическая душа, душа ареическая{ От имени бога Арес (Марс).}, душа титаническая и т. д. Процессия душ величественна, но для нас малозначительна. Из чистой души проистекают души богов. Из душ богов проистекают души людей, то есть разумные души; в некоторых случаях проистекают души животных и т. д.
Перед вами – вырождающийся ряд. Начало этого ряда будет называться Monas. Аналогичным образом, если вы производите ряд Enas, ряд Единых, вы начнете сверху: Единое больше чем Бытие, затем Единое, которое включает, охватывает потенциальную множественность, затем Единое, которое всего лишь единица в актуальной множественности; перед вами ряд. Вы скажете, что существует Monas как начало ряда Энад. Вы видите: все это очень мило. А я все-таки говорю: если оставаться в рамках Прокла и неоплатонизма, то Monas означает единство (единицу), но при двух условиях: это единство должно быть полным, готовым породить виртуальную множественность, которую оно охватывает. Второе условие: Monas – начало проистекающего из нее вырождающегося ряда. Мне нет нужды возвращаться к тому, что мы рассмотрели, чтобы сказать, что два этих свойства как нельзя лучше подходят к Лейбницу.
Среди редких вещей Прокла, которые дошли до нас, есть превосходный комментарий к диалогу Платона «Парменид», где мысль Прокла развертывается гораздо нагляднее, – и это, очевидно, некое резюме его представлений. Итак, в прокловском комментарии к «Пармениду» перед нами – целая теория монады, и превосходнейшая.
Вы видите, что нравится Лейбницу. Само слово – меня удивило, что он познакомился с ним очень поздно: он ведь знал его с самого начала, но, должно быть, своего рода вдохновение побудило его воскликнуть: «Боже мой! Почему я не пользовался этим словом раньше? Оно-то мне и необходимо». И в то же ремя он полностью «пересаживает» его, так как собирается сохранить два его свойства: монада – это единица как начало ряда и единство как нечто, готовое породить виртуальную множественность. Мы видим: готовое породить виртуальную множественность, потому что оно охватывает все состояния мира; и начало ряда, потому что благодаря своей точке зрения оно открыто бесконечному ряду. Итак, это вполне нам подходит, и все-таки весьма гротескным было бы сказать, что Лейбниц подвергся неоплатоническому влиянию, так как хотя и совершенно верно, что Лейбниц испытал неоплатоническое влияние, но он совсем не похож на Прокла, ибо, пользуясь словом «монада», он ставит его в иную ситуацию, наделяет его иной, совершенно оригинальной, функцией, о которой неоплатоники не имели ни малейшего представления.
Если необходимо подвести итог: вот что было бы непостижимым для неоплатоника – Лейбниц говорит нам: монада есть индивидуальное понятие, это сам индивид, индивид, взятый как его понятие, – или, если угодно, это субъективное единство, это субъективность. Это субъект. Иными словами: единство (единица) как монада есть индивид. И как Лейбниц до этого доходит? Необходимо заметить, что существуют два тесно связанных между собой понятия у Лейбница, которые ускользают от неоплатонизма. Это бесконечное и индивид. Почему два этих понятия взаимосвязаны? Потому что Лейбниц скажет нам: «индивид охватывает бесконечное». Этот текст вы найдете в «Новых опытах о человеческом разумении». Необходимо, чтобы я дал вам номер параграфа, чтобы вы посмотрели сами: но там все очень наскоро, он не анализирует того, что имеет в виду; стало быть, вот сам текст Лейбница: «Индивид охватывает бесконечное». Что же это все-таки означает? Это означает нечто очень простое, но, по-моему, оно могло возникнуть лишь в перспективе христианства. Индивид охватывает бесконечное – что это значит?
Отношение «индивид – бесконечное» мы легко поймем, если зададим понятие концепта. Концепт определяется как? Как то, что имеет некое содержание [comprehension] и некую протяженность. Содержание концепта есть вещь, концептом обозначаемая: совокупность предицируемых ему атрибутов. Пример: лев – храброе животное. Я бы сказал, что «храброе животное» образует часть содержания концепта «лев». Предположим, другие свойства содержания концепта – «иметь гриву», «рычать», «много спать» и т. д., но вы скажете мне: вы забываете основное. И это ясно: я забываю свойства, посредством которых мы определяем концепт «лев». Впрочем, я ими пренебрегаю: млекопитающее и т. д. – ну и пусть, я ими пренебрегаю. Итак, содержание есть совокупность предикатов, которые мы можем атрибутировать объекту, обозначенному концептом.
Протяженность концепта – это количество экземпляров, количество объектов, подводимых под этот концепт, вложенных в этот концепт. Сколько существует львов? «Сколько существует львов» соответствует протяженности концепта. Ну хорошо…
Логика концепта говорит нам – что? Она говорит нам, что по мере уменьшения протяженности увеличивается содержание, и наоборот. По мере уменьшения протяженности – что это значит? По мере уменьшения протяженности – то есть нечто стремится к единице по мере увеличения содержания. «По мере увеличения содержания» – то есть стремится к бесконечности; «по мере уменьшения протяженности» – то есть стремится к одному. Вот это надо знать. Пример: концепт «лев». Я предполагаю, что сейчас существует десять тысяч львов; я говорю: протяженность = 10 000, содержание – вот это, вон то, такие-то и такие-то предицируемые атрибуты «льва». Я делаю еще один шаг в движении, которое мы назовем спецификацией понятия, – это надо знать. Я беру львов Сахары, они составляют часть концепта «лев». Все львы Сахары обладают атрибутами, атрибутируемыми «льву». Это львы, но они имеют и нечто большее, а именно: они имеют конкретные свойства львов Сахары, каких нет у прочих львов. Их не имеют, например, львы… в конце концов, львы других мест: например, иметь на кончике хвоста более пушистую кисточку, чем у остальных. Я бы сказал: это свойство содержания львов Сахары, которого у прочих львов нет – итак, я добавляю его. Я бы сказал, что львы Сахары обладают большим содержанием, чем львы вообще, но тем самым они обладают и меньшей протяженностью. Существует меньше львов Сахары, чем львов вообще. Ладно.
Продолжим. Биологи, или, скорее, специалисты по естественной истории, натуралисты, могут быть подведены к тому, чтобы сказать: «Но ведь в таком-то оазисе Сахары существует тип льва, которого не найдешь в других регионах Сахары», и вот вам больше содержания и меньше протяженности.
Посмотрите на этот великий и совсем простой принцип: если дан концепт, то его протяженность и содержание находятся в обратно пропорциональных отношениях – то есть, чем больше содержание, тем меньше протяженность. Следите за мной, потому что здесь будет нелегко.
Что происходит? Здесь я колеблюсь, я собираюсь сделать то, чего никогда не люблю делать: своего рода обзор философии с птичьего полета; здесь это безусловно необходимо.
Что происходило с концептом, с этим законом, до Лейбница? Я полагаю, что все философы – насколько мне известно, без исключения (хотя существуют очень сложные тексты), – говорили нам: да, но вот этот концепт сейчас не работает. Бывает логический момент, когда концепт не работает; когда содержание концепта «стопорится». На самом деле здесь не надо «останавливать» концепт, на мгновение надо остановиться самому. Например (я возвращаюсь к своему льву) лев такого-то оазиса, африканский лев, лев из Сахары, лев такого-то оазиса из Сахары.
[Конец пленки.]
Он говорит: здесь вы никогда не догоните концепт, вы можете идти неопределенно долго (я взвешиваю свои слова), вы можете продолжать содержание концепта неопределенно долго, вы никогда не достигнете индивида. Почему? Потому что индивид зависит от случайностей материи, а не от свойств концепта. И получается, что, как бы вы ни продвигались относительно содержания или спецификации концепта, он всегда будет иметь в виду нескольких индивидов. Пусть только де-юре: концепт всегда будет включать нескольких возможных индивидов. Даже если я дойду до состояния мира, когда выживет один-единственный лев, концепт не «спустится» до его индивидуальности. На самом деле – благодаря концепту – всегда будет бесконечное множество возможных львов, но концепт не дойдет до бесконечности. Вы можете продолжать неопределенно долго, вы можете неопределенно долго продлевать содержание концепта, вы никогда не дойдете до протяженности, равной единице. Всякий концепт как концепт имеет протяженность, равную x.
Но тогда из чего получается индивид, раз это не концепт? Иными словами, концепт всегда общий. Он всегда имеет протяженность. Лев Сахары имеет концепт, лев такого-то оазиса имеет концепт – концепт льва можно продлевать сколько вам угодно, но индивидуация не то же самое, что спецификация. Вы можете специфицировать ваш концепт так долго, как захотите, – вы не достигнете индивида. Что производит индивидуацию? Ответ некоторых аристотеликов: не форма, каковая является формой концепта, а материя, акциденция. Иными словами, они оказываются перед следующей проблемой: индивид не есть конечная форма, соотносимая с концептом. Индивид не есть конечная форма, другими словами, концепт «стопорится» перед индивидом. Вы можете продлевать концепт неопределенно долго, но вы не достигнете индивида. Отсюда такая проблема: что производит индивидуацию, если она не является сложной спецификацией? Итак, я говорю вам: первый ответ – необходимо вмешательство акциденций, контингентностей, то есть атрибутов, которые не принадлежат концепту. Другой, гораздо более сложный ответ: индивидуация хоть и зависит от формы, но сама формой не является. Это и есть очень красивая теория индивидуации у Дунса Скотта, где индивидуация, как говорит он нам, определяется так: это не форма, которая добавляется к форме, как вид добавляется к роду. Иными словами: формы индивида не существует. И все-таки индивидуация не есть акциденция материи. Она, говорит нам Скотт, – конечный акт формы. Это не просто: здесь не форма добавляется к форме, а конечный акт конечной формы Что такое «конечный акт формы»? В конце концов, я этим не занимаюсь, это тема иного курса.
Это для того, чтобы попросту сказать вам, что все согласны с тем, что, в конечном счете, форма или концепт – так или иначе – «стопорится» перед индивидом, не догоняет индивида, даже если я могу продлевать содержание концепта неопределенно долго. Ладно. Пусть говорит Лейбниц. Мы никогда не наблюдали такого спокойствия и вместе с тем – отваги. Он разъяснит, что неопределенного не существует. Существует только актуальное бесконечное. Он сразу же определит индивида как концепт. Индивид – это концепт по преимуществу. Индивид – это концепт, так как его содержание бесконечно, а его протяженность равна единице. Концепт, чье содержание актуально бесконечно: вы видите, именно актуальное бесконечное позволяет Лейбницу утверждать это. Если бы он сказал: «Индивид – это концепт с неопределенным содержанием», это не имело бы ни малейшего смысла. Именно потому, что, согласно Лейбницу, повсюду имеется актуальное бесконечное, это определение возможно. Следовательно, оно было бы невозможным для неоплатоников, у которых не было ни малейшего представления об актуальном бесконечном. Я каюсь, что пока еще не могу рассказать вам, что такое актуальное бесконечное. Но все равно: достаточно, чтобы у вас было небольшое аффективное чувство. Лейбниц скажет нам: я не только примиряю индивида с концептом, но они еще и тождественны друг другу, так как индивид есть концепт, поскольку он имеет актуально бесконечное содержание, а стало быть, протяженность, равную единице. Вы видите: индивид охватывает бесконечное. Что позволило Лейбницу сказать, что индивид охватывает бесконечное? Откуда это берется? Мы это видели; по меньшей мере один раз мы видели это. Тут вся предшествующая теория, где монада, то есть индивидуальная субстанция, охватывает бесконечное множество предикатов, которые образуют состояния мира. Итак, концепт доходит до бесконечного, или понятие индивидуально: это одно и то же. Монада – это индивидуальное единство, готовое породить бесконечное множество. Иными словами, если бы у меня был математический символ для индивида, я бы сказал: возможно, вы всё поймете благодаря символу 1/бесконечность; единица, деленная на бесконечность. Вы мне скажете: а в чем здесь интерес?
Интерес вы сейчас увидите, он колоссален!
И потом, после того как вы поймете интерес, вы не сможете сразу отправиться спать. Все это любопытно – эта индивидуальность, это понятие индивидуации, которая захватила философию. Почему я говорю, что это предполагает христианство? Потому что христианство – в его философской форме – как известно, затрагивает очень интересную проблему, которая совершенно не утратила свою актуальность, а именно: доказательства существования Бога. А из доказательств существования Бога, как хорошо известно, – об этом мы много говорить не будем, хотя это чрезвычайно интересует Лейбница, – самое благородное называется онтологическим. И хорошо известно, что онтологическое доказательство высказывается следующим образом: я определяю Бога (не знаю, существует ли Он, – иначе здесь был бы изъян) как бесконечно совершенного и через бесконечное совершенство. Бесконечно совершенное… Отсюда я делаю вывод, что Бог существует, так как, если бы Он не существовал, Ему недоставало бы совершенства. Следите за мной. Вот поэтому-то все мы думаем, что Бог существует. А вот где у нас начинаются неприятности: когда кто-нибудь, подобно Лейбницу, говорит: не следует так спешить, потому что «бесконечно совершенный», – собственно говоря, что это означает? Чтобы доказательство было убедительным, говорит Лейбниц, необходимо как минимум доказать, что «бесконечно совершенный» не включает в себя противоречие. Предположим, что «бесконечно совершенный» есть понятие, подобное круглому квадрату. В этот момент я не мог бы извлечь отсюда идею, что существует соответствующее существо. Я не мог бы – это было бы неразумно. «Наибольшая скорость», говорит Лейбниц, есть противоречивое понятие – почему? Потому что, в силу определения «скорости», если скорость дана, то это всегда самая большая скорость из возможных. Стало быть, наибольшая скорость есть нонсенс. Что говорит нам, что бесконечно совершенное Существо не есть нонсенс? Итак, Лейбниц утверждает: онтологическое доказательство может привести к существованию Бога, только если мы вначале докажем, что «абсолютно совершенный» есть понятие когерентное, которое не имеет в виду противоречия.
Лейбниц берется доказать это. Он доказывает это, показывая, что «бесконечно совершенное» есть omnitudo, совокупность всех возможностей, и что совокупность всех возможностей возможна. Дело выглядит так, будто я удаляюсь, но вы скоро увидите: это не упадет нам на голову в момент, когда мы его не ждем. Совокупность всех возможностей возможна – вот что надо доказать, чтобы онтологическое доказательство могло проследовать от бесконечно совершенного существа к существованию Бога.
Ладно, это произойдет прямо сейчас! Ведь если совокупность всех возможностей возможна, то в этот момент Бог с необходимостью существует, так как онтологический аргумент работает. А именно: Бог есть Существо бесконечно совершенное; если бы Его не существовало, Ему недоставало бы совершенства – значит, я противоречил бы своему определению, отказывая Ему в существовании. Итак, онтологическое доказательство становится легитимным, согласно Лейбницу, при условии если мы докажем, что совокупность всех возможностей не есть нонсенс; при этом условии – в скобках: Лейбниц упрекает Декарта за то, что он не произвел необходимого доказательства, – Лейбниц может перейти от совокупности всех возможностей к идее существа, существующего с необходимостью. Существо сингулярное, существо индивидуальное, уникальное, которое мы называем Богом. Итак, онтологическое доказательство, согласно Лейбницу, продвигается от бесконечного множества всех возможностей к сингулярному существованию соответствующего существа, к сингулярному существованию соответствующей реальности, которую мы называем Богом.
Иными словами, какова формула Бога? Я продвигаюсь от бесконечного множества всех возможностей к сингулярному существованию соответствующего существа, которое наделено всеми совершенствами и которое я называю Богом. Бог – Его имя собственное. Все происходит между именами собственными. Какова математическая формула онтологического доказательства? Математическая формула онтологического доказательства есть «бесконечность, деленная на единицу». Бесконечность1.
Почему?
Бесконечность = совокупность всех возможностей. Я делаю отсюда вывод: если возможно множество всех возможностей, существует индивидуальное существо, ему соответствующее; индивидуальное и сингулярное существо, которое соответствует этому концепту. Я продвигаюсь от бесконечности к индивиду. В случае с Богом я сказал бы: бесконечное охватывает индивидуальность. Вот оно, онтологическое доказательство. Если бы необходимо было дать его формулировку, которая нас устроила бы, то онтологическое доказательство, доказательство существования Бога, было бы таким: бесконечное охватывает индивидуальность. Подразумевается индивидуальность Бога, сингулярность Бога. Бесконечность, деленная на единицу. Вы только что видели, исходя из других оснований, почему монада имеет математическим символом единицу, деленную на бесконечность (1/бесконечность). На самом деле, на сей раз я исхожу из индивидуального единства, и это индивидуальное единство включает в себя бесконечное множество предикатов 1/бесконечность.
Я спросил бы: что располагается между Богом (бесконечность/1) и монадой, индивидуальным субъектом (1бесконечность), каковы их отношения? Вот вопрос. Это позволяет мне сказать, что монада инверсивна по отношению к Богу. Инверсивное? Но что это такое? «Инверсивное» означает нечто весьма определенное, здесь это необходимо знать. Именно в этом смысле философия имеет в виду знание. Необходимо знать смысл слов. Почему, например, я не говорю «противоположное»? Почему я не говорю, что монада есть противоположность Бога, или наоборо? Нет, это не просто так. Логика дает нам очень строгую картину противоположностей, и мы знаем, что оппозиция контрарного типа совсем не то, что оппозиция контрадикторная. Мы знаем, что существуют всевозможные типы оппозиций. Например, инверсия – это тип оппозиции? да, но не какой угодно тип. Здесь у вас нет права… Насколько у вас есть право создавать концепты, если вы это можете, настолько же у вас нет права пренебрегать наукой, необходимой для философии, – точно так же, как если бы вы занимались математикой, то у вас не было бы права пренебрегать наукой, необходимой для того, чтобы заниматься математикой.
Поскольку мы говорим о математике, то в математике существует понятие «инверсивных», то есть обратно пропорциональных, чисел. Если дано целое число два, то какое будет обратно пропорциональное для него? Обратно пропорциональное двум? Контрарное 2 = –2. Обратно пропорциональное двум равно половине. Почему? Потому что не существует целого числа, которое вы могли бы записать в форме числитель/знаменатель. Итак, число два есть 2/1; обратно пропорциональное 2/1 есть 1/2. Знаменатель становится числителем, а числитель – знаменателем. Итак, 1/2 есть обратно пропорциональное от 2/1.
Я говорю: буквально монада как 1бесконечность есть обратно пропорциональное по отношению к Богу, бесконечность1. Это верно буквально. Итак, все происходит на этом уровне. Все происходит между индивидами. Раз уж сказали, что бесконечное есть повсюду, то это не одно и то же бесконечное. Вы понимаете, что когда Лейбниц говорит нам: «Все бесконечно, и все бесконечно в действии», то неопределенного не существует, есть только бесконечное. Тем не менее существуют разнообразные типы бесконечного. Так, бесконечное Бога есть не то же самое, что и бесконечное мира, охватываемого каждым индивидом, – отнюдь нет.
Но я могу сказать, что индивид в точном смысле инверсивен Богу; всякий раз у вас есть бесконечное и индивидуальность. Благодаря паре «бесконечное – индивид» Лейбниц переворачивает всю философию. Он утверждает, что концепт доходит до индивида. Он буквально первый, кто примирил концепт с индивидом, так как содержание концепта не только может продлеваться неопределенно долго, но и стремится к бесконечности.
Все это выглядит очень произвольно. Лейбниц принял здесь решение. Но поймите, к чему оно обязывает его. Когда другие говорили, что они не видят средства продлить концепт до индивида, когда они полагали, будто необходимо, чтобы концепт останавливался, не доходя до индивида, даже если его содержание можно было продлевать неопределенно долго, то дело здесь в том, что у них был забавный способ разрабатывать проблему индивидуации. И здесь я чуть ли не позволяю себе высказать личное мнение, хотя и в надежде помочь вам понять кое-что из Лейбница. Мне кажется, что все теории индивидуации до Лейбница имели катастрофическую пресуппозицию. Их катастрофическая пресуппозиция заключалась в том, что индивидуация происходит «задним числом». Она происходит после спецификации. А спецификация – это разделение понятия на роды, все уменьшающиеся. И мыслители вбили себе в голову, что совершенно нормально начинать с наиболее обобщенного, и в этом ошибка Платона и остальных, а в конечном счете ничья, раз всех и каждого. Они исходят из наиболее универсального и тогда форсированно не доходят до индивида. А поскольку индивидуация не есть спецификация, индивида мы не найдем, если будем продлевать спецификацию неопределенно долго. И тогда если они говорят, что индивид находится после последнего вида, после наименьшего вида, то они заранее проиграли: они никогда не смогут построить мост через пропасть между наименьшим видом и индивидами. А необходимо было сделать противоположное, [нрзб.]. Необходимо было осознать, что всякая спецификация, то есть всякое назначение вида или рода, не скажу «предполагает» индивидуальные объекты – нет, это уже сделано, это то, что называют знаменитым [нрзб.], – нет, речь идет о совершенно ином: всякая спецификация предполагает сферы индивидуации. Всякое назначение видов и родов предполагает процессы индивидуации, которые, следовательно, не могут «накладываться» на определенный тип спецификации. Иными словами, индивидуация первична.
Если индивидуация первична, то, по сути, все само собой разумеется. Отношение «индивид – бесконечное» я называю «двоякое отношение»: в случае Бога – «бесконечноеединство»; в случае монады – «единствобесконечное». В этом случае мы сохраняем эти в буквальном смысле инверсивные отношения между монадой и Богом, что позволяет нам ставить разные виды проблем: если верно, что всякая индивидуальная субстанция есть точка зрения, верно ли, что Бог есть точка зрения? Могу ли я говорить о Боге как о просто-напросто бесконечной точке зрения? Есть ли Он нечто иное, нежели точка зрения? Очень странно, но тексты Лейбница колеблются по этому вопросу. Вероятно, возможны оба ответа: Бог, безусловно, есть точка зрения, проходящая через все остальные точки зрения, – но в то же время наиболее содержательные точки зрения утверждают, что существуют взгляды Бога, которые порождают точки зрения, но точки зрения Бога не существует. Вы понимаете, в каком смысле точки зрения Бога не существует? Дело в том, что бесконечное1 не есть формула точки зрения. Формула точки зрения есть 1бесконечное. Тем не менее Бог может проницать все точки зрения как раз потому, что точки зрения инверсивны по отношению к позиции Бога. Позиция точки зрения инверсивна по отношению к позиции Бога.
Больше здесь ничего не возможно.
Нам остается, наконец, сказать, что мы завершили нашу первую часть. Мы почти показали, как строится верхний этаж. Правда, мы еще можем сделать вывод, что, по существу, перед нами полное переворачивание традиции двух миров. Два этажа, конечно, есть, но вот есть ли еще два мира? На верхнем этаже находятся индивидуальные субстанции, которые охватывают мир. Они охватывают мир, так как их атрибутами служат все состояния мира. Внизу располагается материя и тысячи ее складок. А между этажами – что? Я показал, как два этажа сообщаются между собой – я показал, что сгиб причастен сразу и верхнему этажу, так как представляет собой идеальный генетический элемент, – и что, исходя из сгиба, мы добирались до точки зрения и до присущности; это принадлежит к верхнему этажу, но также отсылает и к нижнему, так как это генетический элемент складок материи. Стало быть, тут два этажа сообщаются между собой.
Что совершенно ново, так это то, что на нижнем этаже существуют только субъекты как индивидуальные понятия. Правда, еще и Бог. Существует бесконечное множество 1/бесконечность, и один-единственный, включающий всё, один-единственный бесконечность/1.
Что такое этот барочный мир? В прошлый раз я говорил вам о живописи Тинторетто. Вы занимали оба этажа. Двух миров уже нет, необходимо об этом поразмыслить; двух миров нет, есть два этажа: этаж, куда все падает, падают тела, и этаж, куда возносятся души. Этаж складок материи, которая непрестанно выходит за пределы самой себя, где тела утрачивают равновесие и падают вниз, и все такое. И затем на верхнем этаже – танец душ; между двумя этажами тысячи путей коммуникации. Возьмите типичную барочную картину, Эль Греко, «Погребение графа Оргаса», эту знаменитую картину Эль Греко. Там представлены два этажа: внизу – погребение и участники погребения, а вверху, на самом верху полотна, – необыкновенная спонтанность субъективных форм, так называемые небесные субъективные формы, но хватит… Возьмите Тинторетто: на одном этаже все падает, на другом этаже – своего рода невероятный танец. Это даже не движение, а скорее весьма оживленная спонтанность – и все-таки разве эти картины не похожи? Почему два этих художника считаются двумя гениями барокко? Мы не должны отменять лекцию, которую могли бы посвятить этому, ради экономии времени, но мы можем предощутить, что два этих этажа не способ называть два мира по-новому. Это очень-очень мощая постановка двух миров под сомнение. На верхнем этаже вы найдете лишь индивидуальные понятия, индивидуальных субъектов; на нижнем этаже вы найдете лишь складки. Итак, это уже не два мира, а отношения между этажами. Какие? Зарождается величайший оригинальный концепт Лейбница: эти отношения всегда будут называться гармонией. Гармония. Почему гармония? Когда мы дойдем до этого, до разговора о гармонии у Лейбница, потому что это один из величайших его концептов, нельзя будет забывать о том, что мы сегодня сделали. Моя мечта состояла бы в том, чтобы найти… – настолько глупо, что это не было сделано, стало быть, еще одна причина сделать это нам; по-моему, никто не пытался составить список значений слова «гармония». Мы как-то говорили, что у Лейбница все они присутствуют. А именно: если вы помните коммунальную школу (это, может быть, лучше, чем «коммуналка»{ Имеется в виду «la communale», разговорное обозначение коммунальной школы.}), может быть, вы помните, что существует среднее гармоническое чисел и это не то же самое, что среднее арифметическое. Среднее арифметическое – это нетрудно, но среднее гармоническое? Необходимо вспомнить наши детские терзания, потому что это не пустяк. Необходимо вновь понять, что такое «среднее гармоническое». Это, говоря наскоро, среднее гармоническое чисел и инверсивных им чисел, и среднее гармоническое проходит через отношения между числом и инверсивным ему числом, вроде 2 и 12. Именно рассмотрение обратно пропорциональных чисел определяет среднее гармоническое, в отличие от среднего арифметического. Над этим следует поразмыслить.
После каникул нам придется рассмотреть отношения между Лейбницем и Уайтхедом.
Лекция 2
(20.01.1987)
Сначала резюме, потом пойдем вперед.
Возвратимся назад: чем дальше мы уходим вперед, тем больше меня поражает то, на что поначалу я обращал недостаточно внимания. Это тот знаменитый текст о монадах, которые без дверей и окон; эти тексты всегда рассматривались, этих текстов много, в частности я имею в виду конкретный текст из «Монадологии», хотя существует много текстов, подхватывающих эту идею. В большинстве прочих текстов сказано: «без отверстия», «без дверей и окон, без отверстия». И вот то, что все более меня удивляет: внезапно мне показалось, что этого не замечали; я отношу это на свой счет, потому что это до меня внезапно дошло; я знал этот текст очень давно, однако все-таки в нем есть нечто поразительное – когда читаешь его, говоришь себе: очевидно ли, к чему это отсылает? Это не отсылает к метафизике, хотя полагали, будто это в высшей степени метафизическая пропозиция Лейбница, пропозиция в высшей степени парадоксальная: монада без дверей и окон, то есть у субъекта нет дверей и окон. Но я говорю, что тут возможно совершить скачок, и каждый из нас упрекает себя за то, что не подумал об этом сразу: это отсылает к весьма конкретному обустройству пространства.
Но ведь это и есть наша отправная точка, это тема нашей работы на этот год: преимущественно барочное обустройство пространства. Комната без дверей и окон! А в чем здесь барокко? Вы видите, что, отсылая к прошлому, мы исходили из идеи о том, что барокко – это складка к складке, это складка, устремленная к бесконечности.
Второе определение: барокко – это комната без дверей и окон. А в чем здесь конкретно барокко? Я имею в виду, что это идеал: небольшое отверстие всегда должно быть, но мы говорим об идеальном.
Возьмите барочную архитектуру. Здесь даже нет необходимости приводить примеры, потому что это константа для барокко – у Гварини{ Гварини Гварино (1624–1663) – итал. архитектор, математик и богослов. Его радикальное барокко известно как «architecture oblique» – криволинейное зодчество.}, у Борромини, у Бернини. В конечном счете, «без дверей и окон» – на какие мысли это вас наводит? Это, очевидно, идеал, но чего? Это идеал, я бы сказал, также и кельи, дарохранительницы, часовни, театра, то есть всех тех мест, где то, что следует увидеть, либо обращается к духу, как в келье монаха, либо же оно находится внутри комнаты, как в театре. И когда я говорю «монах», «келья монаха», то это не случайно, потому что монах и есть monas, это одно и то же слово – монах и монада. Но, разумеется, ни в монашескую келью, ни в профанный театр барокко не проникло. Конечно. Зато архитектурный идеал комнаты без дверей и окон – вот где барокко.
Конкретно – что такое «комната без дверей и окон»? Конкретно это «камера-обскура». Камера-обскура тоже специально не дожидалась барокко, но верно, что в барочную эпоху камера-обскура приобретает для всех искусств определяющую важность. Что такое камера-обскура в подробностях ее механизма, вы найдете, например, в книге Сары Кофман{ Имеется в виду книга: Kofman Sarah. Camera obscura. De fidologie. P., 1973. Сара Кофман (1934–1994) – франц. философ.}, которая и называется «Камера-обскура»; преимущество этой книги в том, что в приложении она приводит текст XVIII века, где дано подробное – а стало быть, для нас это ценно – описание камеры-обскуры. Вы видите, это комнатка, в которую вводится индивид, например, художник, и он воспринимает свет через цилиндрическое отверстие в потолке, стало быть отверстие есть, но это отверстие регулируется – или свет, поступающий сквозь это отверстие, регулируется – взаимодействием наклонных зеркал и сообразно позиции, которую художник хочет придать своей картине по отношению к предметам-моделям, поступающим к нему через зеркало; в зависимости от того, требуется ли ему перпендикулярное, параллельное или наклонное положение картины, будет действовать конкретный тип наклона зеркал. Вы узнаёте также лейбницианскую тему монады, зеркало города, и здесь также весьма поразительно, что напрашивается сравнение, сопоставление с камерой-обскурой, когда Лейбниц говорит нам: монада – зеркало города. Но ведь это и есть непосредственно камера-обскура. И притом очень важно, что в эпоху барокко камера-обскура будет объектом систематического применения у некоторых художников, например, у Караваджо.
Продолжим. Камера-обскура, дарохранительница. В Риме есть одна дарохранительница, в которой нет буквально ничего, кроме миниатюрного входа. Все остальное создает великая техника барокко, все остальное – обманки. Окна выполнены как обманки, плафон расписан как обманка и т. д… Использование обманок в барочную эпоху не представляет для нас ни малейшей проблемы, потому что это как раз и есть монада без дверей и окон. Как описывают капеллу Святой Плащаницы в Турине, даже в путеводителях по этому городу? Я не знаю, описывают ли ее как монаду, но это ничего не значит; хорошо известно, что ее описывают именно так: она вся из черного мрамора. Вы помните важность мрамора в барокко, и притом в очередной раз этот мрамор – с прожилками. Капелла эта вся из черного мрамора, она очень-очень темна, и она действительно имеет минимальное количество отверстий, и опять-таки идеальное в этих отверстиях – то, что сквозь них ничего не видно. Все, что надо увидеть, находится внутри комнаты. Но так как там черно, то в предельном случае там – даже не то, что необходимо увидеть, а то, что необходимо прочесть. Вы мне скажете, что для чтения необходим свет – да, свет необходим, но сугубо как физическое условие; чтение есть работа духа, чтение есть восприятие духом; и это Кабинет для чтения. К тому же монада читает мир еще в большей мере оттого, что она его не видит. В прошлый раз мы рассматривали весь переход от видения к чтению у Лейбница. Интерьер без дверей и окон – действительно, один из вас говорил мне, исходя из барокко, об этой архитектурной монашеской теме кельи без дверей и окон, или взять ту же тему дарохранительницы: вероятно, здесь один из вкладов барокко в архитектуру. Один из вас приводил мне пример знаменитого творения Ле Корбюзье, он хорошо его проанализировал: это аббатство Ла Турет, близ Лиона, где часовня, – он объяснил это очень хорошо; если бы он там был, он бы при желании добавил кое-что еще – часовня в предельном случае без дверей и окон. Это комната, которая буквально, в точности реализует формулу: «интерьер», в предельном слуае, – интерьер без экстерьера. И тогда, конечно, отверстия существуют, но отверстия настолько скошенные, настолько искривленные – в часовне Ле Корбюзье, – что свет проходит сквозь эти отверстия, но мы ничего не видим снаружи, и проходит исключительно свет, расцвеченный внутренними элементами, так что сами эти отверстия не позволяют увидеть ничего снаружи. Я говорю об отверстиях наверху либо о боковых отверстиях. Я не имею в виду того, что это аббатство Ле Корбюзье – барочное, я имею в виду, что этого замысла не существовало бы без барочной архитектуры.
Вы, наконец, видите, как всевозможные разновидности приемов, которыми оперирует барокко, подобно обманкам или трансформируемым декорациям в театре, следует понимать исходя из барочного идеала интериорности. Интериорность без дверей и окон, то есть все, что необходимо видеть, находится внутри. А если то, что необходимо видеть, находится внутри, то то, что необходимо видеть, следует читать. Но, в конце концов, каков коррелят этого интерьера без дверей и окон? Коррелят этого интерьера – экстерьер, в котором есть двери и окна, – но как раз барочный парадокс в том, что он уже не соответствует никакому интерьеру. И что это такое? Это фасад! Фасад пронизан дверями и окнами, только фасад больше не выражает интерьера. Наше последнее определение барокко пока что таково: фасад обретает независимость в то самое время, когда обрел автономию интерьер. По поводу соответствия между фасадом и интерьером можно было бы, например, сказать, что – некоторым образом – архитектура Ренессанса подразумевает, что это соответствие между интерьером и экстерьером, фасадом и интерьером, заменяется на напряжение между фасадом, унизанным дверьми и окнами, и интерьером без дверей и окон. Как если бы два элемента обрели: один – независимость, независимость фасада по отношению к интерьеру, другой – автономию, автономию интерьера по отношению к фасаду. Тем не менее здесь необходимы отношения, и это уже не будут отношения соответствия, либо надо будет придумать соответствия нового типа. Итак, вот перед нами новая характеристика барокко: напряжение между интерьером и экстерьером, учитывая их относительную взаимную независимость. В этом смысле, например, такой литературный критик, как Жан Руссе, который много написал о барочной литературе, по-моему, очень хорошо кое-что разглядел. Свою вторую книгу, – хотя, как ни странно, эта его вторая книга представляет собой в каком-то смысле прощание с барокко, в ней накоплены сомнения по поводу понятия барокко, – он очень хорошо называет ее: «Интерьер и экстерьер». В первой же книге Руссе, которая называется «Литература эпохи барокко во Франции»{ «Littrature de l’ge baroque en France». P., 1953. Жан Руссе (1910–2002) – швейц. литературовед. Книга «Интерьер и экстерьер» – не вторая, а третья его книга (1968).}, он в последней части задается вопросом: но что же такое барокко? И начинает ответ очень хорошо, утверждая: это независимость фасада. А затем он переходит ко второму пункту, и так как фасад является независимым, то есть уже не выражает интерьера, то, следовательно, барокко образует «взорванный» интерьер.
Здесь мне представляется, что это больше не работает, и примером «взорванного» интерьера Руссе считает декоративную перегруженность. Это больше не работает, но в то же время он прав: все это очень сложно, это отнюдь не «взорванный» интерьер, и декор, даже будучи псевдоперегруженным, не имеет ничего общего со взрывом. С необходимостью мы имеем декорацию, которая с определенной точки зрения может показаться чрезмерной – но это единственно потому, что все, что следует увидеть в интерьере, находится в интерьере; ведь интерьер – без дверей и окон; стало быть, это отнюдь не «взорванный» интерьер, это, наоборот, интерьер, сосредоточенный на себе.
И получается, что Руссе гораздо более прав, когда он отмечает это напряжение между интерьером и экстерьером, между фасадом и интерьером. И, внимательно читая [нрзб.], мы находим фразу, которая кажется мне определяющей (с. 71 французского издания): «Как раз этот контраст между агрессивным языком фасада и просветленным спокойствием интерьера образует один из мощнейших эффектов, которые мы ощущаем благодаря искусству барокко». Невозможно сказать лучше: напряжение фасада стало независимым от интерьера, а интерьер стал независимым по отношению к фасаду.
Тогда соответствия больше нет, но в каком смысле? И опять-таки: как сложатся отношения? Какими будут отношения между независимым фасадом и автономным интерьером? Вот это-то и станет великой проблемой барокко. Я говорю «напряжение фасада» – и поэтому я хотел бы вернуться назад: я полагаю, что напряжение между фасадом и интерьером не может разрешиться – в том смысле, в каком мы говорим о разрешении напряжения, оно может разрешиться лишь через различение двух этажей. Интерьер будет отправлен на первый этаж, тогда как фасад займет весь верхний этаж. Именно сочленение между двумя этажами, то есть складка между ними, сделает возможным новый модус соответствия между независимым фасадом и автономным интерьером. Если вам угодно – то, что видно снаружи, так как фасад рассматривается снаружи, потому что в нем нет интериорности; соответствие между тем, что мы видим снаружи, и тем, что читаем изнутри. Верхний этаж – это кабинет чтения, обманка; все, что вы хотите, вы получаете при чтении, камера-обскура есть кабинет чтения.
И получается, что барочное единство опять-таки будет тем, что мы видим снаружи на нижнем этаже, и тем, что мы читаем изнутри на верхнем этаже. Однако что такое единство «чтение – видение», «чтение – зрение»? Да, сегодня мы сказали бы, что блок «чтение – видение» есть мультфильм. Ладно. Но ведь это существует и в эпоху барокко. Хорошо известно, что эпоха барокко – это эмблематичная эпоха по преимуществу. Но что такое эмблема в теории знаков? Эмблема – это блок «чтение – видение». Например, геральдическая эмблема – это что? Девиз и фигура: единство «девиз – фигура», оно старо как мир. Почему же именно барокко разрабатывает циклы эмблем? Почему именно эмблема так развивается в барочную эпоху?
Я почти что перефразирую вопрос на эту тему: что нам говорит Вальтер Беньямин в книге о барокко, о драме и барокко; что такое барокко? Он говорит нам: мы очень плохо поняли, что такое аллегория, потому что судили о ней с позиции ценностного суждения; считалось, что аллегория – это плохой символ. Но он говорит: нет, аллегория есть нечто отличающееся от символа по природе. Необходимо было бы противопоставить аллегорию и символ. Ладно. Неважно, как в нем – в тексте Беньямина – определяется аллегория. Дело не в этом, в конце концов, мне не удалось вовремя заглянуть в этот текст… Но, в конце концов, некоторые из вас, конечно, смогут заглянуть туда, это прекрасный текст, хотя неважно, какое в нем определение. Что я подчеркиваю, так это различие по природе между символом и аллегорией. Почему? Потому, что, со своей стороны, я бы сказал очень просто: символ – это прямое соответствие между интерьером и экстерьером. Аллегория же предполагает разрыв, дизъюнкцию между интерьером и экстерьером.
Экстерьер показывает себя в некоей фигуре, интерьер дает себя прочесть в некоем шрифте, и соответствие больше не является непосредственным. Итак, соответствие, больше не являющееся непосредственным, – это что? Вот в чем будет вся проблема Лейбница. Определять косвенные соответствия между уровнями, то есть между этажами. Это он и назовет Гармонией. Следовательно, аллегория заполняет весь барочный мир как синтез видимых фигур и читаемых букв, это неизбежно! Вот это-то я и имел в виду. У вас есть что добавить?
Вопрос: А как же архитектура?
Делёз: Для архитектуры это мне кажется очевидным. Мы исходили из определения складок, «складка, которая устремлена к бесконечному», но, исходя из этого определения, мы переходим ко второму: экстерьер стал независимым – притом что интерьер стал автономным. Без дверей и окон. И складка – это поистине то, что проходит между ними, между фасадом и интерьером, коль скоро то, что соединяет два этажа, опять-таки напряжение между фасадом и интерьером, может быть разрешено только через различение между двумя тажами. Вот на этом-то я и настаивал. Нет проблем? Все хорошо? Нет, да?
Вопрос: Кое-что меня немножко беспокоит…
Делёз: Ну?
Вопрос: …Камера-обскура – в принципе, она служит для проецирования того, что мы видим, на си, тогда как на самом деле проекция происходит на сферу, на кривую. Это использование камеры-обскуры как будто бы входит в явное противоречие с тем, что вы говорили об использовании кривых в барокко.
Делёз: Это не на одном и том же уровне, понимаете? Нельзя все сводить на один уровень. В текстах Лейбница постоянно встречаются прямолинейные приемы, не следует стремиться, чтобы… Как я хотел дать вам почувствовать: например, если вы возьмете такую фигуру, как треугольник, то она будет, очевидно, прямолинейной. Что касается Лейбница или барочной математики, то не надо полагать, будто это подразумевает, что прямых линий нет или что прямолинейных фигур не существует; что нет прямолинейных структур. Все, чего требует барокко, это предположить, что прямолинейные структуры вторичны по отношению к криволинейным. Тогда то, что сама камера-обскура является прямолинейной, совершенно неважно; идет в счет лишь то, что на другом уровне физики кривизна будет первичной по отношению к всевозможным прямым линиям; однако это не предполагает избегания всевозможных прямых линий. Аналогично этому, когда я говорил вам, что происходит в барокко со сгибом: он служит тому, чтобы замаскировать прямой угол, и это вы постоянно встречаете в барочной архитектуре; и все-таки это не препятствует существованию прямых углов. Все, что вы можете сказать: сгиб закругляет угол, но угол присутствует…
[Конец пленки.]
…Он все время говорит это в методах, использующих предел. Мы фактически можем представить себе кривую как предел ряда прямых углов.
Пункт второй.
Коль скоро это так, мы вынуждены различать всевозможные типы инклюзии сообразно рассматриваемым пропозициям. И прежде всего основополагающая двойственность пропозиций: это были сущностные пропозиции и пропозиции существования. Сущностная пропозиция: два плюс два – четыре; пропозиция существования: Цезарь перешел Рубикон или Адам согрешил. Будем называть анализом операцию, которая показывает инклюзию. Если я показываю, что такой-то предикат содержится в понятии, то я занимаюсь анализом; различие между двумя типами пропозиций, сущностной пропозицией типа два плюс два равно четырем и пропозицией существования типа «Цезарь перешел Рубикон», может быть представлено в следующей форме: в случае с сущностными пропозициями анализ является конечным, то есть серией операций показывается, что предикат включен в субъект, а в случае с пропозициями существования анализ является неопределенным. Ответ: нет, только первое противоречие можно назвать действительно досадным. Почему? Потому что в сущностных пропозициях анализ не может быть конечным (хотя мы называли его конечным), так как сущностные пропозиции, по сути, касаются наиболее глубинных слоев разума Бога.
Но ведь Бог бесконечен и имеет дело только с бесконечным. Сущностные пропозиции не могут подлежать конечному анализу, что бы мы здесь ни говорили. И даже если Лейбниц вроде бы говорит о конечном анализе, он невозможен! Невозможен. Даже если он это и говорит, это только слова. Это невозможно. С другой стороны, пропозиции существования не могут быть неопределенными. Почему? Потому, что даже для Бога растворение предиката в субъекте является бесконечным. И здесь слова Лейбница формальны: Сам Бог не видит конца этого рассмотрения, потому что Он Сам бесконечен. Включение предиката в субъект имеет в виду бесконечный анализ, и во всех случаях я полагаю, что анализ с необходимостью бесконечен. Ну ладно…
Относительно вышеописанного рассмотрим случай сущностных пропозиций типа «два плюс два – четыре». В чем состоит включение? Здесь это очень важно, здесь, мне кажется, все пронизано противоречиями, и поэтому я прошу сразу и вашего благоволения, и вашего внимания. Мне необходимо убедить вас, но это ваше дело – судить, убеждены вы или нет. Первый тип включения: в сущностных пропозициях – взаимнообратные включения. Что такое «взаимнообратное включение», у Лейбница сказано отчетливо: это отношение между определяемым и его определением, при условии что определение будет реальным. Что такое «реальное определение» – это необходимо знать наизусть: реальное определение – это определение, показывающее возможность определяемого. Оно противостоит номинальному определению: это – определение, которое позволяет распознать определяемое, но не показывает его возможность. Пример реального определения: вы определяете три через двойку и единицу. Почему это определение – реальное? Это определение реальное, потому что оно определяется первыми слагаемыми, первыми числами. Между определяемым и реальным определением существует взаимнообратное включение. Вы можете заменять одно другим. Если вы нанизываете реальные определения, вы осуществляете доказательство: в предельном случае вы дойдете до того, что Лейбниц называет тождествами. Что такое тождества? Это последние члены анализа. И все-таки я только что сказал, что последнего члена не существует. Итак, это только оборот речи, последний член: это члены, сами по себе бесконечные, а значит, абсолютно простые, а следовательно, между ними нет ничего общего. Это Лейбниц называет абсолютно простыми первичными понятиями. Что такое абсолютно простые первичные понятия – я дам вам ответ Лейбница: это формы, непосредственно возвышаемые до бесконечности. Пример: всякий раз мы будем проверять, можно ли помыслить бесконечную скорость. Если да, если мы можем помыслить бесконечную скорость, то скорость будет абсолютно простым понятием. Можно ли помыслить белое до бесконечности белым? Если да, то белое относится к той же категории. Но ведь до бесконечности белое помыслить нельзя, и неважно почему. Белое всегда будет представлять собой некую степень белого. Итак, мы, по-видимому, не можем помыслить бесконечный цвет. А можем ли мы помыслить бесконечную протяженность? Декарт, например, скажет: «Да». Лейбниц, может быть, сказал бы: «Нет». Разве можем мы помыслить протяженность, бесконечную, саму по себе, непосредственно бесконечную – может быть, нет.
Что же мы можем помыслить как бесконечное; можем ли мы помыслить бесконечный разум? По Лейбницу, да. Впрочем, все это неважно.
Достигну я таких форм или нет, я буду называть абсолютно простыми понятиями бесконечные формы, формы, непосредственно бесконечные. Я бы сказал, что здесь это уже не взаимнообратные включения, так как каждая имеет дело только сама с собой. Два абсолютно простых понятия никак не соотносятся между собой. Они являются разрозненными. Они тождественны – не в смысле того, что одни тождественны другим, а в том, что каждое тождественно самому себе. В действительности оно отсылает только к себе самому. Это уже не область взаимнообратных включений, это область автовключений. Тождественное есть автовключение. Оно относится к самотождественностям. Абсолютно простые первичные понятия являются разрозненными, то есть не имеют ни малейшего отношения друг к другу, и парадоксальное рассуждение Лейбница – я попытался объяснить его в прошлый раз, вот почему он черпает из него новое доказательство существования Бога, – состоит в том, что как раз потому, что бесконечные формы, абсолютно простые понятия не имеют ничего общего между собой, они могут принадлежать одному и тому же Существу: ведь противоречить друг другу может означать еще и нечто показывать. Они могут с тем бльшим основанием принадлежать одному и тому же Существу, что у них нет ничего общего между собой.
Я говорю: аналогичное рассуждение у Спинозы поистине в духе времени. Именно потому, что между мыслью и протяженностью, строго говоря, нет ничего общего, они обе могут быть атрибутами Бога, то есть атрибутами одного и того же Существа. Итак, автовключение первичных форм позволяет сделать вывод о сингулярном существовании некоего бесконечного существа, которое, стало быть, обладает всеми бесконечными формами. Иными словами, если угодно, следовало бы сказать: абсолютно простые понятия, или бесконечные первичные формы, формальо различаются, но онтологически образуют Единое. Вот новое доказательство существования Бога. Формально различные, но онтологически Единое.
В принципе, мы восходим по взаимнообратным включениям вплоть до автовключений, то есть мы восходим по цепочке определений вплоть до тождеств, а тождества неопределимы, поскольку каждое тождество содержит лишь само себя.
Итак, это объект того, что Лейбниц называет «комбинаторным». Предполагается, что мы исходим из простых понятий, чтобы добраться до сложных. Но что касается нас, то опять-таки: раз уж мы не добираемся до абсолютно простых понятий, находящихся в глубине Божьего разума, то мы – конечные создания, но это не имеет ни малейшего значения. Никакого значения не имеет то, что мы не добрались, так как мы удовольствуемся относительно простыми понятиями. А что такое «относительно простые понятия», которые, стало быть, – и вы это чувствуете – образуют символы? Это то, что Лейбниц называет реквизитами той или иной области. Реквизиты той или иной области – вот реальное определение объектов заданной категории. Реквизиты суть относительно простые понятия, до которых мы добираемся.
Пример: я беру область, которая является дисконтинуальным количеством, или числом, и спрашиваю: каков реквизит этой области? Ответ Лейбница таков: это первые числа. Первые числа суть реквизиты каждого числа. Но вы скажете мне, что первые числа – это числа. С точки зрения Лейбница – и да, и нет: это весьма сингулярные числа, это числа, которые являются реквизитами всякого числа. Я беру другую область: организм. Каков реквизит сил весьма своеобразного типа, который я могу определить, – или который Лейбниц определяет забавным словосочетанием «пластические силы»? Мы очень бегло рассматривали, в чем состоят пластические силы: это силы, обладающие способностью свертывать до бесконечности и развертывать части некоего организма, раскручивать и скручивать данные части. Именно пластические силы определяют жизнь.
Если я беру область неодушевленной материи, материи неорганической, то на сей раз реквизиты будут эластичными силами, из-за которых все тела являются эластичными. Всякий раз и для всякой области я получаю относительно простые реквизиты. А значит, я вывожу вот этот новый пункт: Лейбниц говорит нам, что предикат включен в субъект, – хорошо! Но то, что я собираюсь сказать, – очень запутанно, потому что у меня пока еще не хватает элементов, чтобы сказать это яснее. И это как раз для того, чтобы дать вам почувствовать проблему. Опять-таки два плюс два равно четырем. Я говорил вам о том способе, каким Лейбниц доказывал это в «Новых опытах», он доказывает это очень хорошо: будем ему верить. Он доказывает это как раз через разложение на первичные слагаемые. Я говорю: где включение в «два плюс два равно четырем»? Оно не там, где думают. И это объясняет – мне кажется, что здесь видно, до какой степени Лейбниц плохо понят, – возражения, которые выдвигались ему в ответ на это. Включение хотели расположить там, где Лейбниц никогда о нем не думал, так как Лейбниц не говорит ни того, что «четыре» содержится в «2 + 2», ни того, что «2 + 2» содержатся в «4». В таком случае где включение? Почему оно здесь? Поймите, дело в том, что «2 + 2 = 4» следует записать, как всегда у Лейбница, с восклицательным знаком: это событие. Это идиотизм, когда, соглашаясь наделить важностью у Лейбница понятие события, исследователи имели склонность зарезервировать его за пропозициями существования, ведь это неверно! Что касается сущностных пропозиций, то здесь у Лейбница тоже нет ничего, кроме событий.
До Лейбница первой великой философией события был стоицизм. До стоиков таковой не было. Это уже творческий акт в философии – говорить: смотри-ка, я собираюсь превратить событие в концепт. Аристотель может говорить о событии, но у него это не концепт; это – понятие производное и зависящее от концептов Аристотеля, но делать событие предметом ни к чему не сводимого концепта – вот уж поистине гениальный ход! В конечном счете, философия всегда творится гениальными ходами вроде этого, когда нечто внезапно восходит на уровень концепта. Концепт события – это сигнатура стоиков. По этому поводу можно сказать, что концепт события имеет весьма прерывистую историю. Вторым великим философом, который возобновляет проблему события и концепт события, является Лейбниц. Третьим здесь будет Уайтхед. Прекрасно: три философа для одного концепта – достаточно!
И тогда я говорю: «2 + 2 = 4»! Поймите, что это – событие, или предикат, так что, прежде всего, не надо говорить, что «2 + 2» – это субъект, а «четыре» – это предикат. Когда так говорят, хорошо видно, что это неверно. Рассел, написавший о Лейбнице восхитительную книгу, все-таки демонстрирует здесь своего рода радикальное непонимание, но это Рассел, а стало быть, это не страшно, это стоит тысячи истин какого-нибудь остолопа{ В оригинале – неприличное слово «connard», которое можно переводить и как «мудак».}… хмм… Рассел, очевидно, скажет: вы прекрасно видите, что неверно, что всякое суждение есть суждение включения: 2 + 2 дают четыре, но вы не можете выделить включение.
Очевидно, Рассел полагал, что, по Лейбницу, либо 2 + 2 содержатся в «четыре», либо же «четыре» в 2 + 2. Один, два и три. В действительности, чтобы доказать, что «2 + 2 = 4», – вы, может быть, вспомните – Лейбниц использует три дефиниции. Доказательство того, что «2 + 2 = 4», представляет собой нанизывание трех дефиниций, эти три дефиниции задействуют «один», «два» и «три». Я бы сказал, что «2 + 2 = 4» есть предикат, отсылающий к субъекту «один, два и три».
И вдруг все идет насмарку. Почему насмарку? Потому что это все равно что сказать то, что я уже говорил: предикат – это то же самое, что и событие, или отношение. Мы далеки от тех, кто говорят, что Лейбниц не может учитывать отношения или соотношения. Почему? Мне кажется, что то, что Лейбниц называет предикатом, есть как раз то, что мы называем отношением: вот откуда берется двусмысленность. Я пытаюсь закончить свою тему, потому что все происходит сразу. Я говорю, что «2 + 2 = 4» – это совокупность отношений, вот это-то Лейбниц и называет предикатом. Он атрибутируется – чему? Он атрибутируется реквизитам, о нем говорят, говоря о реквизитах; он включен в реквизиты. Реквизиты – это что такое? Это три первых числа с использованием определений «один», «два» и «три».
«2 + 2 = 4» содержатся в «один», «два» и «три».
Но вы тут же скажете мне, что это означает насмехаться над миром, потому что надо еще помыслить «один», «два» и их вместе. А если ты мыслишь «один», «два» и «три» вместе, ты уже задал себе отношения, а отношение не может быть субъектом других отношений, значит, все это похоже на шутку, правда? Это неразумно, это несерьезно. И все-таки – да!
Перехожу к пропозициям существования. «Цезарь переходит Рубикон» – вы не видите, что это отношение. Я говорю: предикат содержится в субъекте, в понятии субъекта. Да, но предикат есть само отношение, он сам включен в субъект «Цезарь». Ладно. Но вы мне скажете, что субъект «Цезарь» – по меньшей мере он, – он сам по себе. Тогда как «один», «два», «три» – это три субъекта. Но ведь нет, субъект «Цезарь» тоже не сам по себе, так как субъект «Цезарь» включает целый мир, а целый мир составлен не только субъектом «Цезарь», но и субъектом «Адам», субъектом «Александр», субъектом «Нерон», субъектом «вы», «я» и т. д…
Иными словами, необходимо различать два плана: вы можете мыслить термины дистрибутивно, то есть вы мыслите их вместе и каждый в отдельности. Отношения пока еще нет. Если мы не проведем этого различия, то, по-моему, все распадется. Именно поэтому для Лейбница недостаточным будет сказать: я мыслю термины вместе, чтобы между ними были отношения; вы можете мыслить их вместе, но и каждый в отдельности, как дистрибутивные единства. Вы мыслите 1, 2, 3, но каждое в отдельности; вместе, и каждое в отдельности. Вы мыслите монаду «Цезарь» и монаду «Цицерон» вместе, но каждую в отдельности, как самодостаточные единицы.
Второй уровень, вы говорите: «Цезарь переходит Рубикон», здесь есть отношения между монадой «Цезарь» и монадой «Цицерон», так как Цицерон вскоре очень опечалится от того, что Цезарь делает это…
[Конец пленки.]
…Так что ответ на вопрос: откуда могут у Лейбница возникнуть отношения? – этот вопрос задают все логики – по-моему, очень прост. Никакой проблемы нет. Отношения суть предикаты. Как только что-нибудь предицируется, возникают отношения. Отношение и предикат отнюдь не противостоят друг другу – как думает Рассел, – отношение и есть предикат. Как только что-либо полагается в качестве предиката, возникает отношение. Что такое предикат? Отношения, то есть события. Вы мне скажете, что это неясно: почему отношения и события – это одно и то же? Вы это сейчас увидите.
Необходимо сказать все сразу. Ладно. Так что это очень важно, я могу сказать, что 2 + 2 = 4! Это совокупность отношений; именно совокупность отношений является предикатом «один», «два», «три»
взятых как дистрибутивное единство. Не существует такого отношения, которое в то же время не было бы предикатом, не осуществлялось бы через предикат и в предикате, так как отношение и есть предикат.
Вот, стало быть, система трех типов включения, соотносящихся с сущностными истинами: самовключения, или тождественности, взаимнообратные включения, или дефиниции, невзаимнообратные включения, или реквизиты. С этим всем мы занимались логикой сущности. Мы переходим к логике существования, то есть к пропозициям существования. И здесь возникает большая проблема: каковы отношения между двумя типами понятия у Лейбница? Речь уже не идет о простых понятиях вроде первичного, абсолютно простого понятия либо реквизита, то есть относительно простого понятия. Речь идет об индивидуальных понятиях. Они также являются простыми, но принадлежат к совершенно иному типу. Это понятия индивида. Я бы сказал – понятия с именем собственным: Цезарь, вы, я и т. д. И тут тоже есть включение. Это уже четвертый тип включения. Почему? На сей раз я бы сказал – и это то, что я предложил бы в качестве термина: четвертый тип включения – это нелокализуемые включения. Почему? Потому что индивидуальное понятие не включает предиката без включения всего мира. Следовательно, такое включение не локализуемо. Что же это означает? Если существует предикат, который включает понятие обо мне, то он таков: то, что я делаю в этот момент. Это означает: речь здесь идет не об атрибутах, речь идет о событиях.
Когда Лейбниц хочет показать, в чем состоит включение в индивидуальном понятии, он говорит: что я делаю сейчас? И в «Монадологии» дается ответ: «Я пишу». Но я пишу – это что? Пусть мне не говорят, что это атрибут! Это глагол. А что Лейбниц называет предикатом? То, что он называет предикатом, есть глагол: «Я пишу». И Лейбниц говорит: если «я пишу», или предикат «я пишу», или другой предикат, «Цезарь переходит Рубикон», является глаголом, то это событие. Глагол – это указатель события. Предикаты – это глаголы. Если вы этого не поддерживаете, по-моему, рушится весь Лейбниц. И рушится в действительности при множестве противоречий, какой ужас! «Я пишу», «я умираю», «я грешу», «я совершаю грех» – все это глаголы. Просто когда в письмах к Арно Лейбниц хочет привести пример включения предиката в субъект, он дает что? «Я совершаю путешествие», «я еду из Франции в Германию». Вот что говорит Лейбниц. «Я еду из Франции в Германию», и все-таки любопытно, чт заставляют его говорить по этому поводу; когда предъявляют тезисы о Лейбнице, говорят: включение предиката означает, что суждение существования – это имя субъекта + связка, глагол «быть» + качественное прилагательное. Я вам клянусь, что он никогда-никогда этого не говорил! А сказал бы, если бы захотел. Он говорит: «я пишу», «Цезарь перешел Рубикон», «Адам согрешил», «я путешествую»; иными словами, надо слушать его: предикаты – это глаголы, это не атрибуты, это не прилагательные. Это глаголы, а глагол есть свойство некоего события. Всякая монада, которая включает что угодно, с необходимостью включает весь мир. На этом простом основании это не будет работать на уровне атрибутов, вот именно! Дело в том, что всякое событие имеет причину: если я пишу, то это на таком-то и таком-то основании. Я пишу своей кузине: «Дорогая кузина, как твои дела?», и тому есть причина: я слышал, что дела ее плохи. Существует причина этой причины, затем существует причина вот этой причины и т. д. Стало быть, я не могу включить ни одного глагола, не включив бесконечный ряд причин, каковые тоже являются глаголами. Иными словами, причинность есть отношение одного глагола к другому глаголу. Такова связь глаголов, или связь событий между собой. Вот это-то и будет причинностью. С неизбежностью включение не будет локализуемым, если я включаю что угодно, то есть если я включаю некое событие, которое теперь меня касается, – «я пишу», – то я тем самым включаю всю тотальность мира, от причины к причине. В конечном счете все глаголы взаимосвязаны. Ладно…
Воспользуемся этим, чтобы внести здесь ясность. Часто считают, будто теория включения у Лейбница имела в виду редукцию суждения к суждению атрибутивному, – и это главная тема Рассела в его книге о Лейбнице. По этому поводу Рассел говорит, что Лейбниц запутывается, так как, будучи математиком и логиком, он прекрасно знает, что существуют отношения, а отношения – не атрибуты. Предположим, что в «небо голубое» «голубое» является атрибутом, хотя и в этом нет уверенности; зато 2 + 2 = четырем – здесь атрибута нет. Или же: «Цезарь переходит Рубикон» – это не атрибут, так как в противном случае придется формулировать «Цезарь является переходящим Рубикон», а «я пишу» придется формулировать как «я являюсь пишущим». Мы прекрасно видим, что это не одно и то же, что это надуманные редукции. И тогда Рассел добавляет: Лейбниц запутывается, потому что его теория включения подводит его к тому, чтобы сводить всякое суждение к суждению атрибуции. Но, будучи математиком и логиком, он первым узнал, что математика и логика – системы отношений, несводимых к атрибутам. Итак, Лейбницу понадобилось найти статус для таких отношений. Он чрезвычайно запутался, говорит Рассел. И, в конечном счете, сформулировал отношение: атрибут субъекта, сравнивающего вещи. Это смехотворное утверждение Рассела, потому что Лейбниц никогда ничего подобного не делал. Рассел не догадывается, что Лейбниц может поступить иначе, так как…
Впрочем, все неверно с самого начала. Рассел спутал включение предиката с атрибуцией, тогда как между ними, строго говоря, ничего общего. Иными словами, Рассел перепутал предикацию и атрибуцию, а для логика это досадно.
Атрибуция – это как раз отношения между субъектом и атрибутом, то есть качеством, – через посредничество связки «быть». Например: небо (есть) голубое. Это то, что мы называем суждением атрибуции. С точки зрения атрибуции, но только с точки зрения атрибуции, предикат есть атрибут. Так что получается, что суждение атрибуции предстанет в форме: субъект, связка «быть», предикат, который и есть атрибут. Но предикат – это атрибут только с точки зрения субъекта атрибуции. Если суждение не атрибутивное, оно все-таки вполне может иметь предикат. Предикат есть то, что сказано. Это нетрудно: то, что сказано. 2 + 2 = 4 – это предикат. По этому поводу логики говорят: ну нет, это не предикат, потому что нет субъекта. Они идиоты. Недостаточно не найти субъекта, чтобы не было предиката! Если мы спросим, каков субъект в «2 + 2 = 4», то это будет «один», «два» и «три», вот как… «2 + 2 = 4» – это отношения между «один», «два» и «три», рассмотренными сами по себе. «Один», «два» и «три», рассмотренные сами по себе, имеют предикат, каковой является отношением «2 + 2 = 4». Но «предикат» не означает «атрибут», это означает «то, что говорится о какой-либо вещи». По Лейбницу, предикат – это событие. Суждение не является атрибутивным, предикация – это когда говорят о событии, в котором участвует субъект. Я прочту интересующий меня конец фразы из письма к Арно: Арно спрашивает, что же такое вся эта история с включением, включением предиката в субъект.
Я цитирую эту небольшую фразу. Необходимо, чтобы вы выучили ее наизусть и держали в вашем сердце, это даст вам гарантию от всякой бессмыслицы: индивидуальное понятие (то есть Цезарь, вы или я) включает (он мог бы сказать «атрибут», но нет,он совсем даже этого не говорит, никогда! Впрочем, если он иногда говорит «атрибут», то это совершенно неважно, так как в этот момент здесь синоним предиката. Необходимо сказать: атрибут – это событие. Но это ничего не меняет) – он говорит: «Индивидуальное понятие включает то, что соотносится с существованием и временем». Что это значит: «то, что соотносится с существованием и временем»? Это и есть предикат. То, что соотносится с существованием и временем, – говорится о субъекте. Но то, что соотносится с существованием и временем, – не атрибут, если использовать слово «атрибут» во всей строгости его значения. А что? Это событие. Это даже превосходное определение события, правда номинальное: оно не показывает, как возможно событие. Это очень хорошее номинальное определение события, когда говорят: событие есть то, что соотносится с существованием и временем. В этом смысле нет события без отношений. Событие есть всегда отношение, и не только отношение с существованием и временем, но и отношение к существованию и времени. Стало быть, прежде всего не считайте, что предикация у Лейбница может сводиться – как полагает Рассел – к атрибуции. Если бы было так, то Лейбниц, по существу, впал бы во всевозможные противоречия. Однако, далеко не будучи атрибутом, предикат есть отношение, или событие, то есть отношение к существованию и времени в случае с пропозициями существования. Но ведь это очень близко к стоикам. Существует прецедент, и это была новая логика стоиков, которую – увы! – мы знаем очень плохо, нам доступны лишь жалкие фрагменты античных стоиков; увы! – не было бы кощунством сказать: мы могли бы иметь чуть меньше сочинений Платона и чуть-чуть больше – стоиков. И все-таки подобных вещей говорить не надо, следует довольствоваться тем, что имеешь, но – понимаете ли – наша иерархия античных мыслителей, она очень связана с тем, что до нас дошло. Ввиду того, что все это было утрачено, мы не можем как следует подвести итоги. До нас дошли более великие вещи, но та малость, которая до нас дошла, – она дошла до нас прежде всего благодаря комментаторам, комментаторам Античности; мы видим новую логику, которой они занимались.
В каком смысле они порывают с Аристотелем? Атрибутивное суждение – по существу, мы можем сказать, что оно вытекает из традиции: здесь я не хочу вмешиваться в Аристотеля, тут можно начать и не кончить, но я могу в общем и целом сказать, что оно совершенно напрямую вытекает из Аристотелевой традиции: субъект + глагол «быть» + качество. Это атрибутивное суждение. Великий разрыв стоиков состоял в том, что они сказали: нет, события; мир творится из событий, а события не соответствуют этой схеме. Что такое «предикат пропозиции»? Это не качество, атрибутируемое субъекту, это событие, событие, о котором сообщается в пропозиции. Событие типа «настает день!» (il fait jour!). А связь между двумя событиями образует подлинный предмет логики, например: «Когда настает день, становится светло!»; взаимосвязь событий. Диалектика определяется стоиками как взаимосвязь событий.
События и являются предикатами в суждении, в пропозиции. Отсюда и логика совершенно иного типа, нежели Аристотелева. С совершенно новым типом проблем. Например: что означает «пропозиция, относящаяся к будущему»? Будущее событие? «Морское сражение состоится завтра». Имеет ли эта пропозиция смысл или она не имеет смысла? Какой у нее смысл? А когда морское сражение закончится, изменит ли пропозиция модальность? Стало быть, пропозиция может менять модальность в зависимости от времени? Всевозможные проблемы: то, что соотносится с существованием и временем. Иными словами: событие – это то, что может выражаться в пропозиции. Предикат это или событие – оно выражено в пропозиции.
Видите ли, я на этом настаиваю, так как здесь содержится основополагающее противоречие: включение предиката в субъект у Лейбница. Тем не менее я делаю такой переход: Лейбниц возобновит эту логику события, будет ею вдохновляться и придаст этой логике новую ориентацию. В какой форме? В форме (вот это не имеет ни малейшего отношения к стоикам) следующего: события, или предикаты, или отношения, – все это подобно друг другу, события включаются в индивидуальное понятие того, с кем они происходят. Вот он, основополагающий вклад Лейбница в логику события. Событие включено в индивидуальное понятие того, с кем оно происходит, или тех, с кем они происходят. Трудно? Не трудно, наоборот, очень ясно. Вы видите, что включение предиката в субъект у Лейбница – это основополагающий шаг в теории события, которая не имеет ничего общего с теорией атрибуции и с атрибутивным суждением. Вот что я хотел бы сказать со всей определенностью, поскольку, опять-таки, ни один текст Лейбница, как мне известно, не позволяет проводить редукцию суждения или пропозиции к атрибутивному суждению. Вы понимаете?
Отсюда явствует нечто очень важное, а именно то, что в переписке с Арно есть абзац, где Лейбниц – а вы знаете, в переписке Лейбница с его корреспондентами присутствует много недоверия, но это нормально, это вполне легитимно… Арно в какой-то момент в их переписке – Арно очень коварен, потому что он очень умен – говорит Лейбницу: «Ну, вы знаете, ваша штука основана на том, что вы даете довольно новое определение субстанции, и тогда, если мы определяем субстанцию так, как делаете вы, то, очевидно, вы заранее правы. Но разве возможно определять ее так?» И Лейбниц переходит к упражнениям вольтижировки: «Как это новое? То, что я говорю, отнюдь не ново. О чем идет речь?» Арно отвечает ему: «Вы определяете субстанцию через ее единицу; и то, что вы называете „субстанцией“, является в конечном счете некоей единицей. В сущности, monas, как мы видели, и есть единство». Тут Лейбниц отвечает немедленно и говорит: «Вы сказали мне довольно странную вещь, вы говорите мне, что определение субстанции через ее единицу удивительно, однако это делали все и всегда». Арно в конечном счете, говорит: «Согласен, может быть, весь мир это и делал. Но это совершенно неубедительно». И у него все основания не сделаться убежденным. Ответственность за это перекладывается на Декарта. А Декарт отнюдь не определяет субстанцию через какое-то единство. Как же определяется субстанция у классиков, в XVII веке? Ее определяли через ее сущностный, хотя и неопределимый атрибут. Так, мыслящая субстанция определяется через сущностный атрибут, каковой есть мысль и от которого она неотделима. И как раз сущностный атрибут «мысль» определяет мыслящую субстанцию. А сущностный атрибут «протяженность» определяет у Декарта протяженную, или телесную, субстанцию. Субстанция неотделима от своего сущностного атрибута и, взаимно, субстанция определяется своим сущностным атрибутом. Я бы сказал, что в этом моменте вся классическая эпоха является эссенциалистской. Заметьте, что сущностный атрибут – это действительно атрибут. Это всего лишь атрибут. Но – какое чудо – я прав, осмеливаясь утверждать: именно Лейбниц не любит этого определения. Иными словами, для него суждение как таковое не является суждением атрибуции. Он не хочет определять субстанцию через ее сущностный атрибут. Почему? Потому что для него это абстракция, а субстанция конкретна. Иначе говоря, он отвергает сущностные суждения до такой степени, что не хочет иметь их вообще. А субстанцию определяет через что? Субстанция – это действительно единица (единство). Она одна (едина). И тогда Лейбниц может сказать: «Да, но ведь все всегда говорили, что субстанция едина». Но для остальных – там, где начинается диалог с «глухим» Арно, – для остальных единство – это свойство субстанции, а не ее сущность. Сущность есть сущностный атрибут. Это атрибут, от которого она неотделима. Отсюда проистекало, что сущность была определенным образом единой, однако это было лишь одним из свойств субстанции – «быть единой», тогда как у Лейбница сущность – и единственная сущность субстанции – быть единой. Она – монада. Она – monas. Именно единство (единица) определяет субстанцию: вот это-то и ново.
Коль скоро это так, что будет соответствовать у Лейбница находимому нами у Декарта соотношению «субстанция – сущностный атрибут»? Совершенно иной тип соотношения: субстанциальное единство, которое будет соотноситься со всеми способами существования этого единства. Я имею в виду что субстанция соотносится уже не с атрибутом, она соотносится со способами существования. Она уже не соотносится с сущностью, со своей сущностью, сущность у нее «за спиной», она едина. У нее нет другой сущности. Зато у нее есть способы существования. Основополагающее отношение теперь не «субстанция – атрибут», основополагающее отношение – «субстанция – способы существования». Будет ли преувеличением утверждать, что классическому эссенциализму противостоит маньеризм Лейбница? Ибо что мы будем называть маньеризмом? Мы будем называть маньеристской (маньеристским) такую концепцию или мировидение, философскую концепцию или живописное видение, которые характеризуют бытие через его способы. Эти способы (manires) необходимо воспринимать в самом буквальном значении слова: манеры бытия. Отношение «субстанция – сущностный атрибут» Лейбниц заменяет отношением «субстанциальное единство – манеры бытия». Еще раз надо повторить, до какой степени это не имеет ничего общего с суждением атрибуции.
[Конец пленки.]
Так или иначе, каждая монада выражает тотальность мира. Каждая монада выражает мир, каждое субстанциальное единство выражает мир – иными словами, мир есть манера бытия субстанциальных единств. Мир – это предикат субъекта. Это манера бытия субстанциального единства. Что же это такое? Назовем это порцией или узлом. Это большой барочный узел. Большой барочный узел – это знаменитый узел в мифологической истории, и мы называем его Гордиевым узлом. А что такое Гордиев узел? Он воспроизведен в медицинском кадуцее. Гордиев узел – это две сплетшиеся змеи. Я имею в виду: Гордиев узел – это узел, который не начинается и не кончается. Это узел, который великий царь Гордий соорудил для своей царской колесницы: ярмо и дышло неразрывно соединены. Вы знаете, что в мифологии существует целая история основополагающих узлов, это магические знаки по преимуществу, и Гордиев узел – один из прекраснейших магических знаков. Это узел без начала и конца, то есть из него ничего не выходит. Это совершенный узел, это узел вокруг самого себя, это совершенно замкнутый узел. И он говорит нам, что великий царь Александр в присутствии Гордиева узла, раздраженный из-за того, что его не удавалось распутать (а это очень трудно – распутать узел, в котором нет конца), взял меч и рассек его. Вот что он сделал, Александр. Иными словами, два элемента Гордиева узла, возможно, неразделимы.
Лейбниц вместе с Арно; это удивительно: он показал Гордиев узел Арно, однако у Арно нет времени, он очень раздражен, он говорит, что ему надо заниматься другими делами; он говорит: «Мне необходимо поразмышлять над Святой Троицей, а то ваша метафизика мне наскучила». Лейбниц воспринимает это очень болезненно и говорит: «Но если вы понимаете мою метафизику, вы поймете и Святую Троицу». Впрочем, это, конечно, верно, но появляется и другое преимущество. Лейбниц любил составлять списки всевозможных преимуществ, которые несло с собой понимание его философии. Он тратит свое время, объясняя: внимание, Бог создал не монады, то есть индивидуальные понятия, Он создал мир. Бог создал мир, где Адам грешит. Бог не создал Адама-грешника – это способ сказать то, что не вина Бога, если Адам грешит: Он создал мир, где Адам согрешил. Следуйте за моей мыслью. Но эта пропозиция бессмысленна, если вы не согласны со второй пропозицией. Итак, Бог не создает индивидуальные понятия; Он создает мир, к которому отсылают эти индивидуальные понятия. Вторая пропозиция… но, внимание, мир не существует за пределами индивидуальных понятий, которые он включает, которые он охватывает. Как это систематизировать? Это всегда состоит в следующем: монады для мира, субъекты для мира, мир в монадах, в субъектах. Если вы отвергнете одну из двух пропозиций, все пропало.
Итак, попытаемся проверить. Чтобы объяснить Лейбницев узел, на первый взгляд, необходимо сделать вот это. [Чертит на доске.] Почему? Потому что я делаю мир больше субъекта, так как в нем бесконечное множество субъектов. Вы видите, здесь нечто светозарное, это Гордиев узел, совсем маленькая петля. Это большая барочная скрученность, это маньеризм; это фотография маньеризма, ее просто надо дополнить. Я дополняю ее двумя малыми стрелками, означающими, что индивидуальное понятие существует для мира. Мир не существует за пределами индивидуального понятия, и я обозначаю его, это пунктир. Мой большой круг теперь пунктирный. Тут сразу становится очевидным, что монада – для мира, но мир в монаде, если только я добавляю стрелки, способствующие возвращению мира в монаду. У Лейбница это сделано с совершенством. Но существует не одна монада, существует не одно индивидуальное понятие; их – бесконечное множество: все вы, Цезарь, Александр и т. д., и каждая из них включает весь мир с собственной точки зрения; необходимо, чтобы это я тоже пояснил. Всякая малая петля будет индивидуальным понятием. Что такое барочная скрученность, по преимуществу? Это хиазм, это плетеные узоры. На самом деле это какая-то бесконечность. Мир – индивидуальные субстанции, индивидуальные понятия, одно для другого, одно в другом. Еще раз: перед нами отношения субъектов с миром.
Я говорю наскоро то, что представляется мне очень интересным, – это история, напоминающая Мерло-Понти. Отношения субъекта с миром – вы знаете, до какой степени они были воспроизведены феноменологией и Хайдеггером: родиться в мире. Общая тема Хайдеггера и Мерло-Понти такова: вначале у Гуссерля и его учеников отношения субъекта с миром предстают в форме интенциональности. Хайдеггер очень рано отмежевывается от Гуссерля и гуссерлианцев, порывая с интенциональностью, и замещает ее тем, что называет «бытие-в-мире». В действительности это довольно хорошо соотносится с текстом Мерло-Понти, где утверждается: необходимо порвать с интенциональностью, потому что интенциональность сама по себе, в том виде, как она определена Гуссерлем, не гарантирует нам, что это – нечто иное, нежели простое «learning», простое обучение психологии. Итак, если мы хотим ускользнуть от психологии, то интенциональности недостаточно. Но как же от нее ускользают? Как это делает Мерло-Понти вслед за Хайдеггером? Вам надо только взять такой текст, как «Видимое и невидимое»; он говорит это сам: то, что заменяет интенциональность, есть хиазм, плетеные узоры, своего рода скрученность «мир – субъект». И как раз это Хайдеггер называет складкой. Все эти понятия, приходящие нам на ум, любопытны. И вдобавок под конец жизни в своих заметках Мерло-Понти непрестанно ссылается на Лейбница; это любопытно. Возьмите длинную посмертную заметку, опубликованную в конце «Видимого и невидимого», длинную и очень интересную заметку о Лейбнице, страница 276 «Видимого и невидимого», целая страница о Лейбнице, где Мерло-Понти говорит: «Выражение вселенной в нас (то есть то, что каждая монада включает в себя или выражает вселенную), конечно, не является гармонией между нашей монадой и другими монадами (это против Лейбница, но Мерло-Понти использует лейбницианский язык), но она есть то, что – как мы констатируем – мы принимаем в перцепции таким, как оно есть, вместо того чтобы объяснять его». Очень интересно, потому что то, чем Хайдеггер заменяет гуссерлевскую интенциональность, будет складкой между бытием и сущим, а у Мерло-Понти это будет хиазм. В конце Мерло-Понти как бы колеблется между Лейбницем и Хайдеггером. Вот это все, что я хотел бы сказать в заключение.
Мы прибываем сюда: вот оно, включение в пропозиции существования; это, стало быть, та самая скрученность, каковую мы только что видели. И тогда мы добрались до великого различия между сущностными пропозициями и пропозициями существования. Различие таково: в сущностных пропозициях контрарное является контрадикторным, то есть сказать, что 2 + 2 не равно четырем – контрадикторно, или невозможно. В пропозициях же существования вы говорите, что мир находится в монаде. Это вполне возможно: мир находится в индивидуальном понятии; но еще надо объяснить вот это: то, что вы всегда можете помыслить Адама не грешащим, и это – контрарное. Мир, где Адам согрешил, является внутренним для Адама; конечно, именно поэтому Адам грешит. Н в конечном счете Адам-негрешник не является контрадикторным. Тогда как вы не можете сказать, что 2 + 2 не равно четырем, не впадая в противоречие, и вы не можете сказать без противоречия: круг является квадратным, тогда как вы можете сказать без противоречия: Адам не грешит, и вы можете помыслить Адама-негрешника. Итак, здесь контрарное не является контрадикторным, оно не контрадикторно само по себе. Это-то и следует пояснить. Адам-негрешник – не невозможен. Адам-негрешник возможен. Его необходимо так или иначе пояснить. И больше ничего не возможно.
Я мыслю Адама-негрешника. Попытаемся поставить вопрос конкретно: Адам-негрешник – он противоположен Адаму-грешнику. Отношения между Адамом-грешником и Адамом-негрешником – отношения противоречия. Мой вопрос таков: можем ли мы локализовать иной тип отношений? Да, это необходимо. Эта история не слишком сложная, вы видите, что я проникаю в весьма своеобразный лейбницианский концепт: это концепт несовозможности. Совозможное и несовозможное у Лейбница – это не то же самое, что возможное и невозможное. Но где расположить эти отношения совозможности и несовозможности, если между Адамом-грешником и Адамом-негрешником отношения противоречия? Невозможно, чтобы Адам был сразу и грешником, и не грешником. И тогда где разместить другие, более сложные отношения? Если вы следовали за моей мыслью, то поймете: необходимо, чтобы существовали более сложные отношения. На сей раз это – не отношения между Адамом-негрешником и Адамом-грешником, но отношения между Адамом-негрешником и миром, где Адам согрешил. Тут – отношения не противоречия, а не совозможности. Впрочем, у нас нет выбора; в противном случае мы не увидели бы того, что имеет в виду Лейбниц своими отношениями совозможности или несовозможности.
Я должен сказать: Адам-грешник и Адам-негрешник противоречат друг другу. Но Адам-негрешник не противоречит миру, где согрешил Адам: он несовозможен с этим миром. И получается, что Адам-негрешник возможен, в противоположность 2 + 2 равняется пяти. Просто он несовозможен с миром, где Адам согрешил.
Стало быть, существует целая сфера, целая зона, где несовозможность отличается от противоречия. Быть несовозможным – не то же самое, что быть противоречащим, контрадикторным, это другие отношения. Отсюда: что такое «быть несовозможным»? Знаменитая формулировка Лейбница «Адам-негрешник несовозможен с нашим миром», то есть с миром, где Адам согрешил, выходит за рамки противоречия: это отношения несовозможности.
Чрезвычайно любопытное понятие: несовозможность. Это – понятие, которое имеется только у Лейбница. И что поразительно, так это то, что существует один особенно отчетливый текст Лейбница о несовозможности. Я читаю его: «Но ведь мы не знаем, откуда берется несовозможность (он утверждает несводимость несовозможного к противоречию. – Ж.Д.) разнообразного: то есть мы не знаем того, что заставляет разнообразные сущности отталкиваться друг от друга». Он говорит: «Мы не знаем». Существует несовозможность, она не сводится к противоречию, и мы не знаем, откуда берется несовозможное; в чем Адам-негрешник несовозможен с миром, где согрешил Адам, мы не знаем. Мы понимаем противоречия, мы не понимаем несовозможности: мы можем только констатировать их. По счастью, существует другой текст, где Лейбниц кое-что говорит: сошлюсь на научное издание «Gerhard», философские сочинения, по-моему, в семи томах. Существует несколько изданий, подобных этому, – я вам рассказал о состоянии рукописей; стало быть, это грандиозное издание. Кто хочет проверить – это в томе 7, страница 195. С другой стороны, вы этих книг не найдете, так как их невозможно достать. Хотя нет, их только что переиздали. Стало быть, вы сможете найти «Gerhard», но это трудно во Франции, скорее его придется высылать из Германии. В конце концов, надо попросить у вашего книгопродавца – а как же! Итак, 7, 195, клянусь вам, что это так, это по-латыни, я перевел без ошибок и бессмыслицы. И есть еще другой текст, в «Теодицее», очень хороший текст, где сказано: можно сколько угодно не понимать, мы можем уловить нечто обобщенное, что в таком случае позволяет нам «разок» стать большими лейбницианцами, чем сам Лейбниц; вы понимаете, мой текст позволяет нам это, он дает нам разрешение. Вот что там сказано по поводу благодати, проблемы благодати: «Если кто-нибудь спросит, почему Бог не дает всем благодати обращения… и т. д.; то мы уже некоторым образом ответили: не для того, чтобы найти основания Бога (вы видите: нет и речи о том, чтобы найти основания Бога, это слишком смутно; мы видели, что это нам не под силу, это бесконечно. – Ж.Д.), но чтобы показать, что без них было бы невозможно (это чудо)». Речь идет не о том, чтобы нам, бедным конечным тварям, найти основания Бога; но для нас речь идет о том, что у Бога в любом случае есть основания. А поскольку нам не дано знать, каковы они, то все, что мы знаем, это что они есть, а остальное – уже Его дело. Это дает мне право сказать то же самое о несовозможности: мы не знаем, в чем состоит это отношение, основания есть у Бога. Но мы все-таки можем показать, что это не перестает быть отношением, и отношением, не сводимым к противоречию. Сюда можно пойти и выдвинуть гипотезу – на том основании, что ее поддерживают известные тексты Лейбница: будем исходить из моей монады «Адам». Я исхожу из индивидуального понятия «Адам». [Чертит на доске.] Будет крайне любопытная штуковина. Так как сейчас вы очень устали, я всего лишь дам схему, а затем, в следующий раз, мы рассмотрим ее повнимательнее. Мы встретимся в следующий раз, мы не будем заниматься повторением, это я клятвенно обещаю.
Я говорю: в монаде «Адам» Адам выражает мир и существует для мира; весь мир включен в него, но вы помните идею Лейбница: как получается, что два индивидуальных субъекта различаются между собой, тогда как каждый выражает весь мир? Ладно: каждый выражает тотальность мира, но каждый также ясно выражает всего лишь малую часть мира. Итак, даны два индивидуальных понятия, и оба они выражают весь мир, но ясно выражают лишь малую его часть: если у меня есть монада без дверей и окон, то каждая монада имеет принадлежащую ей ясную зону. Вот так, на первый взгляд, различаются две монады: у них не одна и та же зона включения, или ясного выражения; эти зоны соседствуют между собой.
Иными словами: вот у вас малая зона ясного выражения, и она не такая же, как у меня. И тогда получается иерархия душ: представьте себе, что мы оказываемся перед монадой, у которой большая, очень объемистая зона ясного выражения; я бы сказал, что она ценнее (при соблюдении всех пропорций), чем та монада, у которой такая зона очень мала; и совершенствоваться, то есть заниматься философией, означает «увеличивать нашу зону ясного восприятия».
Мы интересуемся только ясным восприятием Адама. Я попытаюсь разметить его вехами; мы увидим, какова это разметка. Первая черта: Адам – это первый человек. Что это за первая черта? Это предикат, это не атрибут, это событие: «И сотворил Бог первого человека», это очень даже важное событие. Вторая черта: «Жить в саду». Досюда идет текстуальный Лейбниц. Третья черта: «Иметь женщину, рожденную из ребра…».
[Конец пленки.]
Лекция 3
(27.01.1987)
Вот мы где – мы оказались перед тремя вопросами.
Первый вопрос, мы сталкивались с ним в прошлый раз, – это чрезвычайная важность понятия «сингулярность», и я полагаю, что «сингулярность», или «сингулярная точка», – это одно из начальных понятий математики, которое возникает у истоков теории функций. Историки математики справедливо считают, что теория функций – это, вероятно, первая великая теория, от которой зависит то, что называют математикой Нового времени. Теория аналитических функций… Так вот, Лейбниц стоит у истоков этой теории функций. Значение Лейбница для математики, наверное, состоит в том, что в своих математических произведениях он разрабатывает теорию функций, в которой он – я бы не сказал: «Ничего не будет разрабатывать», но я бы сказал: «Очень мало изменит». Итак, это основополагающее для математики деяние, ориентирующее мтематику на теорию функций. Но ведь сингулярные точки, или сингулярности, суть основной инструмент этой теории, только Лейбниц не довольствуется тем, что становится первым великим математиком, разрабатывающим всю теорию функций, – не скажу, что он ее создает, потому что в XVIII веке вырисовываются контуры великой теории функций; но он, Лейбниц, не только таков; концепт сингулярности встречается у него очень часто, становясь философско-математическим – и в каком смысле? В точном смысле – или в общем и целом – мы можем сказать: мы уже видели, что сингулярности бывают нескольких типов, и нашей целью будет классифицировать сингулярности в лейбницианском смысле термина «сингулярность». Но ведь в первом значении слова – что такое для Лейбница сингулярность? Я бы сказал очень схематично: сингулярность – это сгиб, или, если вы предпочитаете, точка сгиба; но ведь мир и есть бесконечный ряд возможных сингулярностей. Мой первый вопрос-вывод таков: что такое сингулярность, или что такое сингулярная точка, если сказано, что в общем и целом мы можем утверждать, что сингулярность – это сгиб, или сингулярность находится там, где с кривой что-то происходит? Стало быть, с самого начала наша идея поверхности с переменной кривизной, которая показалась нам основополагающей темой у Лейбница, неотделима от техники и философии сингулярностей и сингулярных точек. Я думаю, мне нет необходимости настаивать на новизне смысла такого понятия, так как оно, конечно, употреблялось до того, как логика познакомилась с универсальным, всеобщим, частным и сингулярным. Но сингулярность в смысле «сингулярной точки», или того, что происходит с линией, – вот нечто совершенно новое, и, по сути, оно имеет математический исток.
Итак, с этого уровня я могу философски определять событие как совокупность сингулярностей. В этот момент я бы сказал, что данное понятие – даже не только математического, но и физического происхождения. Критическая точка в физике: испарение, кристаллизация, все, что угодно, – критическая точка в физике предъявляет себя как сингулярность. Все это, как вы чувствуете, влечет за собой множество проблем; за появление этого математико-физико-философского понятия воздадим хвалу Лейбницу.
Вот первая группа вопросов, которые, с нашей точки зрения, уже поставлены; но вы чувствуете, что эта материя должна разрабатываться, способствовать исследованиям.
Второй вопрос, или второе предчувствие, которое у нас есть: возможно, что между двумя сингулярностями существует тип совершенно оригинальных отношений, и логика события требует, чтобы этот тип отношений был конкретизирован. Что это за отношения, и какого типа отношения существуют между сингулярностями? В прошлый раз я выдвинул гипотезу, исходя из следующей идеи: столь причудливое понятие, как то, что придумывает Лейбниц, говоря нам: если вы возьмете множество возможностей, то они не обязательно будут совозможными; стало быть, отношения совозможности и несовозможности будут тем самым типом отношений между сингулярностями. Адам-негрешник несовозможен с миром, где Адам согрешил. Еще раз поймите как следует: это неважно, что Адам-негрешник противоречит Адаму-грешнику, но не противоречит миру, где Адам согрешил. Просто между миром, где согрешил Адам, и миром, где Адам не грешит, наличествует несовозможность. Положение Бога, когда Он творит мир, вы видите, очень причудливо – и это относится к самым знаменитым идеям Лейбница: положение Бога, когда Он творит мир, состоит в том, что Бог оказывается в ситуации, когда Он выбирает из бесконечного множества возможных миров, Он делает выбор между бесконечным множеством в равной степени возможных миров, которые, однако, несовозможны друг с другом. В Божьем разуме существует бесконечное множество миров, и Бог среди возможных миров, которые несовозможны друг с другом, выберет один.
И какой же? К счастью, мы еще не занимались этим вопросом, но ответ Лейбница легко угадать: Бог выберет лучший мир. Наилучший. Он выберет лучший из возможных миров. Он не может выбрать все сразу, они несовозможны. Значит, Он выберет лучший из возможных миров. Идея очень-очень любопытная, но что означает «лучший», и как Он выберет лучший? Тут необходим своего рода расчет. Каков будет лучший из возможных миров, и как Он его выберет? Не вписывается ли Лейбниц в длинную цепочку философов, для которых высшей деятельностью является игра? Правда, сказать, что для многих философов высшей, или божественной, деятельностью является игра, – не бог весть что такое, потому что надо еще определить, о какой игре идет речь. И все меняется сообразно характеру игры. Хорошо известно, что уже Гераклит ссылался на игру игрока-ребенка, – но дело зависит от того, во что он играет, этот игрок-ребенок; играет ли Бог Лейбница в ту же игру, что и ребенок Гераклита? Можно ли сказать, что это та же игра, которую упоминает Ницше? Будет ли это той же игрой, что и игра Малларме? Лейбниц заставит нас создать некую теорию игр, но даже и без теории его увлекали игры.
В XVII веке начинаются великие теории игр. Лейбниц тоже участвует в их создании, и я могу привести нижеследующее ученое замечание: дело в том, что Лейбниц знал игру го, и вот это очень интересно [смех], он знал го, и в небольшом, но весьма поразительном тексте он проводит параллель между го и шахматами; и он говорит, что существует большая разница между го и шахматами, и говорит он нечто очень справедливое, а именно то, что шахматы входят в те игры, где необходимо брать. Мы берем фигуры. Вы видите обрисованную Лейбницем классификацию игр: в шахматах и в шашках взятие осуществляется разными способами, стало быть, существует несколько способов взятия; итак, это игры взятия. А вот в го речь идет о том, чтобы изолировать, нейтрализовать, окружать, но отнюдь не брать, не лишать активности. Итак, я говорю «ученое замечание», и дело в том, что в изданиях Лейбница XIX века игра го столь малоизвестна, что в связи с этим текстом Лейбница существует примечание, например, в издании Кутюра в начале XX века, а Кутюра – очень хороший специалист сразу и по математике, и по Лейбницу; существует примечание Кутюра о намеке Лейбница на эту китайскую игру; Кутюра утверждает, что это отсылает к тому, что он приводит в кратком описании и говорит: «Согласно тому, что сказал нам один специалист из Китая». Стало быть, это весьма любопытно, так как, если верить примечанию Кутюра, то в те годы игра го была совершенно неизвестна. Она стала важной для Франции совсем недавно. Ну ладно, хватит, а то я теряю время. Я это говорил для того, чтобы сказать вам… чтобы сказать вам что? Итак, прибегнув к какому исчислению, к какой игре, Бог изберет мир, определяемый как лучший? Ладно, это мы оставим в стороне, поскольку это несложно; ответ не труден, а теперь мы подплываем к трудностям.
Что нам важно, так это мой второй вопрос, вот он: какой тип отношений позволяет определять совозможность и несовозможность? В прошлый раз я был вынужден сказать, что в текстах Лейбница кое-чего в этом отношении недостает, но у нас есть право предложить гипотезу, и предложенная нами гипотеза была такой: не можем ли мы сказать, что имеется несовозможность между двумя сингулярностями, когда продолжение одной до соседства с другой позволяет возникнуть сходящемуся ряду, и, наоборот, такая несовозможность, когда ряды расходятся? Итак, именно конвергенция и дивергенция рядов позволили бы мне определить отношения совозможности и несовозможности. Стало быть, совозможность и несовозможность можно считать прямыми последствиями теории сингулярностей, и это моя вторая проблема, я на этом настаиваю – это проблемы. Это вторая проблема, которую можно было бы извлечь из нашей последней лекции.
Третья, и последняя, проблема – в том, что, следовательно, у меня было бы как минимум неоценимое преимущество… впрочем, мы увидим: у меня была бы как минимум последняя гипотеза об этом основополагающем вопросе у Лейбница: что такое индивидуальность или индивидуация? Почему это основополагающий вопрос у Лейбница? Правда, мы уже видели, – если верно, что всякая субстанция является индивидуальной, если верно, что субстанция есть индивидуальное понятие, обозначаемое именем собственным, как вы, я, Цезарь, Адам и т. д… Вопрос, в чем состоит индивидуация, что индивидуирует субстанцию, если всякая субстанция индивидуальна, остается основополагающим. Мой ответ, или моя гипотеза, могли бы быть такими: разве нельзя сказать, что индивид, индивидуальная субстанция представляет собой сгущение, сгусток совозможных, то есть конвергентных, сингулярностей? В конечном счете это было бы определением индивида, а нет ничего более сложного для определения, нежели индивид, – если это можно сказать, то я бы сказал: «почти что», – что индивиды – это сингулярности второго рода. Что же это означает – сгусток сингулярностей? Например, я определяю индивида Адама через первую сингулярность и воспроизвожу тексты писем к Арно: «первый человек»; вторая сингулярность: «в саду»; третья сингулярность: «иметь женщину, рожденную из его собственного ребра»; четвертая сингулярность: «поддаться искушению». Вы видите своего рода [один-два слова неслышны, возможно «сингулярность»], она предсуществует субъекту, и в каком смысле? Существует одно великолепное для нас выражение: о сингулярностях мы скажем, что они доиндивидуальны. Поэтому нет никакого порочного круга (что было бы очень обидно), если мы определим индивида как сгусток сингулярностей, если сингулярности доиндивидуальны. Что значит «сгусток»? Всевозможные тексты Лейбница говорят и напоминают нам, что у точек есть возможность совпасть, и как раз поэтому точки не являются составными частями протяженности. Если у меня есть, например, бесконечное количество треугольников, если у меня есть бесконечное количество углов, то я могу сделать так, чтобы совпали их вершины. Я бы сказал, что «сгусток сингулярностей» означает, что сингулярные точки совпадают между собой. Индивид – это точка, как говорит Лейбниц, но точка метафизическая; метафизическая точка – это совпадение некоей совокупности сингулярных точек. Отсюда важность – хотя именно это мы делали с самого начала, но я хочу утвердить это раз и навсегда, – разумеется, Лейбниц все время повторяет нам: только и существуют что индивидуальные субстанции. В конечном счете реального не существует; это надо понимать так, что реальны лишь индивидуальные субстанции. Но, как мы видели, это не препятствует тому, что следует исходить из мира (а только это мы и делали), то есть следует исходить из сгиба. Следует исходить из бесконечного ряда сгибов. И только во-вторых мы догадываемся, что сгибы – или же сам мир – только и существует, что в выражающих его индивидуальных субстанциях. И при этом индивидуальные субстанции возникают из мира, и вот то, что я вам говорил: необходимо безусловно придерживаться двух пропозиций сразу: индивидуальные субстанции – для мира, а мир – в индивидуальных субстанциях. Или, как говорит Лейбниц: Бог не создал Адама-грешника – это ключевой текст для меня, так как без этого текста все, что мы проделали в первом триместре, дойдя от мира до индивидуальной субстанции, оказалось бы неверным, – Бог не сотворил Адама-грешника, Он сотворил мир, где согрешил Адам, – раз уж мы сказали, что мир, где согрешил Адам, только и существует, что в выражаемых им индивидуальных понятиях, в понятии Адама и в понятиях всех нас, живущих в условиях первородного греха.
Ладно… Итак, вы видите… Мой третий пункт – это вся сфера проблемы индивидуации, и я полагаю, что Лейбниц и здесь был первый. Если я подведу итог трем перечисленным пунктам, то скажу, что среди всех основополагающих вещей, внесенных Лейбницем в философию, на первом месте располагается вторжение математико-физико-философского понятия сингулярности; здесь надо поставить вопрос: «Но – в конечном счете – что такое сингулярность?» – потому что тем самым мы навсегда разделаемся с сингулярностью как составной частью событий. Логика событий, математика событий – это и есть теория сингулярностей. Хотя в математике это совпадает с теорией функций, но мы заявляем здесь притязание не только на теорию функций; мы притязаем также на логику события.
Второй пункт типов отношений между сингулярностями: совозможность, несовозможность, сходящиеся ряды, расходящиеся ряды; каковы последствия всего этого для разума Божьего, а также для сотворения мира и для Божьей игры? Если Бог творит, то это значит, что Он избирает лучший из миров, пользуясь своего рода расчетом, или игрой. Третий пункт: что такое индивидуальность, если мы исходим из идеи о том, что в ней сгущается определенное количество сингулярностей или бесконечное множество сингулярностей и т. д… и потому эти сингулярности с необходимостью являются доиндивидуальными?
Это ставит три серьезных проблемы. Хотя здесь все легко, и я бы хотел просто извлечь отсюда основополагающие последствия. Вы видите, что эта ситуация весьма любопытна: совозможное, несовозможное… В Божьем разуме перемешивается бесконечное множество возможных миров. Лейбниц здесь идет до конца. Я прошу прощения у тех, кто были здесь два года назад; я уже говорил об этом по иному поводу, по поводу проблемы, касающейся истинного и ложного, и, по всей видимости, мне необходимо ее повторить – но я собираюсь это сделать довольно быстро. Я говорю для отсутствовавших. Существует три основополагающих текста, которые вам придется рассмотреть; первый весьма знаменит, это текст самого Лейбница «Теодицея». Посмотрите «Теодицею», часть третья, параграфы 413 и следующие; это в высшей степени барочный текст. Что мы называем барочным повествованием? Например, этим занимаются Жерар Женетт и другие критики; в общем и целом все они согласны между собой, говоря нам, что барочные повествования – на первый взгляд – характеризует взаимовложение повествований, с одной стороны, а с другой – варьирование отношений между повествователем и повествованием, когда из двух получается одно. Каждому повествованию, вложенному в другое, по сути соответствуют отношения «повествователь – повествование» нового типа. Если, начиная с параграфа 413, вы возьмете весьма любопытную историю, которую рассказывает Лейбниц и которая прекрасна, как и всё в «Теодицее», то вы увидите, что это – типично барочное повествование, так как оно исходит из диалога между философом Ренессанса по имени Валла…
[Конец пленки.]
…Фигурирует один римский персонаж, Секст, последний римский царь, который продемонстрировал дурные страсти, а именно – изнасиловал Лукрецию; некоторые говорят, что Лукрецию изнасиловал его отец – ну и ладно, а в традиции, коей пользуется Лейбниц, Лукрецию насилует Секст. И вопрос таков: по вине ли это Бога? Бог ли несет ответственность за зло? В этот первый текст, в диалог между Валлой и Антонием, в это первое повествование вкладывается второе, в нем Секст идет за советом Аполлона, чтобы спросить: скажи наконец, Аполлон, что произойдет со мной? Затем добавляется и третье повествование: Секст не удовлетворен тем, что ему говорит Аполлон, и идет искать самого Юпитера. Он обращается к самому Юпитеру, чтобы получить ответ из первых рук. Таковы вариации повествования. Здесь, при свидании Секста с Юпитером, вмешивается новый персонаж, и это великий жрец Теодор – возлюбленный Юпитера. И новое повествование: Теодор присутствовал при диалоге между Секстом и Юпитером, и он говорит Юпитеру: ты неправильно ему ответил. Юпитер же говорит Теодору: сходи к моей дочери Палладе. Стало быть, вот последнее повествование: Теодор идет к Палладе, дочери Юпитера. Как видите, здесь получается изрядное взаимовложение. И вот [Жиль взрывается хохотом] он засыпает, Теодор! Вот типичное барокко. Барочные романы всегда пишутся вот так. И все-таки я не могу поверить, будто Лейбниц… Ведь он прекрасно знает, что делает: в этом конце «Теодицеи», который совершенно безумен, он прекрасно знает, что делает. Эта великая барочная имитация, и опять-таки он знает ее.
Итак, Теодор спит, но он видит сон. Ему снится, будто он разговаривает с Палладой, и вот Паллада говорит: вставай и следуй за мной! И это еще не конец. Она подводит его к великолепной прозрачной пирамиде. Это сон Теодора. В пирамиде – дворец судеб. Итак, начинается архитектурная тема, которая должна доставить нам радость. «Дворец судеб, который я охраняю», – говорит Паллада. Она утверждает, что Юпитер иногда посещает эти места, чтобы получить удовольствие от перечисления вещей и перемены собственного выбора. Итак, Бог посещает памятник этой архитектуры, этой прозрачной архитектуры. А что же такое эта прозрачная архитектура? Это колоссальная пирамида, у которой есть вершина, но нет конца. Вы сразу же чувствуете, что что-то происходит, а именно, что в бесконечном множестве возможных миров существует лучший мир, но нет такого, какой был бы худшим. К бесконечности мы устремляемся с нижней, а не с верхней стороны. Там есть максимум, но нет минимума. Это интересует нас потому, что все необходимо воспринимать математически. Мы увидим, что в списках сингулярных точек существует момент, когда возникнет – и прочно – идея существования максимума и минимума. По-моему, максимумы и минимумы у Лейбница – явления разных порядков. Так, на уровне миров существует лучший, но нет такого, который был бы худшим. Итак, у меня есть пирамида без конца, но с вершиной, и устремленная ввысь… Но, заметьте, здесь есть проблема, потому что как же организовать ее, даже если я попытаюсь сделать чертеж? В самом верху есть квартира – Лейбниц употребляет именно слово «квартира». Вы помните нашу историю, этаж вверху, этаж внизу, все такое, вы вскоре увидите это воспроизведенным в нашем превосходном тексте. Существует квартира с крышей, которая заканчивается острием, и – если я правильно понимаю, – она занимает всю верхнюю часть пирамиды. И в этой квартире живет некий Секст. Ладно… Ниже – говорит нам Лейбниц – есть и другие квартиры. Я рассматриваю все эти квартиры, и это нелегко; как они организованы? На мой взгляд, невозможно, чтобы были квартиры «вниз головой»; иными словами, подумайте: как заполнить пирамиду и какими фигурами? А я бы еще спросил: какова форма квартир? Это проблема, хорошо знакомая математикам, и волнующая. Если на самом простом уровне дана некая поверхность, то как разделить ее так, чтобы не осталось ни одной свободной части? Проще говоря: как замостить пространство? Проблемы мощения – здесь есть проблемы архитектуры, но также и математики. Например, можете ли вы «замостить» круг одними окружностями, или же в нем будут пустые части? А если дана поверхность, то чем вы можете ее замостить? Это выглядит как пустяк, ремесло мостильщика, но ведь это одно из прекраснейших ремесел в мире, ага. Это божественная деятельность – мощение. Доказательство состоит в том, что Лейбниц в знаменитом тексте, озаглавленном «О корневом истоке вещей», – а он гениально придумывал заглавия: что может быть прекраснее написания книги, названной «О корневом истоке вещей», особенно когда в этой книге пятнадцать страниц? – так вот Лейбниц в связи с сотворением мира Богом откровенно упоминает мощение. Это означает, что он предполагает (хотя в это и не верит, ну и пусть), что пространство можно уподобить некоей заданной поверхности – и он говорит: Бог с необходимостью избирает мир, который заполняет это пространство лучше всего и по максимуму. Иными словами, Бог выбирает мир, который лучше всего мостит пространство творения. Итак, как я собираюсь мостить свою пирамиду квартир таким образом, чтобы не было пустоты? Это интересно. Надо предполагать, что это маленькие пирамиды, в которых ни одна из квартир не имеет острия вниз, иначе это не работает. Вы видите, я говорю все это, чтобы поставить перед вами колоссальные проблемы. Но тогда в самых нижних квартирах… А каждая квартира, как говорит Лейбниц уже не помню где, но поверьте мне: каждая квартира есть некий мир.
Я вновь достаю текст, хе-хе: «После этого богиня Паллада ввела Теодора в одну из квартир. Когда он туда зашел, это была уже не квартира, это был некий мир». У меня складывается впечатление, что это вход в барокко. Вы входите в барочную комнату, и в момент, когда вы туда входите, это уже не комната, это некий мир. Вы входите в первую квартиру, где перед вами некий Секст, а затем входите в другую квартиру, внизу – внизу нет последнего этажа, там всегда есть и более нижние этажи, но существует самый верхний этаж. Итак, на верхнем этаже перед вами некий Секст, на следующих этажах – другие Сексты. Предчувствуйте проблему, почему это Сексты; здесь для нас будет проблема.
Итак, там, где это усложняется, – впрочем, в этом, столь веселом тексте все важно, в нем сказано: каждый из Секстов – в квартирах – имеет число на лбу: 1000, 10 000, и так как бесконечность устремлена вниз, там у вас будет Секст с числом 1 000 000. А Секст из самой верхней квартиры – с единицей. Почему же у них числа? Дело в том, что в то же время – вы помните, что я вам говорил, – верхняя комната служила в барокко кабинетом чтения. В каждой квартире был какой-то большой том с текстами? Теодор не смог устоять перед тем, чтобы спросить: что это означает? Зачем здесь большие тома с текстами? «Это история мира», – отвечает Паллада. «Это история мира, который мы теперь посещаем», – говорит ему богиня. Это книга его судеб. Вы видели число, написанное на лбу Секста, поищите в этой книге место, которое оно обозначает. Теодор стал искать его и нашел историю Секста. Но ведь я уже видел Секста в его прозрачной квартире, ну да! Да-да, я видел его, и он изображал некую последовательность; например, он насиловал Лукрецию, или – гораздо более приемлемое – его короновали как римского царя. Вот я видел его в театре. Но он вошел туда лишь одной своей ипостасью. Иными словами: множество того мира, с каковым вот этот Секст, тот, который насилует Лукрецию и которого коронуют как римского царя, – мира, с каким этот Секст совозможен, я не видел; я читаю о нем в книге.
Вы видите: свойственное барокко сочетание «видеть – читать», то, что в последний раз мы назвали эмблемой, сказав, что барокко эмблематично, – мы полностью находим его здесь. Я продолжаю бродить.
Секст наверху, ладно… Но внизу я вижу такого Секста, который идет в Рим, но отказывается короноваться. Как говорит Лейбниц, он покупает садик и становится богачом и уважаемым человеком. Это другой Секст, и у него другое число на лбу. Я бы сказал: этот Секст номер два не совозможен с квартирой вверху, с верхним миром, с миром номер один. И потом я вижу третьего Секста, который отказывается идти в Рим, а идет в другое место, во Фракию, и его коронуют как фракийского царя. И он не насилует Лукрецию. Предположим… и т. д. и т. д., до бесконечности. Вы видите, все эти миры возможны, но они несовозможны между собой, это значит – что? Это значит, что существует точка расхождения, момент, когда они расходятся. Зачем все эти Сексты? Мы повторим проблему, потому что это очень важно, но мы можем предположить, что именно потому, что очень небольшое количество сингулярностей для них является общим. Все они – сыновья Тарквиния и преемники римского царя; но в одном случае Секст действительно наследует своему отцу, в другом случае он отказывается от преемства и покидает Рим, а в третьем он отказывается стать наследником, но остается в Риме. Вы видите, что расхождения не переходят из одного мира в другой; расхождения, определяющие несовозможность, не обязательно встречаются в одном и том же месте.
Что здесь очень важно, так это то, что у меня есть сеть расхождений, которые начинаются не с одной и той же сингулярности, или начинаются не при прохождении одной и той же сингулярности через другую.
Вот перед вами чрезвычайно радостная картина несовозможных миров: множество, связанное с совозможностью; множество совозможных сингулярностей, определяющих некий мир; а Бог выбирает, Он выбирает лучший из возможных миров.
Очень бегло я хочу всего лишь намекнуть на два основополагающих текста; вы встретитесь с двумя типично лейбницианскими литературными текстами. Один не представляет никакой проблемы, потому что его автор обладает колоссальной ученостью и исповедует один из вариантов типично лейбницианского учения; впрочем, это любопытно, хотя мне нет надобности его цитировать; это Борхес, новелла «Сад расходящихся тропок». Несовозможность под пером Борхеса превратилась в бифуркацию, расходящиеся тропки. Эта новелла помещена в сборник, озаглавленный «Fictions»; я читаю один абзац, в нем идет речь о романе, который написал один таинственный китайский автор: «Как правило, в художественной литературе стоит герою романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные. (Заметьте, что именно таково положение Бога у Лейбница: из несовозможных миров. Он выбирает один и исключает другие. – Ж.Д.) В неразрешимом романе Цуй Пеня он выбирает все разом (представьте себе лейбницианского первертированного Бога: Он вызвал бы к существованию все несовозможные миры. А что сказал бы Лейбниц? Лейбниц сказал бы, что это невозможно! Но почему это невозможно? Потому что в тот самый момент Лейбниц отверг бы собственный излюбленный принцип, а это принцип лучшего. Выбирать лучшее. Представьте себе Бога, которому нет дела до лучшего; это невозможно, очевидно невозможно, – но представьте себе такого Бога, и тогда мы попадем от Лейбница к Борхесу. – Ж.Д.), тем самым он творит различные будущие времена, которые, в свою очередь, множатся и ветвятся». Отсюда противоречия романа. «Скажем, Фан (это персонаж, подобный Сексту. – Ж.Д.) владеет тайной, к нему стучится незнакомец. Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов. Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба могут уцелеть; оба могут погибнуть и т. д. и т. д… Так вот, в книге Цуй Пеня реализуются все исходы, и каждый из них дает начало точке новых развилок»{ Цит. по: Борхес Хорхе Луис. Проза разных лет. Пер. Б. Дубина. М. 1984. С. 93.}. Я бы сказал, что разум Бога – точно то же самое. В разуме Бога развертываются все возможные миры. Правда, есть и преграда: Бог может допустить к существованию лишь один из этих миров. Но в его разуме присутствуют все развилки; это такой взгляд на разум Бога, какого мы никогда не видели. Я имел в виду как раз то, что Борхес превращает в стилистический прием, в нечто прикладное мотив, идущий непосредственно из «Теодицеи».
Но еще больше меня интересует роман, на который я вам намекал; он является еще более лейбницианским, лейбницианским в буквальном смысле. Этот роман принадлежит перу того, от которого мы ничего подобного не ожидали, но он оказывается крупным философом: это Морис Леблан, великий популярный романист XIX века, хорошо известный как создатель сыщика Арсена Люпена. Но помимо Арсена Люпена он пишет превосходные романы, особенно один, который был переиздан в книге карманного формата и который называется «Причудливая жизнь Балтазара». Вы увидите, до какой степени этот роман извилист. Я вкратце перескажу его: его герой – Балтазар, а Балтазар – это молодой человек, работающий профессором повседневной философии, а повседневная философия – это весьма своеобразная, но очень интересная философия, которая состоит в том, чтобы говорить: нет ничего необычайного, все правильно, все обычно. Все происходящее является обычным; иными словами, сингулярностей не существует, и это очень важно. С Балтазаром на протяжении романа происходят всевозможные устрашающие несчастья, и всякий раз его преследует робкая возлюбленная, которую зовут Колоквинта. И Колоквинта говорит ему: но, господин Балтазар, мало ли что утверждает повседневная философия; ведь то, что с нами происходит, не банально; Балтазар же ворчит на нее и говорит ей: Колоквинта, ты ничего не понимаешь, все это вполне обычно, как мы вскоре в этом убедимся. И сингулярности упраздняются. Вы помните общий смысл моей темы: сингулярности развиваются – как? Продлеваясь рядом ординарностей вплоть до соседства с другой сингулярностью. А что побеждает? Ординарности ли зависят от сингулярностей или же сингулярности от ординарностей?
Одним текстом Лейбница я очень дорожу. В «Новых опытах» (и это я цитировал в прошлый раз – можно считать, что ответ сложный) Лейбниц говорит нам: то, что примечательно (имеется в виду сингулярность), должно быть составлено из непримечательных частей. То, что примечательно, должно быть составлено из непримечательных частей – иными словами, сингулярность состоит из ординарностей. Что это значит? Это не очень сложно. Возьмите такую фигуру, как квадрат, у него четыре сингулярности, четыре вершины, наконец, четыре «то-не-знаю-что», четыре «как-бишь-его», где он меняет направление, четыре сингулярные точки; я могу сказать, что это A, B, C и D, я могу сказать, что каждая из этих ординарностей представляет собой двойную ординарную точку, так как сингулярность B представляет собой совпадение ординарности, которая является частью AB, и другой ординарности, части BC. Ладно…
Должен ли я сказать, что все ординарно, и даже сингулярность, или же я должен сказать, что все сингулярно, и даже ординарное? Балтазар избрал первый взгляд и говорит: все ординарно, даже сингулярности… И все-таки с Балтазаром происходят забавные вещи, ибо, например, выясняется, что он не знает, кто его отец. Балтазару – в противоположность героям модернистских романов – совершенно все равно, кто его отец; но оказывается, что существует проблема наследства, и необходимо, чтобы он знал отца. И Леблан, бессмертный автор этой столь прекрасной книги, этого великого романа, приводит три сингулярности, определяющие Балтазара: у него свои отпечатки пальцев, и это сингулярность, потому что отпечатки его пальцев не похожи ни на чьи. Итак, первая сингулярность – его отпечатки пальцев. Вторая сингулярность – татуировка, которую он носит на груди и которая состоит из трех букв: m, t, p; mtp. С другой стороны, третья сингулярность – ясновидящая, с которой он собирается встретиться; как бы там ни было, ясновидящая говорит ему: твой отец без головы. Итак, три сингулярности Балтазара таковы: иметь отца без головы, иметь свои собственные отпечатки пальцев и иметь татуировку mtp. Это похоже на три сингулярности Адама: быть первым человеком, находиться в саду и иметь женщину, рожденную из его ребра. Можно отсюда исходить. После этого перед Балтазаром проходит целая вереница отцов. Вот первый отец, граф де Куси-Вандом, он довольно хорошо соответствует условиям, так как он убит, ему перерезали горло, это сделал бандит, и его голова практически отрезана. Его ли сын Балтазар? Исходя из трех заданных сингулярностей, можно ли сказать, что они продлеваются, и если да, то до какого соседства с вот этой сингулярностью: быть сыном убитого графа? Вероятно, да, в одном из миров. В одном из миров это так. Эта версия доводится до конца. Но после этого, в момент, когда Балтазар вот-вот соприкоснется с наследством графа де Куси, его похищает бандит, который говорит ему…{ Чем кончилась эта история, можно узнать на стр. 108–109 книги Ж. Делёза «Складка: Лейбниц и барокко». М., 1998.}
[Конец пленки.]
Лекция 4
Часть первая. Таверна
(24.02.1987)
Ну хорошо. Вы здесь. И вот, вы, может быть, помните, что мы начали рассматривать то, что Лейбниц говорил нам о свободе, а точнее – о нашей с вами свободе. Не могу сказать точно, кажется, я начал довольно давно, и я очень бегло повторю ту проблему, которая вырисовывается. То, что говорит нам Лейбниц, необычайно конкретно. Я надеюсь, что за истекший промежуток времени вы, исполняя мою просьбу, прочли или перечитали Бергсона, и я хотел бы, чтобы вы пришли к наиболее конкретной из возможных концепций. Вы, может быть, помните, как формулируется проблема. Дело в том, что на уровне пропозиций существования, как все время говорит Лейбниц, противоположное не имеет в виду противоречия; контрарное не является контрадикторным. А это означает: на уровне так называемых сущностных пропозиций контрадикторным является то, что 2 + 2 не равняется четырем (как говорит Лейбниц). Но на уровне пропозиций существования отнюдь не контрадикторно то, что Адам не будет грешником. Нет противоречия в том, что Адам не грешит. Адам-негрешник, Цезарь, не переходящий Рубикон, не невозможны, они просто несовозможны с миром, который избрал Бог. Ладно. По этому мы скажем: нет необходимости в том, чтобы Цезарь переходил Рубикон, нет необходимости в том, чтобы Адам грешил, – и все-таки несомненно, что Адам согрешит или что Адам грешит; несомненно, что Цезарь перейдет Рубикон или что он переходит Рубикон. Несомненно почему? Это зависит от избранного мира, так как «переходить Рубикон» есть предикат, или событие, как говорит Лейбниц, включенные в монаду «Цезарь». Итак, несомненно, что Цезарь перейдет Рубикон или переходит Рубикон. Это несомненно – почему? В связи с избранным миром, так как «переходить Рубикон» есть предикат, или событие, как говорит Лейбниц, включенные в монаду «Цезарь». Итак, несомненно, что Цезарь перейдет Рубикон, но, в конце концов, это не означает необходимости такового перехода, потому что возможен был и другой Цезарь. Да, но он был возможен в другом мире, а этот другой мир несовозможен с нашим. Я бы сказал вам, что все это, конечно, очень хорошо, – но чьей свободы это касается? Или свободы чего? Я могу, строго говоря, утверждать, что эта история, это различение между несомненным и необходимым – это касается свободы Бога; иными словами, это, по существу, значит, что Бог делает выбор между мирами и что в творении присутствует свобода Бога. Но вот моя свобода в этом мире, свобода Цезаря в этом мире – ведь как бы там ни было, слабое утешение говорить самому себе: ах да, я бы мог сделать и иначе, нежели сделал, но было бы это в каком-то ином мире, а этот иной мир несовместим с нашим, и, в конечном счете, сделал бы это другой я. И Лейбниц сам говорит то же самое: такой Цезарь, который не переходит Рубикон, это и есть другой я. Итак, вот что произойдет с нашим вопросом, вот чего мы хотим, и мы не бросим тексты Лейбница, пока у нас не будет на него ответа; и вот какова наша свобода в этом мире без отсылки к другим, несовозможным мирам. Ведь на самом деле Лейбниц очень хорошо различает проблемы, и, насколько я понимаю, с Лейбницем не всегда можно соглашаться – это очень любопытно, так как большинство текстов Лейбница, где ставится вопрос о свободе, расходятся между собой по вопросу о свободе Бога и довольствуются утверждением: ну что же, да, как видите, мы сделали вот это, и, видимо, здесь есть достоверность, но нет необходимости. Опять-таки, тема «достоверно, но не необходимо», очевидно, не образует моей свободы в мире, но именно на этой теме основана и сформирована свобода Бога в том, что касается множественности возможных миров. Я бы сказал вам: к счастью, есть два текста, где нет расхождений по поводу свободы Бога, длинный и короткий; маленький текст взят из переписки с Кларком (Кларк был учеником Ньютона), а с другой стороны, перед нами восхитительный длинный текст в «Новых опытах о человеческом разумении», книга 2, главы 20 и 21, где речь только и идет, что о нашей свободе – о вас, обо мне, о Цезаре, об Адаме и т. д. Если же мы попытаемся как следует разобрать это сочинение, то прекрасно увидим: вот то, что я говорил в прошлый раз, это первая феноменология мотивов. Именно на феноменологии мотивов Лейбниц основывает свою концепцию свободы – и в какой же форме? Речь идет о нашей свободе. И, поистине изобличая двойную иллюзию, касающуюся мотивов, Лейбниц говорит нам: первая вещь – мы не сможем ничего понять в свободе, мы не сможем ничего уловить в человеческой свободе, если будем понимать мотивы словно гири на весах. Это сводится к следующему: не объективируйте мотивы, не делайте из мотивов того, что было бы за пределами сознания или даже в его пределах, чего-то вроде объективных представлений, ведь мотивы – это не объекты и не репрезентации объектов, это не гири на весах, относительно которых вы могли бы подумать, какой мотив победит другие при всех остальных одинаковых условиях. Итак, вот первая опасность: объективировать мотивы, рассматривать их будто гири на весах. Иными словами, именно сознание творит мотивы, а не мотивы заставляют вас что-то сделать; прежде всего сознание, ваше сознание творит мотивы. Мотивы – это профили сознания, а не гири на весах. Если вам угодно, это предрасположенности души, как говорил Лейбниц в переписке с Кларком. Вторая иллюзия: это означало бы раздваивать мотивы, и было бы уже не иллюзией объективации, а иллюзией раздвоения, и эта вторая иллюзия нанизывается на одну цепочку с первой. Если у вас мотивы подобны гирям на одних и тех же весах, то есть, если вы объективировали мотивы, то вам придется ссылаться на новые субъективные мотивы, которые объяснят, почему вы избираете такие-то мотивы скорее, нежели другие. Иными словами, если вы объективируете мотивы, то вы вынуждены раздваивать их, потому что вам будет необходим другой ранг субъективных мотивов, чтобы объяснить ваш выбор объективных мотивов. Иными словами, вы наткнетесь на глупую идею того, что надо хотеть хотеть. Вам понадобится раздвоить предрасположенности души; вам понадобятся субъективные предрасположенности, чтобы выбрать ту или иную из объективных предрасположенностей. Коль скоро это так, что это означает? Мы не можем хотеть хотеть, а это означает, что мотивы не раздваиваются. Они не раздваиваются, потому что мотивы не являются ни объективными, ни объективируемыми. И фактически они образуют саму ткань души. А что это значит – ткань души?
Лейбниц объясняет, что, относительно того, что образует ткань души, не следует полагать, будто душа есть своего рода весы, на которые ставятся гири. Ткань души – это кишение, роение мелких наклонностей – запомните это выражение как следует: кишение мелких наклонностей, и это (возобновляя нашу тему) не метафора, которая сгибает и складывает душу во всех направлениях. Кишение мелких наклонностей… Впоследствии, когда мы посвятим этому как минимум одну лекцию, мы рассмотрим то, что является у Лейбница основополагающей темой: это то, что Лейбниц называет малыми восприятиями и мелкими наклонностями. Вы припоминаете, что «дно» монады представляет собой что-то вроде ковра или обоев, но в то же время эти обои формируют складки. Вы обнаружите здесь ту же тему, ткань души, кишение, то есть складки, которые каждое мгновение появляются и разглаживаются. Множественность. Множество малых тенденций, малых восприятий. Очень хорошо. Это ткань души, это множество, которое ей принадлежит; вы помните, что «Новые опыты» возобновляют книгу Локка, озаглавленную «Опыты о человеческом разуме», и что Лейбниц, в свою очередь, обозначит как «ткань души», пользуясь словом, которое ввел Локк, а именно словом «беспокойство». Лейбниц скажет, что то, что Локк называет «беспокойством», есть как раз это ни на миг не прекращающееся кишение, словно действуют тысячи мелких пружинок (глава 20 второй книги). Вы вспомните: в самом начале у Лейбница была постоянная тема пружины, и это зависит от эластичной силы… Если сила является эластичной, то вещи как бы движимы малыми пружинами. Здесь мы находим тысячи малых пружин. Иными словами, в вас не прекращается кишение. А это – как если бы упомянутая разновидность живой ткани души непрестанно складывалась во всех направлениях. Это своего рода чесотка. Беспокойство – это чесотка. Душа постоянно находится в упомянутом состоянии чесотки. И Лейбниц в одном прекраснейшем тексте говорит нам: это коромысло, а «коромысло» по-немецки как раз обозначается словом «беспокойство»{ Ни одно из немецких слов, означающих «коромысло» – ни «Schulterjoch». ни «Waagejoch», ни «Schwengel» – не значат «беспокойство».}!
Это означает, что перед нами уже не объективные весы. Как это понимать? Я возьму один пример – даже если придется попытаться немножко его продолжить, извлечь из него максимум, – в главе 21 второй книги «Новых опытов», – тот самый пример, который приводит Лейбниц: таверну. И попытаюсь дополнить его, чтобы он стал более ясным. Он говорит нам – вы понимаете, я сказал бы что-то не так, говоря «идти в кафе», что было бы анахронизмом для XVII века, это было бы ошибкой, которую вы исправили бы: тогда ходили в таверны. Итак, собираюсь ли я пойти в таверну? Типичный пример человеческой свободы! Собираюсь ли я по-прежнему работать, собираюсь ли я по-прежнему читать курс, или же я пойду в таверну? Надо посмотреть. Надо понять. Существуют люди, которые говорят вам: ну ладно, если уподобить таверну гире A, а работу гире B, то вы при прочих равных условиях сделаете выбор; но ведь в моей душе никогда ничего не бывает равного! В противном случае моя душа никогда не была бы в состоянии беспокойства. Итак, противоречия умножаются.
Именно в это время мотивы наделяются объективным существованием, как если бы это были гири на весах, а душу «отмывают» от всяческого беспокойства, как если бы это были нейтральные весы, готовые показать вес гирь. Это неразумно. В действительности ткань моей души вот в этот момент, в момент A, состоит из чего? Я говорю: тысячи малых восприятий, тысячи малых наклонностей движутся от чего к чему? Вдали я что-то слышу. Что я слышу? Я слышу… Это относится к воображению или нет? Как бы там ни было, это множество малых восприятий и мелких наклонностей. Что же я слышу вдали? Я слышу звон стаканов, я слышу беседу друзей – и то если я это не воображаю. Неуместно думать, что на уровне малых восприятий (разумеется, в тех областях, где «воображать» не равнозначно «воспринимать», очень важно различать их) у нас нет уверенности; во всяком случае, это не наша проблема. Вы уже видите, почему мотивы никогда не напоминают горшки на весах. Он говорит нам: ну, вы понимаете, алкоголик кое-что понимает в тысячу раз лучше; хотя он, Лейбниц, вел трезвую и образцовую жизнь, но он очень хорошо понимает: алкоголик – это отнюдь не тот, кто живет чем-то абстрактным, это совсем не тот, чья душа повернута к алкоголю, как если бы алкоголь был единственной гирей, способной воздействовать на эти весы; но алкоголь строго неотделим от целого кишащего контекста – контекста вкуса, само собой, но все-таки еще слухового и визуального: компания товарищей по попойке, радостные и «душевные» беседы, вытягивающие меня из уединения, – и все такое. Если вы возьмете множество «алкоголь», то там необходимо разместить не только алкоголь, но и всевозможные разновидности визуальных, слуховых и обонятельных качеств: запах таверны, и все такое. Но, с другой стороны, здесь также необходимо рассмотреть работу как перцептивное множество наклонностей, малых восприятий-наклонностей: шелест бумаги, а это также и слуховое свойство, состояние тишины, перелистываемые мною страницы, скрип пера. И все это – отнюдь не нейтрально. Я имею в виду: совершенно так же, как алкоголь не был абстракцией, работа тоже не абстракция. Это целое множество перспектив и склонностей. Что такое вопрос раздумий? Имеется в виду, что в такой-то момент ткань моей души движется от одного полюса к другому. Стало быть, она движется от одного перцептивного полюса в таверне к другому перцептивному полюсу, реализуемому в рабочем кабинете. И по моей душе пробегают малые восприятия и мелкие наклонности, которые сгибают ее во всех направлениях. Раздумывание – это означает, в какую сторону я собираюсь сгибать свою душу. В какую сторону? В какую сторону я собираюсь интегрировать, если использовать псевдоматематическое слово; в какую сторону я собираюсь продуцировать посредством всевозможных соответствующих малых наклонностей одну большую – нет, скорее, примечательную – наклонность; в какую сторону я собираюсь продуцировать посредством всевозможных малых восприятий различающееся восприятие; используя максимум малых восприятий, продуцировать различающееся восприятие; используя максимум малых наклонностей, продуцировать примечательную наклонность; то есть всевозможными мелкими складками, которые скручивают мою душу каждое мгновение и образуют мое беспокойство, с помощью чего и с какой стороны я собираюсь произвести решающую складку, складку определяющую. Иными словами, каково действие, которое в рассматриваемый момент заполнит наибольшую часть моей души? Отсюда постоянное упоминание коромысла: коромысло как амплитуда души в тот или иной момент.
Получается, что я вам сказал то, что существенно в двадцатой главе, и вы найдете там превосходную формулировку: между тем баланс изменился. Лучше не скажешь. Баланс изменился; вспомним небольшую схему, которую я предлагал вам в последний раз. Тут я собираюсь показать неправильную схему. Неправильная схема – это полагать, будто у меня совершенно прямолинейная душа, которая оказывается в точке развилки. Мотив A – я иду в таверну; мотив B – остаюсь работать. Это глупая схема, и в ней всевозможные изъяны: мотивы объективированы, предполагается, что у меня прямая и индифферентная душа, и, чтобы произвести выбор, ей необходимы мотивы мотивов. Эта схема раздумий, эта феноменология раздумья неразумна и несерьезна. Почему? Потому что, когда я раздумываю, собираюсь ли я идти в таверну… нет, разумнее было бы поработать… я немного продолжаю работать и говорю себе: и все-таки ужасно хочется пойти в таверну. Я возвращаюсь в A. Что же идиотского в этой схеме? Идиотское в ней то, что, когда я возвращаюсь в A, ситуация, очевидно, изменилась. Первый раз: я собираюсь пойти в таверну. Второй раз: нет, я собираюсь продолжать работать. Третий раз: и все-таки я бы туда сходил. Но второе A – уже не первое, между ними располагается B. Уподоблять мотивы гирям на весах абсурдно; дело в том, что в тот самый момент мотивы раздумья остаются постоянными. И поэтому на самом деле не видно, как мы можем принять какое бы то ни было решение, потому что если мы приходим к какому-нибудь решению через раздумья, то происходит это ровно в той мере, в какой в потоке раздумий мотивы отнюдь не остаются постоянными. Они изменились – почему? Потому что прошло какое-то время. И эта длительность заставляет мотивы изменяться, или, скорее, она не заставляет мотивы изменяться, она способствует изменению по мере того, как длится природа рассматриваемого мотива. Отсюда, как я вам говорил, подлинная фигура – это… Вот она! Это единственно возможная схема раздумья. A – это таверна, B – это работа. Это схема сгиба. В очередной раз мы обретаем нашу историю. В душе существуют только сгибы. Чем бы ни был сгиб в душе, он получает свое имя: наклонность! Что означает для нас «быть свободным»? Это означает «быть склонным, не будучи вынуждаемым». Мотивы склоняют меня, не вынуждая. Наклонность души – это сгиб в душе, сгиб в таком виде, как он в нее включен. Весь первый триместр – об этом.
Итак, я продолжаю. A = таверна, B = работа. А все мы знаем, что мотивы изменяются, не существует A и B. Существуют A1, B1, A2, B2 и т. д… Понятно?
Вы видите, что когда я, например, раздумываю, я отнюдь не возвращаюсь к A. Это не то же самое A. И тогда, учитывая это, зачем останавливаться в определенный момент и зачем даже раздумывать, зачем? Свободным актом будет тот, который запечатлевает амплитуду моей души в тот или иной момент, в момент, когда я нечто делаю. Вы мне скажете, что так бывает всегда. Нет! Почему? Вы припоминаете: речь идет о том, чтобы интегрировать малые восприятия и мелкие наклонности, чтобы получить примечательную наклонность, склонность души. То, что способно заполнить склонность души в какой-либо примечательный момент, есть примечательная склонность. Интегрировать малые наклонности, интегрировать малые склонности – это требует времени, и у Лейбница постоянно возникает эта тема, эта разновидность лейтмотива: нечто, что требует времени. Это символично и образцово; сегодня – если у нас будет время – мы коснемся проблемы режима света. Разрыв, или один из основополагающих разрывов, таков (как сказано во всех учебниках): Декарт верил в мгновенность передачи света, в мгновенность самого света, а для Лейбница все требует времени, даже передача света. Интеграция основополагающим образом требует времени. А если это математическая интеграция, то и время будет математическим; если же интеграция психическая, то и время будет психическим.
Итак, проследуем дальше. Я вышел из A1, у меня возникает смутное желание пойти в таверну B; почему я туда не иду? Просто потому, что это остается на уровне малой наклонности, малого восприятия; у меня «мелкий зуд»: да, я очень хочу. Но я остаюсь работать. Проблема такова: я не знаю амплитуду своей души вот в этот момент, мне требуется время. Могу ли я подождать? И тогда я устремляюсь в таверну. Мог бы я подождать? Я мог бы и подождать, но тогда это был бы не тот же я. Поэтому очень часто я совершаю действия, совершенно не соответствующие амплитуде моей души; как правило, как раз на них я трачу свое время. Всякий раз, когда я совершаю машинальное действие, это нисколько не соответствует амплитуде моей души. Когда я бреюсь по утрам, это не соответствует амплитуде моей души? Не надо преувеличивать! Нет ни малейшего основания – как делают некоторые философы – подчинять все выполняемые нами действия критерию, свободны они или нет! Свобода нужна для определенных действий. Существуют разнообразные действия, которые не следует сопоставлять с проблемой свободы. Они, всевозможные машинальные действия, всевозможные привычные действия и т. д., производятся, я бы сказал, лишь для того, чтобы успокоить тревогу. Мы будем говорить о свободе, только если возникает вопрос о действии, способном или неспособном заполнить амплитуду души в такой-то момент. Предположим, в какой-то момент максимум амплитуды наблюдался со стороны A1, которое шире, чем B, что означает «надо идти в таверну», так как «идти в таверну» означает широту души; это не имеет отношения к какой-то узости, а открывается в сторону всего, что я вам говорил: встречи с друзьями, радостные беседы, в высшей степени одухотворенные шутки и т. д. [Смех.] Но не могу ли я подождать? А вы смотрите главы 20 и 21, можем ли мы подождать? Мы можем всё понять. Если бы Адам смог подождать, разве согрешил бы он?
А спустя мгновение – не совсем «спустя» – удастся подождать, и мир некоторым образом изменится; проблема уже не будет ставиться тем же способом. Есть случаи, когда ждать не следует; есть случаи, когда ожидание меняет всё. Вы видите, что здесь моя душа увеличила амплитуду, и произошло это по направлению к работе; а вот здесь моя душа изменила амплитуду, но это в сторону таверны, – вопрос в том, до какой точки: мотив никогда не бывает одинаковым; когда я вернусь к тому же самому мотиву, этот мотив уже не будет тем же самым. Почему? Прошло время. Между A-секундум и A-терциум прошло время, которое мы будем называть длительностью. И если вы меня спросите: «Ну хорошо, почему бы не остановиться в A-секундум?» – я отвечу: «Можно остановиться, а можно и не останавливаться». То я останавливаюсь в A-секундум, то я там не останавливаюсь. В зависимости от чего? То потому, что в A-секундум в такой-то момент осуществляется амплитуда моей души, то потому, что в A-секундум может и не осуществляться предположительная амплитуда моей души, и машинальное действие побеждает. Даже более того: вы можете перевернуть эту схему, чтобы все-таки получить уже не прогрессивный процесс, как это сделал я, но процесс регрессивный, где моя псевдоспираль, наоборот, утончится, а амплитуда уменьшится. Перед вами – ряды, где амплитуда души уменьшается. Вы понимаете?
Ладно, может быть, здесь не будет проблем. Необходимо, чтобы это было очень конкретно. Иными словами: свободным действием является действие, выражающее всю амплитуду души в такой-то момент длительности; оно выражает всю душу в такой-то момент длительности; иными словами, оно выражает «Я». Это любое совершённое или завершенное действие. Оно является совершённым или завершенным постольку, поскольку в нем выражается «Я». Ну вот, оно выражает «Я», оно является совершённым или завершенным. Здесь мы натыкаемся на нечто, что будет весьма важным и в философском, и в жизненном смысле, – а как же! Это совершённое или завершенное действие. Совершенное или завершенное действие есть понятие, хорошо известное в философии, и у него есть греческое название, но это греческое название звучит странно: это энтелехия. Энтелехия. Та самая, о которой нам много говорил Аристотель. Здесь у меня нет времени говорить вам об энтелехии у Аристотеля, но, в общем и целом, это действие, цель которого состоит в нем самом, то есть действие совершённое или завершенное, и в философии Аристотеля это – перманентное действие, то есть действие, наделенное непрерывностью, в противовес действию последовательному. Иными словами, действие совершённое или завершенное у Аристотеля не есть действие, законченное раз и навсегда, это не действие в прошедшем времени. Тем не менее эта история весьма сложна, потому что энтелехия являет себя в форме весьма специфичного греческого глагольного времени, которое называется аористом, и это такое время, которое имеет дело с прошлым, но представляет собой, если угодно, то, что называют перфектом. Перфект. Но мы предчувствуем, что сводить перфект к прошлому было бы совершенно недостаточным – даже для Аристотеля – и было бы даже абсурдом. Впрочем, забудем Аристотеля. Вернемся к Лейбницу. Для Лейбница это еще очевиднее. Совершённое действие – это действие, выражающее душу во всей ее амплитуде, во всей амплитуде души. Это действие, в котором выражается «Я»; это действие есть действие в настоящем времени. Я бы хотел вернуться, не останавливаясь на этом и не задерживая на этом вас, так как, по-моему, об этом совершенно забыли комментаторы: важность презенса во всей философии Лейбница, действие в презенсе, поступок в презенсе. Вы помните, что когда речь идет о том, чтобы показать, в чем состоит включение, Лейбниц всегда исходит из действия в процессе свершения, а не из свершенного действия. «Я пишу» в «Монадологии» означает «я нахожусь в процессе письма», а «я путешествую» в письмах к Арно – «я нахожусь в процессе путешествия». Это очень важно, так как на первый взгляд казалось, будто включение в монаду представляет собой свойство прошедших действий. Нет, отнюдь нет. Прошедшие действия включены в монаду, потому что в ней должно быть действие в настоящем. Именно потому, что действие в презенсе «я пишу» включено в монаду, в нее включены и причины, в силу которых я пишу, то есть данные из прошлого. Включение есть замыкание: монада замыкает собственные предикаты, она закрывает в себе собственные предикаты. И это существенно, поскольку закрытость, или замкнутость, то есть включение, соответствует действию в настоящем в процессе своего свершения, а не прошедшим действиям. Включение – это условие существования живого презенса, а не условие существования мертвого прошлого. Ну хорошо, мы это уже видели. Но очень важно то, что мы обнаруживаем это теперь. И меняется весь Лейбниц. Внезапно вы должны почувствовать, что включение полным ходом несется к примирению со свободой. И как раз потому, что мы творим нечто противоречивое с включениями, мы говорим себе: «Ха-ха, включение – это означает, что мы включаем всё в модусе уже-сделанного». Это как если бы перед тем, как перейти Рубикон, Цезарь уже перешел его. Раз уж мы сказали, что мы склонны к абсурду, то включение соответствует действию в процессе его свершения, это условие действия в процессе его свершения, а вовсе не результат действия, свершенного раз и навсегда. В монаду выпадают не действия в прошлом, а действие в процессе свершения; оно не могло бы свершиться, если бы в процессе своего свершения оно не вписывалось в монаду, не включалось в монаду, чтобы свершиться в процессе свершения.
Почему?
Потому что – послушайте хорошенько – дело в том, что действие в настоящем может быть совершённым только при каком условии? При условии того, что его собственное движение будет составлять некое единство. Определяет совершенство действия не то, что оно свершилось, а движение, посредством которого оно образует единство в процессе свершения. Ну и вот: что придает движению единство? Движение движется само собой? Нет, оно сугубо относительно. Относительность движение. То, что придает движению единство, есть душа, душа движения. Только душа является единством движения. Если вы остановитесь на уровне тела, вы с одинаковым успехом сможете атрибутировать движение как телу A, так и телу B. Существует некая абсолютная относительность движения.
Только душа способна придать единство движению. Ну и ладно. Что же такое совершённое действие? Вы должны понять: совершённое действие – это действие, которое получает душу, которое включает единство движения в процесс его свершения. Это равнозначно тому, чтобы сказать вам, до какой степени совершённое действие не есть действие, свершённое раз и навсегда, совсем наоборот. Это действие в настоящем, это действие в процессе свершения, но получающее от души единство движения в процессе свершения; душа наделяет его необходимым единством. При каком условии оно получает это единство? При условии включенности в душу, включенности в презенс. Я заканчиваю, прежде чем спросить вас, хорошо ли вы понимаете, новым определением свободного действия; я только что об этом говорил, и почувствуйте, что это воистину одно и то же: мы непрерывно переходим от одного определения к другому. В начале я говорил: свободное действие есть действие, в котором выражается «Я», то есть душа во всей ее амплитуде в некий момент длительности; а теперь я говорю, что свободное действие есть действие, получающее от души, его включающей, – то есть действие предчувствует, что душа включает его в настоящем времени, – итак, действие в презенсе получает от включающей его души единство движения в процессе свершения. И, видите, я могу возобновить определение: разумеется, в течение дня я редко совершаю свободные действия.
Вопрос о свободе ставится на таком уровне, когда я должен сделать нечто для меня важное, да-да, именно здесь меня касается вопрос свободы. И такие действия очень редки, когда очень важно, чтобы они получили от души единство движения в процессе его свершения. Иначе происходят всевозможные движения, и происходят они в полной изоляции: ходить, гулять по улице, все такое, а потом внезапно возникает момент, когда мне нужна душа, а нужна мне она не все время: эти истории о широте души являются исчерпывающими. Не знаю, чувствуете ли вы, что у вас широкая душа? Зачем иметь широкую душу – все-таки я недостаточно сказал об этом. Почему не довольствоваться какой-нибудь совсем малой широтой души? Полно людей, которые довольствуются совсем малой широтой, но они совершат свободные действия с того момента, как действия, совершаемые ими в настоящем времени, обретают единство движения в процессе его свершения, то есть с момента, как их действия начнут выражать широту их души, какой бы та ни была…
[Конец пленки.]
Часть вторая