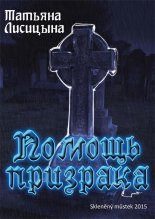Лекции о Лейбнице. 1980, 1986/87 Делёз Жиль

И тогда вот точка, где мы остановились, сказав: имея душу совсем малой широты; просто найдите действия, которые этой широте соответствуют, и вы будете свободными, и вы станете свободными людьми. Иными словами, под угрозу у Лейбница попадает не свобода, а мораль, так как сказать людям: пусть ваша душа будет столь узкой, как вам угодно, и вы станете свободными с момента, как совершите в настоящем времени действия, в которых будет выражаться эта широта; итак, напивайтесь сколько угодно в таверне, если это то, что соответствует широте ваших душ, – вы понимаете, что не этого ожидают от философа, притязавшего на моральность нравов (а это Лейбниц делал непрестанно). Важно именно то, что я только что сказал: я полагаю, это и есть история настоящего времени у Лейбница.
Одна из наиболее сложных теорий Лейбница – это теория времени, а стало быть, здесь мы расставляем вехи на будущее, когда доберемся до этой проблемы времени. А то, что свободное действие располагается в настоящем времени, то, что действие основополагающим образом располагается в настоящем времени, это представляется мне очень-очень важным. То, что широта души переменна в порядке времени, – вот это все есть реальность времени как длительности, и она очень-очень важна. Итак, действие – в настоящем времени. Ладно, вы поняли?
Я хотел бы, чтобы вы поняли две темы.
Совершённое или завершенное действие не есть действие законченное, не есть действие, сделанное раз и навсегда. Но совершённое или завершенное действие есть действие, которое получает от включающей его души единство действия в процессе его свершения. Пункт третий: не думайте, что включение уподобляет действие действиям всегда совершённым и уже совершённым; наоборот, включение есть условие производства действия в настоящем как действия в настоящем. Уф! Впрочем, вы, может быть, всё поймете, если будете иметь в виду одну необычайную теорию Лейбница, одну из его прекраснейших теорий, и на этом уровне мы не должны говорить «теория», поскольку это подлинная практика, затрагивающая проблему, которая заботит нас всех, а именно проблему проклятия. Прклятые. Кто такой прклятый? Или – если угодно – свободны ли прклятые? И я настоятельно обращаюсь к вам, чтобы вы уважали исчезнувшую сегодня дисциплину, а именно теологию. Как таковая теология выжила, но она стала чем-то вроде физической науки. А вот в прежнее время, и даже в XVII веке, я уж не говорю про более ранние времена, теология – поймите, чем она была. Почему существовал такой альянс между философией и теологией? Это не просто из-за Бога, это не истории о Боге обеспечивают альянс между теологией и философией – это гораздо красивее. Дело в том, что теология есть некая необычайная логика, и, я полагаю, настолько важная, что логика невозможна без теологии. Почему?
Потому что… Это мне кажется очевидным, потому что сегодня нам говорят, что нет логики без парадокса, и существуют знаменитые логические парадоксы вроде парадоксов Бертрана Рассела, а у других парадоксы образуют основу построения современной логики. Но эта ситуация с основополагающим узлом между логикой и парадоксом возникла не вчера, просто прежде именно теология наделяла логику парадоксальной материей, которая безусловно ей необходима. В какой форме? Троица, три Лица в одном, пресуществление, тело Христово и хлеб, все, чего ни пожелаете, воскресение, воскресение тел. Но поймите – это парадоксальный материал, неотделимый от чистой логики. Логикам нет необходимости искать его в теории множеств в XVII веке, потому что тогда ее не было, но дело не в этом. Теология изобилует парадоксами в большей степени, чем математика.
А если у теологии столь интенсивная жизнь, то дело здесь в том, что она выполняет свою роль. Правда, эти парадоксы небезопасны, потому что за пустяк мы обрекаем себя на проклятие и, даже хуже, на сожжение. Необходимо вспомнить, что в не столь отдаленном времени от поры, когда писал Лейбниц, одним из великих сожженных был Бруно, который имел для Лейбница колоссальное значение; но, в конце концов, вот вам один из опасных парадоксов, более опасных, нежели парадоксы актуальные, – хотя навлекать на себя проклятья Витгенштейна невесело, лучше уж это, чем быть сожженным заживо. Я имею в виду, что Витгенштейн-то представляется мне не источником парадоксов, но своего рода великим инквизитором.
Все это, знаете ли, ужасно. Времени у нас нет, но запомните это – основополагающую связь между логикой и теологией. Я полагаю, что теология служит естественной материей логики до определенного времени, до XVIII века. И вот это – основополагающий альянс «теология – философия», и недостаточно сослаться на идею Бога, чтобы сказать: «Ха! В те-то годы…» Ничего подобного! Если угодно, теология для философии – это как распятие для живописца. Я не хочу сказать, что они не верили в Бога, не хочу вообще этого говорить, но я хотел бы сказать, что они не только веруют в Бога, а если они веруют в Бога, то по причинам, тесно связанным с логикой парадокса. Такие дела…
Я говорю: мы не считаем, что возвращение к этому вопросу – старая проблема, но что такое прклятый? И Лейбниц создает необычайную теорию проклятия, которую я даже не смею точно воспроизвести. Для этого необходимо быть очень-очень ученым, необходимо спросить у какого-нибудь церковного авторитета, специалиста, который прочел теологов той эпохи. Лейбниц не чурается много заимствовать у теологов той эпохи, так как у него не только разнообразные парадоксы, но и казуистика. Вот два приема при переходе от теологии к философии, или к логике, этот двойной аспект: парадокс и казуистика. Казус. Например, казус: если это святой, который творит молитву, может ли он получить снятие проклятия? Тонко. Если это святой, который просит снятия проклятия с проклятого, то можно ли помыслить проклятого, который перестает быть таковым? Или же, что такое вечное: вечно ли проклятие? Это очень важно! И тогда я скажу также, что к этому вопросу проклятия Лейбниц подходит в двух текстах. Сначала – в «Теодицее», где он доходит до провозглашения того, что проклятые свобдны, столь же свободны, как и счастливые, но текст неясен, и в другом тексте, где он разрабатывает превосходную теорию проклятия, почувствуйте, что это не чуждо барокко, – целую теорию проклятия, – и текст этот называется по-латыни «Confessio philosophi», то есть «Исповедание веры философа», и его перевел Белаваль{ Белаваль, Ивон (1908–1988) – французский историк философии, специализировавшийся на Лейбнице.} в издательстве «Врен» (к тому же, очень хороший перевод). Это маленький текст на сорока страницах, очень-очень красивый, и мы всё узнаем о проклятии. А почему я ко всему этому возвращаюсь? Это проблема возникает там, где надо, так как мы могли бы посчитать, будто проклятый платит за совершенное им гнусное действие. Но великая идея Лейбница в том, что проклятый платит не за совершенное им гнусное действие, проклятие – в настоящем времени, и не существует другого проклятия. Итак, неважно, идет ли речь о теологической проблеме, в том самом смысле, что прклятые свободны, – проклятие необходимо воспринимать в настоящем времени. Мы попытаемся понять это, но это – все равно, что вращаться вокруг этой идеи, так как она прекрасна. …Но здесь необходимо поставить кое-что в скобки: разве не для того, чтобы восстановить силы, мы пытаемся обнаружить константу того, что мы вполне могли бы назвать барокко? То, что я сказал, единство движения в процессе его свершения, душа как единство движения в процессе его свершения, – вот что такое барокко. Еще до барокко стоит задача уловить движение с точки зрения единства в процессе его свершения. Тема движения в процессе его свершения и схваченного «вживе», когда оно творится и когда оно получает единство своей души, не возникает сама собой: это барочное мировидение. Часто замечали, что барочная живопись непрестанно схватывает как раз движение в процессе его свершения – пусть даже это будет смерть. В барокко живописцы начинают писать святых, когда те испытывают свое мученичество, когда они непосредственно ему подвергаются. Единство смерти как движения в процессе его свершения, или: смерть в движении. Жан Руссе в книге «Литература барокко во Франции» назвал одну из глав «Смерть в движении», то есть смерть как движение в процессе его свершения, и он цитирует великолепный текст автора, которого все считают одним из главных представителей барокко, Кеведо, прекраснейший текст о смерти: «Вы не знаете смерть» (это говорит смерть) – и далее: «Знаете ли, вы представляете меня скелетом, но вы не правы, я не скелет», – говорит она! Почему? Вы видите важность этого текста Кеведо для нас с точки зрения, где располагаемся мы. «Я не скелет, – говорит смерть, – то есть скелет это то, что я оставляю после себя, это нечто завершенное, это смерть в “готовом” виде…» Попытаемся произнести слово, которое послужит нам в дальнейшем: может быть, это «символическая смерть», но после Вальтера Беньямина каждый знает, что смерть никогда не определяется через символ, но только через аллегорию. Скелет – это, может быть, и символ смерти, но это не аллегория смерти. Впрочем, как я полагаю, это любопытно (и я больше не говорю от имени Беньямина): по-моему, аллегория всегда в настоящем времени. Скелет – это всегда уже свершившаяся смерть, но смерть – это смерть как движение в процессе его свершения. Вы не знаете смерти, ваш брат (это прекрасный текст!), вы сами и есть ваша смерть, сами вы ваша смерть. Все вы мертвы «от самих себя»! Вы понимаете, это происходит с вашей плотью, а не с вашим жалким скелетом, который появится лишь после того, как все будет кончено; это вы в вашем настоящем времени. Смерть – она не из прошлого и не из будущего. Тогда как классическая эпоха, начиная с Эпикура, говорила нам, будто смерть – из прошлого либо из будущего, и тогда чего вам жаловаться…
[Конец пленки.]
Часть третья
Есть души настолько узкие, души отвратительные, они настолько узкие-узкие-узкие, что включают лишь это: Бог, я тебя ненавижу, я тебя ненавижу, я ненавижу Бога. Таков Иуда. Ну хорошо. Но почему эта ненависть возобновляется и почему она всегда в настоящем времени? Потому что, поскольку она выражает широту души, она непрестанно, каждое мгновение творится заново. Минимум широты, то есть случай постоянства, – это широта постоянная, неизменная, не бывает меньше, и заполняющая весь размах души, но она приносит много радости проклятому. Необходимо считать проклятых счастливыми, за исключением некоторых случаев, когда это оборачивается путаницей… впрочем, это история с эпизодами. Удовольствие проклятого. Проклятый – это разновидность бесчестия, проклятый – вроде зараженного, потому что он жалуется. Вы сейчас сразу же узнаете, кто причастен к этой традиции. Он жалуется, он непрестанно сетует: горе мне, о-ля-ля, этот огонь, нет, я этого не заслужил… а исподтишка он хохочет! Он испытывает такие удовольствия, о которых у вас нет ни малейшего представления. Почему? Разумеется, огонь-то существует, тут небольшие неудобства [смех], все это слово в слово содержится в «Исповедании веры философа». Но – понимаете ли – действие, которое адекватно заполняет всю широту его души, эта ненависть к Богу, она определяет фантастическое удовольствие, и это радость от свободного действия: «я ненавижу Бога». И проклятый очень хорошо знает, что его сетования – сетования ложные. Формулировка Лейбница великолепна, и поэтому выучите ее наизусть, потому что, кроме прочего, она дает мне аргумент о важности настоящего времени.
Лейбниц говорит: проклятый не вечно проклят, проклят он не навечно, но он всегда проклинаем и подвергается проклятию каждый миг; это надо выучить наизусть, по крайней мере для того, чтобы вы запомнили еще одну фразу Лейбница, кроме «лучшего из возможных миров», и в этом случае вы не зря потратите год; и, кроме того, эта фраза – более тревожная, чем «лучший из возможных миров», потому что получается, что эти проклятые станут причастными к лучшему из возможных миров? – обнаружение этого приносит истинную радость. Но в любом случае вы видите, что проклятые непрерывно получают новое проклятие в настоящем времени. Неизбежно. Но что необходимо сделать проклятому, чтобы он перестал быть прклятым?
Итак, слушайте меня: разумеется, это радость. Разумеется, он страдает, и страдает ужасно. Но это радость. Это радость, потому что если амплитуда души у него столь мала, то она полностью заполняется аффектом ненависти к Богу. Получается, что он всегда проклинаем, но это означает, что в любое мгновение он может «распроклятиться». Поэтому Лейбниц отнюдь не считает неправдоподобным или невозможным, чтобы проклятый вышел из проклятия. Что для этого нужно? Достаточно, чтобы его душа – это единственно и совсем просто! – достаточно, чтобы она перестала выблевывать мир. Мы видели, что означает «выблевывать мир». Выблевывать мир означает сохранять в отсеке, в области ясных мыслей лишь один минимальный предикат: ненависть к Богу! Достаточно, чтобы широта души чуть-чуть возросла, сколь угодно мало, и внезапно проклятый перестанет быть таковым. Но почему, почему у него так мало шансов, и даже в предельном случае он никогда этого не сделает? Потому что он слишком держится за это состояние широты, которое, по сути, заполнено одним-единственным предикатом: «Бог, я тебя ненавижу!» Так что он непрестанно вновь получает проклятие. Всегда проклинаемый, он непрестанно возобновляет ненависть к Богу, потому что именно она дает ему наибольшее удовольствие по отношению к широте его души. И зачем ему менять эту широту? И вот раздается гнусная песнь Вельзевула! Поскольку я вижу, что вы в форме, то, чтобы доставить вам удовольствие, необходимо спеть песнь Вельзевула, которая очень хорошо переведена Белавалем, но по-латыни она очень красива, эта песнь Вельзевула. Я могу спеть ее по-латыни или по-французски. Вот песнь Вельзевула [повторяет несколько раз]: необходимо, чтобы ты добавил… [смех] яду – прекрасно, – яд прокрадывается в члены, и тотчас же во всем теле начинается бешенство. Необходимо, чтобы преступление добавлялось к преступлению, – я уверен, что это вам понравится, – необходимо, чтобы преступление добавлялось к преступлению. Итак, мы удовлетворны. Для яростного существует лишь одна жертва – раздавленный враг. Удовольствие разбросать его плоть по ветру, разрезанного по живому, разъятого на тысячу кусков, превращенного в соответствующее количество свидетельств моей муки, вырвать эту плоть у самой трубы, которая призывает к воскресению.
Вот что говорит он, Вельзевул. Но ведь он похож на Иуду по широте своей души. И Лейбниц рассказывает историю, потрясающую историю об отшельнике, который получил от Бога прощение для самого Вельзевула. И Бог сказал отшельнику: да, иди туда, скажи ему, что единственное условие – чтобы он отрекся от всего, что он сделал, чтобы он отрекся от ненависти, которую он лелеет по отношению ко Мне. Иными словами, чтобы он чуть-чуть открыл свою душу. И отшельник сказал: благодарю, Боже, дело решено, он спасен! Отшельник встречается с Вельзевулом, говорит: конечно, есть условие – а он злой, Вельзевул, – конечно, есть одно условие. Нет-нет, говорит отшельник, это пустяки, совсем ничтожные пустяки: отрекись от своей ненависти к Богу. А Вельзевул злится и отвечает ему: прочь от меня, убогий идиот, убогий дурак, ты не видишь, что в этом мое удовольствие и смысл моей жизни.
Ладно. Иными словами, проклятый – это кто? Вы его узнали! Его портрет напишет Ницше: проклятый – это человек ресентимента, это человек мести. Мести по отношению к Богу. Неважно, к Богу или к чему-нибудь еще; в счет идет то, что это человек ненависти, это человек мести. Если вы, например, возьмете всю тему человека ресентимента у Ницше, то мы попадем впросак, если подумаем, что это человек, связанный с прошлым. Это отнюдь даже не человек, связанный с прошлым; человек ресентимента – это человек мести. Он связан с присутствующим следом. Он непрестанно скребет его, совсем как проклятый, он непрестанно скребет этот след, этот след в настоящем, которое оставило в нем прошлое. Иными словами, человек ресентимента, или мести, – это человек в настоящем времени; подобное же говорит нам Лейбниц: проклятие – в настоящем времени, и это минимум широты души. И тогда фактически каждое мгновение можно было бы спрашивать: что означает, что проклятые свободны? Проклятый мог бы в любой момент избавиться от проклятия. Повторите схему: у меня абсолютный минимум широты души. Однако это не доходит до бесконечности. Что доходит до бесконечности, так это бесконечное множество степеней, но я могу сказать, что минимум широты – это когда подразделение одной души (а здесь я употребляю очень точный лексикон Лейбница, то есть светлая область, освещенная область, зарезервированная часть, ясно выражаемая часть мира), итак, это когда данное подразделение души сводится единственно к присутствующей ненависти к Богу, к присутствующей ненависти, обращенной на Бога. Стало быть, я становлюсь проклинаемым, а проклинаемый – это тот, кто ненавидит Бога, и я подвергаю себя проклятию каждый миг ровно в той мере, в какой я непрестанно осуществляю эту свою широту. Но опять-таки, если бы, пусть даже каким-то ложным движением, Вельзевул наделил свою душу чуть большей широтой, проклятие с него сразу было бы снято.
Вот чему нас учит великое «Исповедание веры философа». Дело идет? Нет трудностей? Я не знаю, из-за моего ли только что сделанного замечания, но вы больше ничего не говорите, и я нахожу вас более угрюмыми, чем когда-либо.
Для тех, кто чуть-чуть знает, – а я сказал, что фактически не выхожу за пределы текстов Лейбница, – разве вы не поражены доходящим до галлюцинации сходством с бергсонианской концепцией свободы? Гораздо позже Бергсон посвятит третью главу «Опыта о непосредственных данных сознания» свободе. Что он нам скажет? Вначале он будет различать две проблемы. Мы увидим, что Лейбниц тоже различает две проблемы. И первая проблема касается действия в настоящем времени. Что такое свободное действие в настоящем времени? И я вижу, что все зиждится на следующей теме: те, кто отрицает свободу, придумывают для себя гротескную концепцию из мотивов. Бергсоновская критика весьма напоминает лейбницианскую, но она подпитывается и совершенствуется исходя из сугубо бергсонианских тем, а именно: когда при размышлении я возвращаюсь к мотиву, становится очевидным, что этот мотив изменился, так как существует длительность. Возьмем простой случай: я колеблюсь между двумя противоположными чувствами: «Люблю ли я это или же ненавижу?» «Я» и волнующие его чувства оказываются уподобленными противникам свободы, оказываются уподобленными вполне определенным вещам, которые остаются самотождественными на всем протяжении размышлений. Но если размышляет всегда одно и то же «Я», и если два противоположных чувства, которые мною движут, нисколько не меняются, то как на основе этого принципа причинности, на который ссылается детерминизм, это «Я» вообще примет решение? Истина в том, что «Я», – читайте текст, отсылающий к этой схеме, – одним тем, что оно испытало первое чувство, уже немного изменилось – и вот внезапно приходит второе чувство. Во все моменты размышления «Я» видоизменяется, а следовательно, видоизменяет два волнующих его чувства. Так формируется динамический ряд проницающих друг друга состояний, они друг друга укрепляют и в конце приведут к свободному действию посредством «естественной эволюции».
Тут невозможно сказать лучше, здесь почти что напрашивается подпись «Лейбниц»: динамичный ряд состояний. Мы видели, что это было включением некоего динамичного ряда состояний в «Я». Вы следите за мной? В действительности динамический ряд таков: A1, B1, A2, B2 и т. д. А что непрестанно будет говорить Бергсон? Он скажет: это как раз и есть свободное действие, это именно такое действие, в котором выражается «Я» в такой-то момент длительности. И более того, он, в свою очередь, позаимствует схему, которая заклинает или объединяет и то, что необходимо критиковать, и то, что необходимо восстановить. Как я показываю, эта схема есть схема сгиба. И на самом деле, если Бергсон объединяет ее, то это потому, что он показывает, что жизнь души и противники свободы внезапно забывают об этой схеме и что в один прекрасный момент они устраивают своего рода бифуркацию, которая уже не соответствует движению в процессе его свершения, пренебрегает всеми законами движения в процессе свершения. И получается, что великая идея Бергсона такова: в каком акте выражается «Я»? Это очень просто, он все время его определяет, и это определение является совершенно бергсонианским: действие, в котором выражается «Я», есть действие, которое получает от производящей его души единство движения в процессе свершения. Единство движения в процессе его свершения, которое, в первую очередь, не следует смешивать со следом уже произведенного движения. Чуть-чуть отдохнем?
Часть четвертая
Если вы рассмотрите движение в процессе его свершения, то получится, что смерть, как и все остальное, есть движение в процессе его свершения. Ваш череп – поймите хорошенько, ваш череп, не снятая кожа, не снятый скальп с волосами, а вот ваш череп, который вы трогаете, по которому вы стучите, – вот это смерть. И ваше лицо, ваше лицо – это смерть. «То, что вы называете умиранием, на самом деле завершение жизни, а то, что вы называете рождением, – начало умирания, подобно тому как то, что вы называете житьем, на самом деле умирание заживо. И кости – это то, что смерть оставляет от вашего брата, и то, что покоится в гробнице (так уж повелось); если вы как следует это понимаете, то каждый из вас будет всю жизнь обладать зеркалом смерти в вас самих, и вы в то же время увидите, что все ваши дома полны мертвецов. Что мертвецов столько же, сколько людей, и что вы не дожидаетесь смерти, но вечно сопровождаете ее». Невозможно сказать лучше: движение в процессе его свершения! Вы не дожидаетесь смерти, но вы вечно сопровождаете ее: смерть как движение в процессе его свершения. Но вот, опять-таки, движение в процессе его свершения требует единства, а это единство оно может получить только от души.
Но час настал: проклятие, смерть – в настоящем времени; даже смерть – в настоящем времени, даже проклятие – в настоящем вемени. А почему? Потому что, знаете ли, дело в том, что проклятый опять-таки платит не за действие, которое он совершил, он платит за собственное настоящее. Иными словами: он не наследует проклятие, он сопровождает его. Почему? Он говорит нам нечто весьма любопытное, Лейбниц. Он спрашивает: кого я называю проклятым? Вот здесь-то моя компетенция мне изменяет, потому что очевидно, что он это не выдумывает, а я вам читаю текст: «Иуда. В чем состоит проклятие Иуды. На первый взгляд, можно подумать, что в том, что он продал Христа. Отнюдь нет. Мы можем представить себе кого-нибудь, кто сделал бы нечто гораздо худшее (здесь я забегаю вперед. – Ж.Д.), и не был бы проклят. По-моему, Адам не проклят». Я говорю себе: либо возможно это обсуждать, либо же здесь существует всеобщее мнение… Вы не знаете Кирстена? Вы уверены? Вы вполне-вполне уверены?
Тогда внесем поправку. Мы можем представить себе, и, конечно, некоторые теологи, которые были за это сожжены, выдвигали такую концепцию, что Адам не был проклят, ибо тогда следовало бы отождествить проклятие с первородным грехом, – в конце концов, неважно. Я немного слишком быстро продвигался вперед. Теперь отступаю. Предположим, что Адам проклят, хотя это меня удивляет, еще как удивляет: проклят ли он? Вот Иуда – да, он-то проклят. Я скажу вам, почему Адам не проклят, почему это заблуждение. Разве что чрезмерно ретивые теологи говорили, что Адам был проклят, но он не может быть проклятым. Все зависит от того, как мы определяем проклятие.
А вот как определяет его Лейбниц вслед за определенным количеством теологов: если Иуда проклят, то это из-за настроя, при коем он умер. Вероятно, подразумевается также настрой, который уже был у него, когда он продал Христа. Именно из-за «настроя, при коем он умер, то есть из-за ненависти к Богу он горит, умирая». Проклятый – это, стало быть, тот (я перевожу): «проклятый – это тот, чья душа заполнена и осуществлена, тот, чья широта души заполнена ненавистью к Богу. И ненависть эта – в настоящем времени». В каком смысле? Прежде всего существует абсолютный минимум широты души. Какова минимальная мыслимая широта души? Она – у души проклятого. И это возымеет колоссальные последствия. Итак, минимальная широта – у души проклятого. Почему же именно душа проклятого показывает минимальную широту? Эта душа заполнена ненавистью к Богу в настоящем времени. Ненависть к Богу в настоящем времени – ничего, кроме этого. Я здесь чувствую своего рода дрожь: ненависть к Богу в настоящем времени. Скоро мы увидим, что это влечет за собой. И я говорю, что это – наименьшая широта души. Почему? Потому что Бог – по определению – есть высшее существо, бесконечное существо. Душа, проникнутая ненавистью к Богу, изрыгает все, буквально все, все, кроме этой ненависти: «А вот я ненавижу Бога». И единственный предикат проклятой души: «Я ненавижу Бога».
Это ее единственный предикат. И как же он возможен? Проклятая душа есть монада, да-да, это монада; всякая монада выражает мир, да-да, всякая монада выражает мир. Правда, вы, может быть, помните, я всегда возвращаюсь к этому Лейбницеву правилу, без которого все рушится: всякая монада выражает мир, да-да, бесконечный мир, но ясно она выражает только небольшую область мира, собственный квартал, или, как говорит Лейбниц, по-моему, я еще не цитировал этого текста, – свое отделение. Каждая монада представляет собой выражение всего мира, но у каждой есть небольшое отделение, которое отличает ее от остальных, квартал мира, который она ясно выражает. Вы понимаете?
Итак, проклятая душа. Конечно, это монада, она выражает мир в целом, но ее ясная зона сведена почти к нулю. Это – душа с неким предикатом, если «предикатом» я называю атрибуты, или события, региона, зоны, области, свойственной монаде. Ее собственная область, ее ясная зона – она не имеет прочей освещенности, кроме вот этого ужасного света: «Я ненавижу Бога!» Я могу сказать, что это минимальная широта. Но почему эта ненависть всегда в настоящем времени?
Я намекал вам на первую схему сгиба у Бергсона, а потом я сказал: если вы прочтете всю третью главу «Непосредственных данных»… Ни у кого нет конфетки?.. Кхе… кашель, дайте леденец… Кхе-кхе… [Смех.] Ха! Надо жить в опасности. Вот это и есть здоровье. Иначе будет еще хуже. Бергсон нам говорит… Существует иная проблема. Он очень отчетливо ее различает. Противники свободы, детерминисты, они ничего не могут возразить, когда им показывают, что такое действие в настоящем времени. Сколь бы они ни были зловредны, они всегда объединяются вокруг прошлого. И они говорят, что это другая проблема. И эта другая проблема такова: надо предположить, что кто-то знает все антецеденты какого-нибудь действия и ничего, кроме антецедентов, то есть все, что произошло прежде, и тогда мы, дескать, будем способны предсказать само действие. Вы видите, что это другая проблема, так как ее элемент – уже не действие в настоящем времени, но антецеденты в прошлом. Достаточно ли антецедентов в прошлом, чтобы обусловить действие? И Бергсон, как вы увидите, с настойчивостью говорит, что это другая проблема. Но необходимо все возобновить на уровне этой другой проблемы. А у Лейбница совершенно то же самое. Вы видите возникновение этой другой проблемы, которая заставляет нас объединиться. С кем? Которая заставляет нас объединиться, очевидно, с Богом. Ибо что такое разум, способный познать все антецеденты действия? Разум, способный познать все антецеденты в монаде, есть Бог. Бергсон говорит: «Высший разум». Если предположить, что высший разум, то есть Бог, знает все антецеденты в прошлом, то способен ли он предсказать движение или действие до его свершения? Вы понимаете? Вот новая проблема. Например, «Монадология», где сказано: «читать все прошлые антецеденты» – читать в монаде, Бог читает в монаде все прошлые антецеденты. Значит ли это, что Он может предсказать действие монады, то есть «я путешествую», «я пишу», «я иду в таверну», если предположить, что Он знает все антецеденты? Бог знает все заранее. Да, но что это означает – «знать все заранее»? Из двух одно: либо это означает знать все антецеденты и вытекающие из них действия, либо же это означает не знать ничего, кроме антецедентов. И по этому поводу мы задаемся вопросом: может ли Бог что-либо предвидеть, не зная ничего, кроме антецедентов? Эта вторая гипотеза – она отсылает нас к проблеме свободы. Ладно, это остается проблемой. Предполагается, что Бог знает все антецеденты действия, которое совершает монада; значит ли это, что Он способен предвидеть это действие? Мы не продвинемся ни на шаг!
Именно из-за того, что Он везде и всегда, Бог знает сразу и антецеденты, и проистекающие из них действия. Но что это означает – быть везде и всегда?
Быть везде и всегда – это очень просто, это означает, что Он сам проходит через все состояния, через которые проходит каждая монада. И на самом деле, как мне кажется, в тексте «Рассуждение о метафизике» Лейбниц говорит: «Монады, каждая монада есть продукт или результат взгляда Бога». Я бы сказал, что в каждой монаде наличествует прохождение Бога. Бог проходит через все монады. Я употребляю это выражение не просто потому, что «проходить» – бергсонианское слово, но и оттого, что на эту тему существует один текст Уайтхеда; итак, мы приступим к сопоставлению двух этих великих философов – Уайтхеда и Лейбница; так вот, Уайтхед говорит нам: то, что происходит в комнате в течение часа, например, то, что происходит в этой комнате, есть прохождение природы в этой комнате. И он показывает этот прекраснейший концепт – прохождение Природы. Это природа проходит, и проходит она по этой комнате и в этой комнате; точно так же, по-моему, и в очень близком смысле надо говорить, что Бог проходит в каждой монаде и через каждую монаду. Я чуть было не сказал, что каждая монада включает это прохождение Бога, так как Бог проходит через все состояния монады. Просто Бог вечен, и это означает что? Это означает, что в Его вечности Он проходит сразу через все состояния всех монад. Стало быть, сказать, что Он проходит через все состояния одной монады, – это сводится к чему? К тому, что Он совпадает с этой монадой. Когда Он знает все прошые антецеденты монады, Он совпадает с настоящим временем этой монады. Иными словами, Бог творит настоящее время монады в то самое время, как его творит монада. Вы скажете мне: ничего подобного, Он опережает ее. Но ведь нет! Лейбниц первым в разного рода текстах настаивал на вот этом: само собой разумеется, вечность не состоит ни в опережении, ни в запаздывании. Более того: опережение, строго говоря, не имеет никакого смысла. И здесь, мне кажется, Лейбниц заходит чуть ли не дальше, чем Бергсон.
Предположите мир и определите его через последовательность состояний: a, b, c, d. И скажите: я могу представить себе, что мир начался на десять лет раньше или позже или на тысячу лет раньше. Если вы ничего не меняете в состояниях, если речь идет об одних и тех же состояниях, то эта пропозиция совершенно лишена смысла. Поразмышляйте мгновение, и это должно показаться вам очевидным. Ибо если время должно определяться как порядок состояний или как форма последовательности состояний, то вы можете сказать: что произошло бы, если бы мир начался на тысячу лет раньше, при условии, что вы изменитесь, что вы будете предполагать, что это не одни и те же состояния. Если это одни и те же состояния, то у вас нет никаких средств отличать фактическую хронологию от хронологии, которая наличествовала бы, начнись мир десятью или сотней годами позже. Иными словами, как бы вы ни заставляли его начаться раньше, он раньше не начнется: все строго тождественно. Так что сказать: мир мог бы начаться раньше – в той мере, в какой вы сохраняете и определяете мир той же самой последовательностью состояний, – есть пропозиция, лишенная смысла, так как у вас не будет никаких средств различать две хронологии. Это очевидно. Иными словами, это сводится к тому, что вечность никогда не состояла в опережении. Необходимо сказать именно то, что Бог – в Его вечности – проходит через все состояния всех монад. А вот монады, сообразно порядку времени, последовательно проходят через некие последовательные состояния. Но тем не менее в Своей вечности Бог только и делает, что совпадает с каждой монадой в момент, когда она совершает действие в настоящем времени. Возвращаюсь к Бергсону, который говорит точно то же самое; он говорит: вы различаете Петра, который совершает действие, и Павла, высший разум, который знает все антецеденты и, как считается, предсказывает действие. Допустим, считается, что Петр знает все антецеденты. В момент, когда Петр совершает действие, вы догадаетесь, что Павел необходимо совпадает с Петром. То есть он отнюдь не предсказывает действие, он совпадает с Петром и совершает действие в то же время, что и Петр. И именно задним числом вы говорите себе: получается, что он смог предвидеть. Но на самом деле Петр и Павел будут одним и тем же лицом в момент настоящего действия. И Бергсон будет нас вдохновлять: ну вот, я отсылаю вас к чтению, к другой схеме сгиба. Надеюсь, понятно: меня интересует именно то, что существуют две схемы сгибов, то есть Петр и Павел – монада и Бог – с необходимостью совпадают на уровне действия, которое следует предвидеть. Итак, во всех этих отношениях то, что я отсюда сохраняю, – очень-очень строгая концепция свободы у Лейбница, которую можно понимать только через тему (если угодно, через бергсонианскую тему, но опять-таки мне кажется, что она безусловно присутствует у Лейбница) действия в настоящем в процессе его свершения, настоящего действия, к которому мы всегда возвращаемся. Но, тем не менее, то, что я говорю, формулируется совершенно неукоснительно, и здесь-то я и хотел бы закончить: если верно, что свобода спасена, то не слишком хорошо видно, как спасти мораль. И все-таки Лейбниц прежде всего философ морали (а тем самым он принадлежит уже XVIII веку), и гораздо более того: он, вероятно, является первым из философов, который воспринимал нравственность как прогресс, уже не как согласие с природой, а как прогресс разума. Именно это – что в полной мере принадлежит XVIII веку и что можно назвать пред-кантианством – и реализует Кант. Мораль уже совсем не относится к природе (как было у античных мудрецов), это прогрессивность разума. Но вся моя проблема такова: как мы можем определить тенденцию к лучшему с такой концепцией свободы? Я всегда могу сказать: тенденция к увеличению широты, – но откуда же и почему она берется? В действительности о прогрессе разума можно было бы вести речь, если бы я смог показать, что существует тенденция души к увеличению широты, и тогда я мог бы определить прогресс. И опять-таки, имейте в виду, что Лейбниц оказывается перед забавной проблемой, которая была отмечена всеми его комментаторами: дело в том, что Бог избрал лучший из миров – существует некоторое количество детерминированного прогресса. Лучший из возможных миров – это наиболее совершенный ряд, хотя ни одно состояние этого ряда само не является совершенным. Наиболее совершенный ряд… Но наиболее совершенный ряд – это определяет некий максимум. Это определяет некоторое количество прогресса. Следовательно, как душа, например моя, могла бы прогрессировать без одного ужасного условия: чтобы другие души регрессировали? И такая трактовка является расхожей, к примеру, у некоторых комментаторов Лейбница: они замечают, что – на их взгляд – Лейбниц попадает в своего рода тупик, так как за возможный прогресс одной души всегда приходится платить регрессом других душ – из-за необходимости некоторого количества прогресса, детерминированного для мира, избранного Богом.
Мы придерживаемся, по крайней мере, одного определения прогресса. Я прогрессирую, если моя душа увеличивает свою широту; но сказать это недостаточно, ибо как моя душа может расти, если она и так выражает весь мир? Согласен! Тогда мы всегда возвращаемся к тому, что кажется мне в равной степени существенным: моя душа выражает весь мир, но ясно она выражает лишь малую часть мира, и это моя область. Это ограниченная область. Моя зона, мой квартал – все, что вам угодно. Коль скоро это так, что означает «прогрессировать»? Увеличивать широту моей души – но я не могу выражать больше, чем мир. Зато я могу увеличивать свою область, я могу увеличивать свой квартал, а он ограниченный. Стало быть, вот более точное представление о том, что означает «прогрессировать»: это означает увеличивать широту своей души, то есть увеличивать доставшуюся нам ясную зону, которая отличается от той, что достается другому. Ну хорошо. Но что означает «увеличивать освещенную область»? Надо ли это понимать в смысле протяженности? И да, и нет. Тут необходимо быть очень конкретным. Я говорю «да и нет», потому что та идея, что монада – вы и я – располагаем некоторым отделением, то есть освещенной областью, которую мы выражаем более совершенно, чем остальное, эта идея правильна, но она, эта освещенная зона, является понятием статистическим. Я имею в виду, что она у нас не одна и та же в детском возрасте, в возрасте взрослом и в старости, она у нас не одна и та же в добром здравии и в болезни, в состоянии усталости и когда мы в форме. Например, мне досталась обширная освещенная область – и вот моя освещенная область стремится стать совсем маленькой. Стало быть, существуют непрерывные вариации освещенной области. Стало быть, увеличивая освещенную область, мы видим, что в каждом случае можно довести ее до вероятного максимума. И потом, это не увеличение протяженности: это увеличение углубления. Речь идет не столько о том, чтобы расширить освещенную область, сколько о том, чтобы углубить ее, то есть, я бы сказал, развить ее потенцию, что в терминах философии XVII века выражается как «довести ее до отчетливости». Она была только ясной, она не была отчетливой. Необходимо довести ее до отчетливости, а это может произойти лишь посредством знания. Следовательно, все это придает некоторый смысл увеличению широты моей души, то есть прогрессированию.
И вот у меня наконец есть критерии; теперь я могу вернуться к сказанному. Конечно, существует тенденция к лучшему. Утверждать, что работать лучше, нежели идти в таверну, заставляет меня то, что поход в таверну – это действие, которое соответствует гораздо меньшей широте души, нежели работа. Ну да, именно так! Вы видите, до какой степени это помогает мне говорить об абсолютном минимуме широты души: прклятый – это опять-таки бедная душа, ясная область которой сведена к одному-единственному предикату: «я ненавижу Бога». Итак, все это дает некую идею прогресса. Я могу прогрессировать. И еще тенденция к лучшему… Вы видите, здесь настоящая философская революция, потому что идея блага, которая до сих пор была гарантом нравственности, понимаемой как согласие с природой, замещена у Лейбница идеей лучшего. А лучшее – не гарант вроде согласия с природой, но гарант новой нравственности как прогресса души. И тогда, согласен, каждый из нас может, в свою очередь, прогрессировать, но, прогрессируя, мы всегда возвращаемся к одному и тому же – как бы ставя подножку другим. Поскольку я реализую известное количество прогресса и поскольку это количество прогресса неизменно для лучшего из возможных миров, конечно же, обязательно, что если я прогрессирую, то за это следует платить. На первый взгляд, мне кажется, что необходимо, чтобы другая душа регрессировала. Вы понимаете, это своего рода борьба за моральное существование. Кхе-кхе. Как найти выход? Я полагаю, что Лейбниц его находит, – и это исключительно красиво, а стало быть, очень трудно. В противоположность вечности Бога, Который проходит через все монады, вечно или от века, монады развиваются не вне времени. Монады развиваются не вне времени, монады подчинены порядку времени. В каком смысле они подчинены порядку времени? Вот мое гражданское рождение, – необходимо вернуться к вещам, с которых мы начали. Я начинаю, я делаю их набросок, но в следующий раз их необходимо увидеть, и это прямо-таки театральная постановка, и здесь она тоже очень близка к барокко; следует смотреть очень пристально. Мой акт гражданского рождения – это что? Это дата, когда я родился в качестве существа, чья разумность предполагается. А вот моя душа – она не рождается. Моя душа, как вы помните, не рождается, она всегда уже присутствовала здесь, с самого начала мира. И мое тело – тоже. Мое тело было до бесконечности сложенным, до бесконечности согнутым, бесконечно согнутым в семени Адама, а моя душа, неотделимая от этого тела, существовала лишь как душа чувственная или животная – вот что говорит Лейбниц. Но тогда что же меня отличало – меня, призванного к тому, чтобы стать в некий момент каким-то разумным созданием, что же отличало меня от животных, которые тоже с самого начала мира существовали в семени великого предка, от чувственных и животных душ? «Дело Бога, отстаиваемое примирением Его справедливости с другими совершенствами», – вы видите, что дело Бога означает не то, что способствует существованию Бога, но означает дело в юридическом смысле: защищать дело Бога. «Дело Бога, отстаиваемое примирением справедливости» и т. д… И вот в тексте «Дело Бога», параграф 82, Лейбниц говорит нам: тем самым ясно, что мы не утверждаем предсуществования разума. Это существенно, да! Он не говорит, что разум разумного существа присутствует с самого начала, что он сосуществует в семени Адама. Это было бы неразумным. И он отнюдь не говорит этого. Он говорит: «Если я существую с начала мира, то в форме тела, до бесконечности свернутого внутрь себя, в семени Адама, в виде души чувственной и животной. Итак, не будем утверждать предсуществования разума», но все-таки можно полагать, что в предсуществовавших зародышах было предустановлено и подготовлено Богом все, чему в один прекрасный день предстояло проявиться. И не просто человеческий организм, но и сам разум в форме… в какой форме? В форме своего рода запечатленного действия – запечатленного действия, приносящего конечный результат, – вот на какие мысли наводит меня этот текст Лейбница.
Вы видите: я предсуществую сам себе с начала мира. На самом деле я существую в семени Адама, но как чувственная или животная душа. Но что же отличает чувственные или животные души, которые призваны стать душами разумными чуть позже, от таких, которые обречены оставаться душами животными и чувственными, подобно всем душам кошек, собак, зверей и т. д.? Что отличает их? Текст говорит нам это: запечатленное действие. Действие, запечатленное в монаде, в монаде животной или чувственной. Запечатленное действие, которое говорит что? Которое дает конечный эффект. Запечатленное действие, похожее просто на штамп или ярлык – вероятно, с датой, и оно говорит, что в соответствующую дату эта чувственная и разумная душа будет возвышена. Таково возвышение. Вы припоминаете: мы из него исходили. Некоторое количество душ, те, коим предстоит стать разумными, будут в должный момент подняты на верхний этаж. Итак, в самом начале Бог вложил в души, которым предназначено возвышение на верхний этаж, некое запечатленное действие. Здесь нет необходимости долго искать, это само продвинет нас вперед; вспомните, что в прошлый раз мне было очень-очень необходимо это запечатленное действие. И что такое это запечатленное действие? Очевидно, это некий свет. Что же такое разум, как не свет? Если монада не абсолютно черная, то, как мы видели, она обита черными обоями. Вы чувствуете, что у меня на уме и к чему я клоню, – к барочной живописи или барочной архитектуре. Стены монады – черные. Монадам предназначено стать разумными. Бог запечатлевает в монаде некий юридический акт, акт, скрепленный печатью, который должен принести конечный эффект, – то есть Он вкладывает в нее свет, которому впоследствии суждено возжечься. А это – чудо.
Итак, когда приходит дата моего рождения, настает час моего возвышения на верхний ярус, моя душа становится разумной, а это означает, что в черной монаде возжигается свет. Он возжигается в монаде, монада поднимается на верхний этаж – вот как все это происходит. Хорошо. Вы видите. Когда я не родился, существовал некто, некто до моего рождения. Вы видите, я спал в семени Адама, или в семени моих предков, я дремал, будучи совершенно свернутым; мой маленький свет был погашен, но запечатлен в моей черной монаде. Это было до моего рождения. И вот я рождаюсь. Я поднимаюсь на второй этаж, на верхний этаж – вы помните наш начальный анализ двух этажей как определение барокко, – я поднимаюсь на верхний этаж, мое тело развертывается, моя душа становится разумной, возжигается свет. Но когда я умираю, что-то происходит – необходимо продлить ряд, чтобы понять это. Когда я умираю – но слушайте же, я возвещаю вам недобрую новость, хватит, хватит смеяться, – вы снова сворачиваетесь. Вы не утрачиваете ни тело, ни душу. Было бы очень неудобно, если бы вы утратили тело: как бы нашел вас Бог? Частицы вашего тела были бы рассеяны. Лейбниц чрезвычайно упрям в этом вопросе. Он говорит: воскресение – это очень мило, но нельзя, чтобы частицы вашего тела оказались разбросанными. Здесь тоже серьезная теологическая проблема. Когда я умираю, я сворачиваюсь – а что это такое? Я вновь схожу на нижний этаж, я схожу вниз. Иными словами, части моего тела свертываются, а моя душа перестает быть разумной, она вновь становится душой чувственной и животной. Но, ха-ха-ха, она уносит с собой новый запечатленный акт. Здесь мне, к сожалению, приходится сказать, что Лейбниц не говорит этого формально, но – вполне вероятно – он говорит это имплицитно. Это настолько очевидно, что он не чувствует необходимости говорить это. Но вот нам необходимо все-таки почувствовать необходимость это сказать. Ведь, в конечном счете, если бы он это сказал, что произошло бы? Она, очевидно, уносит с собой новый запечатленный акт! А вы меня можете спросить: что же такое этот новый запечатленный акт? Новый запечатленный акт есть акт юридический – все это в юридическом смысле. Запечатленный акт моего рождения есть свидетельство о рождении. Я говорю: моя разумная душа, умирая, с необходимостью уносит с собой другой запечатленный акт – это свидетельство о ее смерти. Что же такое свидетельство о смерти разумной души, когда она умирает?
Что такое это свидетельство о смерти? Ха-ха, послушайте: это моя последняя разумная мысль. Последняя разумная мысль. Именно поэтому последняя мысль столь важна. Последняя мысль прклятого такова: «Я ненавижу Бога!» Потому-то он и проклят, он проклят из-за своей последней мысли. И тогда проклятый уносит с собой в душе, вновь ставшей чувственнойили животной, это свидетельство о смерти. И он засыпает, подобно всем остальным душам. Мое тело свертывается, моя душа вновь становится тем, чем она было до своего рождения разумной, то есть она вновь становится чувственной или животной. Свет погашен. Последняя точка: воскресение. Приходит час воскресения. В этот-то момент, и лишь в этот момент, все разумные души, или, скорее, все души, которые были разумными и вновь уснули, обратившись в прах и т. д., вновь возвышаются, их тела вновь развертываются в гибкое тело, в тело славное или бесславное, а души подвергаются суду. А проклятые суть те, кто пробуждаются так, словно они мертвы, то есть они пробуждаются, ненавидя Бога. Блаженные и проклятые, ничего кроме этого! Каждый пробуждается согласно последней широте своей души.
Свет возжигается вновь. После этого появляются проклятые: ведь формулировка их пропозиции: «я ненавижу Бога!» Поскольку пропозиция разума сохраняет минимум света, она занимает ясную область соответствующей монады. Свет возжигается в каждой монаде; воскресение необходимо понимать как нечто очень веселое: возжигаются всевозможные малые частицы света, все души вновь становятся разумными, и каждый получит свое согласно порядку времени, то есть в соответствии с жизнью, какую он вел, когда был разумным. Вы понимаете?
Вот-вот. Я затрагивал этот пункт в прошлый раз. Но ответ я вам дам прямо сейчас. Уже неуместно говорить: если я прогрессирую, то это в ущерб другим. Это было бы ужасно. Комментаторы неправы, когда говорят, что Лейбниц ничего не извлекает из этой проблемы, так как, к счастью, существуют проклятые. Мне кажется, говорить «мой прогресс с необходимостью происходит в ущерб другим» неверно из-за проклятых. И как раз поэтому все остальные, кроме проклятых, могут прогрессировать. Ибо что творят проклятые? К счастью, чтобы не попасть в собственную ловушку, они должны перестать насмешничать, словно вальдшнепы (becasses). Что они делают, проклятые? Они доводят широту своей души до минимума, они сводят ее светлую область к единственному: «Я ненавижу Бога». Вы видите это колоссальное уменьшение широты. Поэтому дело не в том, что они дают нам отрицательный пример; дело в том, что они отвергают широту души, какую они могли бы иметь в нормальном случае в качестве разумных существ, они отказываются от собственной широты. Они добровольно отвергают сами себя из-за своей глупости. Коль скоро это так, они делают возможным для других использование бесконечного прогресса, и, вероятно, это и есть их подлинное наказание. Их подлинное наказание – не адское пламя; их подлинное наказание – служить совершенствованию других. И опять-таки не потому, что они показывают отрицательный пример, которого страшится весь мир, но из-за того, что они отчасти функционируют, показывая негативную энтропию, то есть они выбрасывают в мир некоторые количества возможного прогресса. Что такое количества возможного прогресса? Это количества света, от которого отказались они сами и который мог бы причитаться им по праву, как разумным существам. И получается, что на этом уровне, как мне кажется, становится возможным прогресс. Все души могут прогрессировать, не исчерпывая общего количества прогресса, – почему? Потому что существуют проклятые, которые добровольно, по собственной воле устранились от общего прогресса и, следовательно, сделали возможным прогресс для других. Так что проклятые играют подлинно физическую роль – как в физике говорят о демонах, демонах Максвелла. Существует своеобразная физическая роль прклятых: они делают прогресс возможным. Итак, вы понимаете, для демона, для Вельзевула, делать прогресс возможным – поистине самая печальная вещь в мире. Я хотел бы, чтобы вы об этом поразмыслили. Немного спустя мы вернемся к этому вопросу о прогрессе, и вы почувствуете, что настал момент для нас рассмотреть пристальнее эту концепцию света, которая существует у Лейбница.
Лекция 5
Событие. Уайтхед
(10.03.1987)
Мы работаем. В прошлый раз я начал говорить о своего рода общем виде или выводе, касающемся преобразования, которому Лейбниц подверг понятие субстанции. Если вы соблаговолите, мы оставим это в стороне, и я возобновлю эту тему впоследствии, тем более что я едва начал ее. Я ощущаю необходимость оставить ее в стороне, потому что – как я вас уже известил – у меня есть необходимость в помощи, которая на сей раз касается не математики, а известных проблем физики. И поскольку сегодня здесь присутствует Изабель Стенгерс, а в последующие недели ее не будет, необходимо, чтобы я воспользовался ее присутствием. Я хочу воспользоваться ее присутствием по двум причинам: потому что речь идет о проблемах, которые очень близко касаются Лейбница, и потому что она в них разбирается, а с другой стороны, потому что это проблемы, в равной степени касающиеся и того автора, о котором я хотел с вами поговорить, а именно – Уайтхеда.
Итак, вы можете считать, что наша сегодняшняя лекция не только в полной мере встраивается в это исследование Лейбница, но и касается вот этого философа, Уайтхеда, и его отношений с Лейбницем. Знаете ли, у греков было прекрасное слово, в неоплатонической школе существовал глава школы, и он следовал предыдущему главе школы – и имелось слово для обозначения последующего главы, это слово – диадох. Диадох… Если мы представим себе лейбницианскую школу, то Лейбниц – великий диадох, но в то же время он возобновляет все. Отсюда моя зависть: ну почему же этот автор, о котором я так страстно желаю поговорить, – и годы его жизни – в относительном прошлом, 1861–1947, – умер старым? А ведь он относится к тем авторам, к тем величайшим философам, которые были задушены, как бы убиты. Убиты – что это значит?
Это значит, что время от времени возникают школы мысли, относительно которых явствует, что перед мыслителями стоят две опасности: существуют всевозможные сталины, всевозможные гитлеры, перед лицом которых у мыслителей есть лишь две возможности: сопротивляться или уходить в изгнание. Но иногда в рамках мысли происходит и нечто другое: странные доктрины возникают, воцаряются, добиваются подлинной власти там, где в этой области есть власть, то есть в университетах, и учреждают своего рода трибунал, интеллектуальный трибунал в этой области – а за ними, или под ними, уже ничего не растет.
Необходимо выключить магнитофоны, так как моя речь становится свободной. Я никогда не напишу того, что говорю сейчас, и все-таки хотелось бы, чтобы я мог сказать: «Я никогда этого не говорил». В этом духе я обвиняю английскую аналитическую философию за то, что она разрушила все, что было богатым в мысли, – и обвиняю Витгенштейна за то, что он убил Уайтхеда, за то, что он свел собственного учителя Рассела на уровень своего рода эссеиста, который уже не смеет говорить о логике. Все это было ужасно, и длится до сих пор. Францию этот процесс пощадил, но у нас есть и собственные аналитические философы; Францию этот процесс пощадил, так как ей достались еще худшие испытания. Ладно. Это для того, чтобы сказать вам, что дела идут плохо. Ничто в области мысли не умирает естественной смертью – поистине это так. Эта англо-американская мысль перед последней войной была чрезвычайно богата, ее характерной чертой было богатство… Авторы, к которым возникла привычка относиться как к слегка глуповатым: я имею в виду Уильяма Джеймса. Уильям Джеймс – необыкновенный гений. Для философии он сыграл точно такую же роль, как его брат – для романа. Ищущим тему для диссертации я в очередной раз скажу, что приходится стонать, оттого что, насколько мне известно, не было серьезных исследований братьев Джеймс и их взаимоотношений. И потом существует Уайтхед, а был и еще один-единственный очень-очень великий австралийский философ, Александер{ Имеется в виду Сэмюэл Александер (1859–1938), который известен не столько как аналитический философ, сколько как представитель идеалистической теории эволюции.}. Уайтхеда прочла горстка любителей и еще одна горстка – специалистов. В конечном счете, и Бергсон… Мы не можем сказать, что это было очень серьезно. В 1903 г. Уайтхед завершил математичекое образование, в 1903 г. он пишет вместе с Расселом «Principiae mathematicae», которые располагаются в основе современного формализма и современной логики. «Principiae mathematicae» породят Витгенштейна, и это отчасти драматический процесс. Ладно, неважно. Я полагаю, что Уайтхед – англичанин, но всякий раз обманываюсь, так как впоследствии он обосновывается в Америке, в 1920– 1923 годах. Итак, «Principiae mathematicae» вместе с Расселом, великая книга по логике. «Понятие природы» на французский не переведено (1920). «Наука и современный мир», одна из редких книг Уайтхеда, переведенных на французский, важная книга, очень хороша (1926). Предполагаю, что найти ее невозможно. Его великая книга – «Процесс и реальность» (1929). Есть еще книга «Приключения идей» (1933){ Все упомянутые книги, кроме «Понятия природы», вошли в сборник: А.Н. Уайтхед. Избранные работы по философии. М., 1990.}.
У меня двоякая цель. Я сразу хотел бы, чтобы вы почувствовали величие этой мысли самой по себе и в то же время чтобы вы почувствовали связи этой мысли с Лейбницем, а значит, Уайтхед буквально может помочь нам в фундаментальном прояснении Лейбница. Не составляет ни малейшей проблемы знакомство Уайтхеда с Лейбницем. Он пронизан мыслью Лейбница, и, подобно Лейбницу, он был математиком, философом и физиком. Всякая философия притязает на то, чтобы что-нибудь подвергнуть сомнению; что же подвергает сомнению Уайтхед? Он подвергает сомнению проблему того, что он называет категориальной схемой. Категориальная схема – это что? Уайтхед говорит нам в общем и целом, что категориальная схема классической мысли такова: субъект – атрибут, субстанция – атрибут. Однако вопрос о субстанции имеет минимальное значение. Ведь субстанцию вы можете понимать как угодно.
Важно задаваться вопросом не о том, являются ли вещи субстанциями. Подлинный вопрос таков: атрибут в каком смысле? А именно: следует ли мыслить субстанцию в зависимости от некоего атрибута, или же ее следует мыслить в зависимости от чего-нибудь другого? Иными словами, если субстанция есть субъект некоего предиката или предикатов, то сводим ли предикат к атрибуту типа «небо голубое». Вы мне скажете, что это – не фундаментально новая проблема, но, некоторым образом, она нова; это крик Уайтхеда. Этот крик раздается во всех его произведениях: нет, предикат несводим ни к какому атрибуту. А почему? Потому что предикат есть событие.
Основополагающее понятие – понятие события. И вот, я думаю, этот крик звучит в истории философии в третий раз и, вероятно, всякий раз он звучит по-новому: все есть событие. Вы мне скажете: нет, не все есть событие, так как событие – это предикат. Пока что отметим: всё есть событие, потому что субъект есть некоторое приключение, которое возникает лишь в событии. Существует ли субъект, чье рождение не было бы событием? Всё есть событие. Я попробую описать это наскоро. Впервые это прозвучало у стоиков, и они противостояли Аристотелю как раз из-за Аристотелевой попытки определить субстанцию через атрибут. Они притязали на то, что можно было бы вполне назвать «маньеризмом», так как понятию атрибута они противопоставляли понятие способа бытия. Бытие-как, как-бытие. Атрибут – это то, что есть вещь, но «как» вещи, способ бытия – это совсем другое. И стоики создали первую великую теорию события. И вероятно, у логиков Средневековья было ее продолжение, можно было бы найти продолжение стоических традиций, однако потребовалось дожидаться уйму времени, чтобы такого рода крик раздался снова: всё есть событие!
Вот это я и попытался показать с самого начала, а именно – это Лейбниц, и никакого серьезного противоречия здесь нет… Я говорю, что результат наших предыдущих исследований состоит в том, что нет худшей ошибки относительно Лейбница, нежели понимать включение предиката в субъект так, как если бы предикат был атрибутом. А предикат далеко не является атрибутом; Лейбниц непрестанно отрицает то, что предикат есть атрибут, предикат для него есть отношение, или, как он еще буквально говорит в «Рассуждении о метафизике»: событие – предикат, или событие. «Или», и невозможно сказать лучше; так сказано в «Рассуждении о метафизике».
Отсюда мне кажется особенно глупым рассуждать о том, как Лейбниц может учитывать отношения: ведь сказано, что он располагает предикат в субъекте. И он не только учитывает отношения, но ему не составляет ни малейшего труда учесть отношения – по той простой причине, что то, что он называет предикатом, есть отношение, есть событие.
Мы уже немного разбирали, как Лейбниц учитывает отношения, но оставим это в стороне. Вполне уместно дождаться рассмотрения того, что эта теория отношений не составляет для него особой проблемы. Это составляет проблему только с точки зрения «фальшивого» Лейбница, когда читатель полагал, будто предикат для Лейбница и есть атрибут. Вот в этот-то момент мы, по существу, и говорили о том, как получается, что отношение может быть включено в субъект. Но то, что включено в субъект, суть события, а по определению – как очень хорошо говорит Лейбниц – события суть отношения к существованию. И здесь необходимо всерьез отнестись к слову «отношение». Всё есть событие, по крайней мере, все предикаты, суть отношения. И вот в третий раз раздается крик «всё есть событие», теперь у Уайтхеда.
Всё есть событие, всё, включая великую пирамиду, говорит Уайтхед. Даже с точки зрения стиля это весьма по-лейбнициански.
В общем и целом считается, что событие есть категория весьма особенных вещей: например, я выхожу на улицу и попадаю под автобус. Это – событие. Но великая пирамида – нет, это не событие.
Точнее формулируя, я бы сказал: ах да, построение великой пирамиды есть событие, но не сама великая пирамида. Стул – это не событие, это вещь. Уайтхед же говорил, что и стул есть событие, а не только изготовление стула. Великая пирамида есть событие. Это очень важно для понимания того, как оно возможно, выражение «все есть событие». В чем же великая пирамида может быть событием? Я перескакиваю к Лейбницу, и я хотел бы все время перескакивать от Лейбница к Уайтхеду и от Уайтхеда к Лейбницу.
Мы исходили из известных детерминаций, сопряженных с Адамом. Он находился в саду, и он грешил, совершал грех. Грешить – это, очевидно, событие, это входит в то, что все называют событием. Но и сам сад точно так же – событие. Цветок – это событие. Ладно, ну и что? Потому ли это, что цветок растет? Потому ли, что возникает? Но ведь он, цветок, растет непрестанно. И как только он перестанет расти, он будет непрестанно вянуть. Сам ли цветок в каждое мгновение его длительности я должен называть событием? А стул? Стул есть событие, а не только изготовление стула. Так в чем же великая пирамида есть событие?
Потому что она длится, к примеру, пять минут. Поскольку пирамида длится в течение пяти минут, она есть событие. Поскольку же она длится другие пять минут, она есть другое событие. Я могу объединить два этих события, сказав: она длится десять минут. Всякая вещь – скажет Уайтхед – есть прохождение природы. По-английски «прохождение природы» – «passage of nature». Немного поправим, чтобы вернуться к Лейбницу: всякая вещь есть прохождение Бога. Эти утверждения строго подобны друг другу. Всякая вещь есть прохождение природы. Великая пирамида есть событие, и даже бесконечное множество событий. В чем же состоит событие? Буквально: всякая вещь есть пляска электронов, или же всякая вещь есть некая вариация электромагнитного поля. Вот так мы очень осторожно ступаем на территорию физики.
К примеру, событие, коим является жизнь природы в великой пирамиде, здесь и сегодня. Может быть, необходимо предчувствовать, что существует не одна великая пирамида, но, может быть, существуют две великие пирамиды. Это то, что Лейбниц говорит в тексте… Но не будем торопиться. Пока примем все как есть. Вот так. Не существует вещей, существуют лишь события, всё есть событие. Событие есть опора бесконечного количества процессов, процессов субъективации, процессов индивидуации, рационализации. Всего что хотите. Субъекты рождаются, рациональности, индивидуальности вырисовываются, но все это в событиях. Всё есть событие, но необходима классифкация событий. Например, как следовало бы сформулировать проблему свободы в терминах событий? Существует различие между событиями, каким подвергается субъект, и теми, какие производит сам субъект, если предположить, что я знаю, что такое субъект. Что означает «производить событие».
[Конец пленки.]
[Последняя часть лекции сильно повреждена, и смысл ее неясен.]
Лекция 6
Решето и бесконечность. Сопоставление Уайтхед – Лейбниц
(17.03.1987)
Чего мы ожидаем от этого сопоставления Уайтхеда с Лейбницем? Конечно, Уайтхед – великий философ, подвергшийся влиянию Лейбница. Но то, чего мы сейчас ожидаем, не просто сравнение, и в той мере, в какой Уайтхед является великим философом, он дает нам прояснение Лейбница, которое может сослужить нам важнейшую службу. И, как минимум, мы знаем, в каком направлении это может послужить и послужит нам. Это напоминает тот крик, на котором основана вся философия Уайтхеда, а именно: всё есть событие. Всё есть событие – что это означает? Это значит, что я готов перевернуть так называемую категориальную схему «субъект – атрибут». Это – переворачивание схемы «субъект – атрибут» типа: небо – голубое. Вы мне скажете, что Уайтхед не был первым, кто перевернул ее. Ну да, мы как раз рады тому, что он это сделал не первым. Ведь то, что он был вторым, означает для нас что? Что Лейбниц, возможно, был первым. А я говорил вам, что искажения смысла встречаются с самого начала. Когда вы начали читать произведение великой мысли или воспринимать великое произведение искусства, трудности идут вначале, а впоследствии все идет хорошо. Именно поначалу искажения смысла поджидают вас как своего рода крабы, которые готовы схватить вас, а эти искажения никогда не бывают по нашей вине, над нами тяготеет целая традиция, это все, что нам сказали, это все, во что нас заставили верить. Необходимо отделаться от целой системы суждений, если мы хотим установить непосредственные отношения с великим произведением. А ведь я говорил вам, что для всякого понимания Лейбница не было ничего пагубнее, чем идея, что великому тезису Лейбница «всякий предикат содержится в субъекте» надо следовать буквально, и вдобавок, что эта идея подразумевает схему «субъект есть атрибут». Мы рассмотрели, как многим представлялось само собой разумеющимся, что включение предиката в субъект у Лейбница означало и подразумевало сведение всякого суждения к суждению атрибуции. И что если Лейбниц говорил нам: «Предикат – в субъекте», то это означало, что пропозиции были типа «небо – голубое», то есть типа суждения атрибуции. И я говорил вам, что если мы исходим из «наивного» прочтения Лейбница, то мы всё это забываем, мы забываем всё, что нам сказали – и это настоящий сюрприз: мы догадываемся как раз о чем-то противоположном. И я цитировал текст «Рассуждение о метафизике», где Лейбниц говорит: предикат, или событие. Итак, то, что имеется в субъекте, а именно предикат, не есть атрибут. И более того, мы ничего не поймем в философии Лейбница, если не увидим, что во всех своих произведениях он непрестанно рвет с категориальной схемой «субъект – атрибут», и что категориальная схема «субъект – атрибут», наоборот, присуща Декарту. И что если Лейбниц до такой степени антикартезианец, то это потому, что он отказывается от идеи, что суждение есть суждение атрибуции. Именно это Лейбниц имеет в виду, говоря нам, что предикат – в субъекте, и когда он говорит нам, что предикат в субъекте, то это отнюдь не означает, что суждение есть суждение атрибуции, это означает совершенно противоположное. Мы видели это с самого начала. Потому-то я говорю, что уже у Лейбница возникает великое утверждение: всё есть событие! Существуют только события. Всё есть событие. Или, скорее: нет объекта, нет субъекта, как мы увидим. Сами формы объекта, сами формы субъекта проистекают из события как составной части реальности. Реальное состоит из событий. Но ведь событие не атрибут, это предикат, а это значит, что событие есть то, о чем говорят.
Предикат означает только одно: то, о чем говорят. То, о чем говорят, не есть атрибут, это – событие. Всё есть событие. Коль скоро это так, будем исходить из простейшего, из какого угодно события. И здесь-то нас и поджидает Уайтхед. Еще раз: будем исходить не из атрибуции типа «небо – голубое», а из события типа «сегодня вечером – концерт». Но ведь событие есть то, на что указывает Уайтхед, – вы видите, до какой степени смысл философии состоит в том, чтобы разработать чрезвычайно сложные концепты для разных крайне простых данных, данных всего мира. Но как раз они ускользнули бы, они никогда не манифестировались бы как данные, если бы они не были предъявлены в виде концептов. Если вы не построите относительно сложных концептов, как вы дадите понять, что событие, – не просто нечто происходящее, но что-то вроде капли реальности, что это – последняя данность реального? Почувствуйте, что это уже весьма своеобразный способ рассмотрения. Если вы говорите себе, что событие есть последняя данность реального, вы вынуждены смотреть на вещи иначе. Вы говорите себе: и тогда, вон в тот момент, я считал, что это был стол – данность реального, стол, который мне не поддается; пусть так. Но сам стол есть событие, великая пирамида есть событие – говорит нам Уайтхед. А в каком смысле? Не в смысле, что он был изготовлен в такой-то момент, нет. Стол – событие в том смысле, что он есть здесь и сейчас. Событие «стол» есть прохождение природы в таких-то пределах пространства. Природа проходит в таких-то пределах пространства. Это событие – стол. И протяженность стола в течение минуты, в течение двух часов нашей лекции – это событие. Природа проходит через стол. Это не вещь, это – событие. Вы скажете мне: зачем это говорить? Неважно, зачем это говорить! Не все ли равно, зачем это говорить?! Речь идет о том, чтобы узнать, прекрасно ли то, о чем говорят, и важно ли то, о чем говорят. Мы заранее об этом не знаем, этого невозможно знать заранее.
И тогда, исходя отсюда, это – актуальный случай, всё есть актуальный случай. Событие есть актуальный случай. Опять-таки: сегодня вечером будет концерт. Первой проблемой Уайтхеда была: но каковы же условия для возникновения события? Вы чувствуете, что это – весьма своеобразный мир, это – мир, где всегда появляется новое. События непрестанно появляются, и события всегда новые. Проблемой философии станет формирование новизны. Это очень важно, ведь существует столько философий, которые предъявляют себя как философии детерминации вечности. Когда мы покончим со всем этим, я буду почти готов перечислить все, что можно извлечь из вопроса «что такое философия?». В этот самый момент мы больше не будем говорить ни о Уайтхеде, ни о Лейбнице, но зато задумаемся над ними исходя из подобных вопросов. Но пока что мы до этого не добрались. Вы видите проблему: каковы условия для возникновения события? Это своего рода генезис актуального случая. И это было нашим предметом в последний раз; мы различаем четыре этапа. Вот первая проблема: генезис актуального случая. Вторая проблема: из чего состоит актуальный случай, или событие? Итак, не путайте условия возникновения актуального случая с составом актуального случая. Стоит мне узнать, в каких условиях производится событие, или актуальный случай, я еще должен буду задаться вопросом, из чего складывается событие, или актуальный случай. И я говорю вам, что если взять великие книги Уайтхеда, то об условиях актуального случая говорится не в его великой книге «Процесс и реальность», а в его прекрасной книге «Понятие природы». Мы видим, что Уайтхед различает в этом генезисе актуального случая четыре момента. Он исходит из хаоса, из хаоса-космоса, космоса в состоянии хаоса – и показывает он это как чистое дизъюнктивное разнообразие. Это – что угодно, это membra disjuncta{ Буквально: «разъятые члены» (лат.).}. Вторая инстанция – нечто, что функционирует как решето, которое Уайтхед иногда называет Эфиром; если я говорю «Эфир», то это слово, лишенное смысла; если я говорю «Эфир», имея в виду решето, то это его примечательным образом уточняет. Он также скажет: электромагнитное поле. И еще он скажет: это то, о чем Платон говорит нам в «Тимее» и что известно под платоновским термином Хора{ Хора буквально по-гречески означает «страна». У Платона – «вместилище», «не бытие и не небытие».}. Хора… И у Платона она предстает как решето. И вот это – вторая инстанция. Третья инстанция такова: из-за воздействия решета на дизъюнктивное разнообразие получаются бесконечные ряды. Хаос организован в бесконечные ряды, и эти бесконечные ряды вступают в отношения между целым и частями. Такова вибрация. В чем вибрация вступает в отношения между целым и частями? Удовольствуемся совсем простыми вещами. Уайтхед – как математик и как физик – идет гораздо дальше, но мы довольствуемся простейшим: тем, что вибрация неотделима от гармоник, а гармоники – это подмножества. Частота вибрации неотделима от гармоник, так что мы будем говорить также о гармониках звука, о гармониках цвета. Коль скоро имеются вибрации, имеются и гармоники – иными словами, вибрация основополагающим образом вступает в отношения между целым и частями, то есть в бесконечные ряды. Итак, мы скажем, что решето воздействует на дизъюнктивное разнообразие, два воздействуют на единицу, чтобы получить три, то есть это бесконечные ряды, где нет последнего члена; я предполагаю, что там нет последней гармоники – ни гармоники цвета, ни гармоники звука. Итак, нет ни последнего члена, ни предела. Основополагающая вещь: в этих рядах нет предела, они не стремятся к пределу. Четвертый член, или четвертая инстанция: это не препятствует тому, что у данных вибраций есть внутренние характеристики. Например, вибрация, которая издает звук, учитывая наш организм, относится не к тому же типу, что вибрация, которая дает цвет. Все есть вибрация, у вибраций есть внутренние характеристики. Мы видели, к примеру, что вибрации, предназначенные быть звуковыми, – я действительно говорю «предназначенные быть звуковыми», потому что у меня еще нет средств порождать чувственные качества; вибрации, предназначенные быть звуковыми, имеют внутренние свойства, которые таковы (я говорю все, что приходит мне на ум): длительность, высота, интенсивность, тембр. Вы видите, что это весьма отличается от гармоник, это другая стадия. Это внутренние свойства вибрации, характеристики вибрации. Вибрация другого типа, например, предназначенная давать цвет, будет иметь внутренние свойства, каковыми будут: насыщенность, окрашенность, валёр, протяженность. Протяженность цвета… Я говорю: сами вибрации вступают в отношения с гармониками, то есть входят в отношения целого и частей, но вот их внутренние свойства формируют ряды или, скорее, меру… – вы скажете мне, что все это движется слишком быстро, потому что необходимо ввести обоснование меры. Почему внутренние характеристики вибрации, по сути, подчиняются некоей мере? Необходим генезис меры. Согласен, необходим генезис меры! Я пропускаю его: невозможно сделать все. С другой стороны, Уайтхед его не совершает, но можно было бы его и совершить. Я чувствую, что в этой перспективе почти способен описать генезис меры. В любом случае, вы мне доверяете. Я говорю, что мера внутренних свойств образует ряды – не того же типа, что и предшествующие. Это сходящиеся ряды, стремящиеся к пределу. Я вижу уже не бесконечные ряды, члены которых до бесконечности вступают в отношения целого и частей; без последнего члена и без предела я оказываюсь перед новым типом рядов, а именно: мера внутренних свойств вибрации формирует сходящиеся ряды, которые стремятся к пределам. Исходя из этого, дела Уайтхеда идут хорошо: вам достаточно предположить конъюнкцию нескольких сходящихся рядов, где каждый стремится к пределу. К примеру, я упомянул бы высоту и интенсивность. Два сходящихся ряда стремятся к пределам. Так, у вас есть конъюнкция, конъюнкция как минимум двух рядов, двух сходящихся рядов, стремящихся к пределам: актуальный случай определен. Вы просто добавили идею конъюнкции сходящихся рядов к идее конвергенции, чтобы получить определение события, и вы по меньшей мере его получили.
Что же такое событие? Попытаемся взойти по нашей цепочке на самый верх: что такое событие – на этом уровне существует великолепное научно-философское определение, так как здесь невозможно найти различие между наукой и философией. Я бы сказал, что событие есть конъюнкция сходящихся рядов, когда каждый ряд стремится к пределу и каждый характеризует некую вибрацию, то есть бесконечный ряд, вступающий в отношения между целым и частями. Я продолжу восходить – под влиянием чего-то, действующего, подобно решету, по отношению к дизъюнктивному разнообразию на входе. У меня есть превосходное определение события, и большего не требуется. Если меня спрашивают, что такое событие, я так и отвечаю. А если мне говорят, что оно ничего не означает, то я отвечаю: ладно, привет. И до свидания. Не надо пытаться обосновывать его. Вот так.
Я говорю быстро, а вам надо хорошенько следовать за мной, так как я собираюсь перепрыгивать с одной темы на другую. Первый пункт: вы видите сразу же, чего я хочу; дело не в том, чтобы я академическим способом искал, есть ли у Лейбница эквивалент идеям Уайтхеда; я хотел бы отправляться от более «брутального» вопроса. Эта схема напоминает маяк, и в его свете вырисовывается нечто существенное у Лейбница, скрытое от нас в толще традиции. Как если бы Уайтхед собственной концепцией традиции снял несколько бесполезных слоев, скрывавших идеи Лейбница. И моим ответом в последний раз уже было «да». Перечитаем Лейбница. Перечитаем Лейбница и настроимся на это: до какой степени – я не говорю «везде» и «всегда», – до какой степени в определенном количестве текстов он непрестанно возвращается к одной и той же теме, к теме изначального беспорядка. И это для нас хорошо, потому что мы сразу же скажем, что – в общем и целом – для Лейбница характерен порядок, а до этих текстов об изначальном беспорядке мы добрались слишком поздно. Уайтхед побуждает нас исходить из этого! Ведь во всех этих текстах Лейбниц прежде всего дает весьма конкретные характеристики данным состояниям изначального беспорядка. Я бы сказал вам, что он наделяет их двумя видами характеристик. Объективные характеристики и характеристики субъективные… Изначальный беспорядок вы можете воспринимать объективно и субъективно. Вы можете проделать самостоятельный опыт. Опять-таки – вы можете разбрасывать в воздухе листовки. И вот, в одном тексте Лейбница содержится намек на это. Или же перед вами пули на поле битвы. Тысяча, десять тысяч гильз, разбросанных на поле боя. Возможно, некоторые из вас помнят об одном из прекраснейших текстов Лоуренса Аравийского. В тот вечер битвы с турками, он находится в пустыне, переодетый в араба. И потом на поле битвы лежат трупы, и спускается ночь, а эти трупы, как он считает, лежат в беспорядке. Есть место, где лежат четыре трупа, место, где лежат два трупа, место, где лежит только один. И вот этот странный человек принимается нагромождать трупы друг на друга. Он складывает трупы регулярными штабелями. Это довольно смутный текст, у Лоуренса Аравийского мы чувствуем темную душу. Мы чувствуем даже какие-то невысказанные цели, но факт состоит в том, что он принимается складывать трупы на поле битвы – подобно тому, как другой приглашает нас складывать гильзы в определенном порядке. Поистине это переход от одной стадии к другой, от изначального беспорядка к чему-то другому. Складывать гильзы в порядке – что бы это значило? Это могло бы означать, что их теперь надо считать не по одной – говорит нам Лейбниц, – то есть что вы выставили их в ряд. Существует лишь один способ выйти из хаоса: выстраивать ряды. Ряд – это первое слово после хаоса, это первое бормотание. Гомбрович пишет очень интересный роман, который называется «Космос», где он, будучи романистом, предпринимает ту же попытку. Космос – это чистый беспорядок, это хаос; как выйти из хаоса?
Вопрос: [не слышно].
Жиль Делёз: Итак, почитайте роман Гомбровича, он великолепен. Как организуются ряды исходя из хаоса: прежде всего, существуют два необычных ряда, которые организуются. Ряд повешенных животных: повешенный воробей, повешенный цыпленок. Это ряд повешений. И потом ряд ртов, один ряд – рты, другой ряд – цыплята, как они соотносятся между собой, как они постепенно прочерчивают порядок в хаосе. Это любопытный роман, но нам все-таки следует остановиться, поскольку мы заняты не им. Однако у Лейбница вы видите все эти темы: внесение порядка в изначальный беспорядок. И вы понимаете, что если он настолько интересуется подсчетом шансов, исчислением вероятностей, то это может произойти лишь с точки зрения упомянутой проблемы. Но субъективные состояния, то есть субъективный эквивалент нашей проблемы, не менее интересны. Я бы сказал вам, что Лейбниц – это автор, который вводит в философию, если угодно, нечто вроде основополагающей аффективной тональности… У всякой философии есть основополагающие аффективные тональности. Я бы сказал вам, что Декарт – это человек подозрения, в высшей степени человек подозрения. Такова его аффективная тональность – подозрение. И тогда это позволяет всё, это позволяет производить всевозможные глупейшие интерпретации – но я полагаю, что прежде всего следует найти аффективную тональность; и потом, то, что превращает психоанализ в аффективную тональность, совершенно лишено интереса. Скорее следует видеть то, чем становится психоанализ, когда он фигурирует среди множества философских концептов. И вот у Декарта это становится сомнением, это становится прямо-таки методом, основанным на достоверности. Как получить условия, при которых я уверен, что меня не обманывают? Такова проблема Декарта: меня обманывают. Это крики. И я говорю вам, что вы не можете понять философию, если не вложите в нее соответствующие крики. Философы – это люди, которые кричат, но просто они кричат концептами. Меня обманывают, меня обманывают! Это его штуковина, Декарта! Я не собираюсь ему говорить, что он неправ: нет, тебя не обманывают! Прежде всего, больше ничего не надо говорить. Вы понимаете, именно из-за этого я в который уже раз заявляю вам, что философия не имеет ничего общего с дискуссией.
Вы представляете себе, если мы начинаем говорить о Декарте…
[Конец пленки.]
…А что касается характеристик вибраций, или, скорее, что касается меры характеристик вибраций. Ну вот. Я хотел бы прокомментировать это подробнее, но говорю себе, что мы увязнем в материале и потому не стоит этого делать.
Как бы там ни было, я говорю: представьте себе решето как настоящую машину, в том смысле, в каком Лейбниц говорил нам: это Машина природы. В том смысле, в каком Лейбниц говорил нам: вся природа есть машина, но это такой тип машины, о котором у нас нет ни малейшего представления; мы, люди, изготовляем лишь искусственные машины, ибо истинная машина, машина природы, это истинная природа, которая является машиной. А вот мы настоящих машин делать не умеем. Истинная машина есть та машина, все детали которой тоже машины, то есть это бесконечная машина. А вот мы в наших машинах, пройдя определенное количество операций, обязательно наткнемся на следующее: это кусок железа. Ведь в наших машинах есть детали, которые не являются машинами до бесконечности. Машины природы – это машины то бесконечности. Решето – это тип машины, являющейся машиной до бесконечности. Я вполне готов утверждать, чт происходит у Лейбница после просеивания сквозь решето. Но это – как я полагаю – благодаря Уайтхеду, так как я нахожу у Лейбница два уровня, которые соответствуют двум рядам Уайтхеда. Верно ли это или же я навязываю текстам свою интерпретацию? Это испытание. Можно немного навязывать, но у нас нет права навязывать много. Как бы я тут выразился? Это вопрос хорошего вкуса в философии. Существование хорошего вкуса в философии формулируется очень просто: мы не можем заставлять говорить что угодно кого угодно. И я полагаю, что тот же самый хороший вкус годится для всякой интерпретации. Всякая интерпретация – дело хорошего вкуса. Если вы не будете развивать хороший вкус, вы будете впадать в отвратительную вульгарность, и еще хуже: это будет вульгарность мысли. И тогда вы можете сказать мне: нет, ты выходишь за рамки хорошего вкуса; но вы также можете мне сказать: ты остался в рамках хорошего вкуса. Я убежден, что остаюсь в рамках хорошего вкуса, то есть в рамках в высшей степени неукоснительной истины, когда говорю: взгляните на тексты Лейбница. Очевидно, они разбросаны. Тут уж ничего не поделаешь. Я отмечаю первую разновидность текстов. Тексты, где Лейбниц явно говорит нам о бесконечных рядах, которые характеризуются тем, что они – или их члены – вступают в отношения между целым и частями. Существует много текстов Лейбница об этих отношениях «целое – части» и о вариациях этих отношений. Эти ряды, вступающие в отношение «целое – части», мы назовем экстензиями. Согласно Лейбницу, это будут экстензии. Означает ли это протяженность? И да, и нет. Протяженность и есть то, что Лейбниц переводит как extensio, но у extensio как бы два смысла: extensio – это то протяженность, tendue, то нечто, частью чего протяженность является, то есть то, что вступает в отношения между целым и частями. Но вы скажете мне: ну что там еще, кроме протяженности (tendue)? Это важно для будущего, вы вскоре увидите. Что еще, кроме протяженности, вступает в отношения между целым и частями? Все что хотите: число, время. Много разных вещей. Впрочем, если искать, то мы их найдем. В любом случае, число и время – это примеры, которые Лейбниц приводит тщательнее всего. Это семейство экстензий. Я бы сказал, что это бесконечные ряды; более того, прибавим сюда материю. В какой форме? Материю не в какой угодно форме. Материю как нечто делимое до бесконечности. Не существует наименьшей части материи, не существует наибольшего целого материи. Всегда будет иметься некое большее целое, всегда будет иметься некая меньшая часть.
Все, что вступает в отношения между целым и частями, образует бесконечный ряд, в котором нет ни последнего члена, ни предела.
Я говорю, что всякое рациональное число может выражаться в таком ряду. Экстензии – это всё, чьим правилом является (я говорю по-латыни, но вины моей здесь нет) partes extra partes, то есть экстериорность частей: одни части являются внешними по отношению к другим. И так до бесконечности. Если вы возьмете небольшой кусочек материи – сколь угодно малый, – вы сможете его делить еще, partes extra partes. Вот так. Вы найдете много подобного у Лейбница. И анализ отношений «целое – части»; более того, Лейбниц придает им такую важность, что считает, будто основные пропозиции об отношениях «целое – части» являются аксиомами, но, кроме того, эти аксиомы являются доказуемыми. Пробег здесь всегда бесконечен. Можно было бы посвятить целую лекцию этой проблеме экстензий. Мы движемся быстро, но мы отметили этот тип рядов, являющийся, на мой взгляд, совершенно непротиворечивой областью, для которой характерно единство. И затем, в других текстах, мы видим у Лейбница еще один тип ряда, совершенно иной. И беспокоит меня то, что, очевидно, он не может сделать все, никто не может сделать все. А значит, он не создал теорию различия между двумя этими типами рядов, ему необходимо было сделать столько всего остального. Иной тип рядов – что это? Я группирую тексты. Первая разновидность текстов: Лейбниц говорит нам, что иррациональные числа – нечто иное, нежели числа рациональные. Вы помните, что рациональные числа – это совокупность целых чисел и дробей. Иррациональные числа – это числа, выражающие отношения между двумя несоизмеримыми величинами. Дробь: вам не следует впадать в абсурд, полагая, будто дробь, несводимая к целому числу, есть то же самое, что иррациональное число; вы помните: ничего подобного. Если вы говорите: две седьмых, два на семь – это дробь, несводимая к целым числам. Стало быть, это бесконечный ряд, но экстенсивный бесконечный ряд, того типа, о котором мы только что говорили. Почему так? Потому, что, хотя у вас и две седьмых, у вас все-таки еще и две стороны, числитель и знаменатель, общая величина. Два количества этой величины в числителе и семь количеств этой же величины в знаменателе. Дробь, даже несводимая, означает отношения двух вполне соизмеримых количеств, потому что у вас два x такого количества в числителе и семь x такого количества в знаменателе. Наоборот, иррациональное число означает отношения оличеств, у которых нет общей меры, то есть вы не можете выразить его в дробной форме, так как дробная форма имеет в виду общую меру. Итак, я предполагаю, что это вполне понятно.
Вот первая разновидность текстов: иррациональные числа имеют в виду другой тип рядов. Что это значит? Они являются пределами некоего сходящегося ряда. И его надо попросту найти. – это иррациональное число, знаменитое число иррациональное. В эпоху Лейбница было нечто вроде конкурса по нахождению числа . Я полагаю, что Лейбниц первым нашел, в какой ряд поставить , пределом какого ряда оно является. Лейбниц найдет его в форме , деленного на четыре, причем четыре – предел бесконечного сходящегося ряда. Необходимо будет подождать довольно долго, – я полагаю, весь XVIII век, – чтобы это было доказано. Лейбниц же приводит формулу без доказательства. Было ли у него доказательство – этого я не знаю… Математики работают быстро, не надо полагать, что в своих черновиках они работают словно в книге, иногда они записывают озарения, а потом требуется двадцать лет для того, чтобы задаться вопросом, как они к ним пришли, как они их нашли. Потребуется дождаться математика по имени Ламберт{ Имеется в виду швейцарский математик Иоганн Генрих Ламберт (1728–1777).}, жившего в середине XVIII века, для доказательства того, что , деленное на четыре, является пределом бесконечного сходящегося ряда и что это действительно бесконечный сходящийся ряд. Таков первый случай. Второй случай: у нас есть вещи, имеющие внутренние характеристики. И эти внутренние характеристики – их реквизиты. Существенный лейбницианский термин: реквизиты. Эти реквизиты входят в сходящиеся ряды, стремящиеся к неким пределам. Эти сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам, да, я полагаю, что это нечто фундаментальное, это совершенно верно, это вполне удовлетворительно… Вы можете придумать слово. Поупражняемся в терминологии. Я только что назвал свой первый ряд – бесконечные ряды, у которых нет последнего члена и нет предела. Они вступают в отношения «целое – части», и поэтому совершенно обоснованно назвать их экстензиями. Это немного странно, потому что вот в этот момент я буду вынужден сказать: внимание, экстензия в обычном смысле слова есть лишь частный случай экстензий, а потом я сталкиваюсь с рядом нового типа: сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам. Внезапно я говорю: у меня нет выбора, мне необходимо слово. Слово мне необходимо для удобства, а не потому, что я умничаю. Я дал названия своим первым рядам ради удобства, в противном случае никто ничего не понял бы. Поэтому акт придумывания термина в философии – это подлинная поэзия философии. Это совершенно необходимо. И тогда я делаю выбор: например, существует расхожее слово, которым я собираюсь воспользоваться. В этот момент я заимствую его из повседневного языка и преподношу вам именно в этом смысле – совершенно так же, как музыкант может заимствовать шум или же как живописец может заимствовать оттенок или цвет и буквально перенести его на полотно. Здесь я вырываю слово из повседневного языка, и я хочу вырвать слово, и потом, если оно сопротивляется, я тяну его. Или же, если этого слова нет в языке, понадобится, чтобы я создал его. И ужасно глупо говорить, что философы изготовляют сложные слова ради удовольствия. Да, ничтожные так и делают. Но мы никогда не судили о какой-либо дисциплине по ничтожествам. Великие никогда так не поступали; когда великие создают слово, то вначале в нем – поэтическое великолепие. Вообразите! Поскольку мы привык ли к философским словам, именно поэтому мы больше не понимаем философов, но вообразите силу слова «монада»! И ты, и я – монады. Вот это фантастично. Достаточно восстановить свежесть слова, чтобы обрести поэзию Лейбница и его силу, то есть его истину. Но ведь мне необходимо слово, и стыдно, что вы для меня его еще не нашли, и вы догадываетесь, что это именно то слово, которое нашел Лейбниц; здесь есть лишь одно слово, и у меня нет выбора: этот второй ряд необходимо назвать intensio. Это интензии. По-латыни. Аналогично тому как бесконечные ряды, организовавшиеся как «целое – части», образовывали экстензии, бесконечные сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам, образуют интензии. То есть их членами будут уже степени, а не части. И на этом уровне я собираюсь наметить возможность теории интенсивностей, которая принимает эстафету от предыдущей теории – экстенсивностей. На самом деле внутренние характеристики – они не у Уайтхеда, они у Лейбница, но все это так друг друга дополняет! Внутренние характеристики, которые определяют и которые составляют сходящиеся ряды, стремящиеся к пределам, или которые входят в эти ряды, – таковы интенсивности. Я бы сказал, что это выглядит странно, но здесь у меня уже нет выбора. Необходимо будет, чтобы я показал, что в том, что касается звука, даже длительность есть интенсивность, и тем более интенсивность звука в собственном смысле; даже высота есть интенсивность, даже тембр. И фактически каждое из этих внутренних свойств входит в сходящиеся ряды. Что это означает в сериальной музыке, когда мы воздаем хвалу Булезу за то, что он ввел ряд во все, включая тембры? В сериализме в музыке все не просто так. Булез, как сообщают нам во всех музыкальных словарях, сделал даже тембр сериальным. Здесь можно и забыть этот слишком модернистский тезис, который нам ни к чему. Дело в том, что каждая из этих внутренних характеристик потенциально представляет собой ряд, сходящийся ряд, стремящийся к пределам. Это статус реквизитов. Я бы сказал, что высота, длительность, интенсивность и тембр – это реквизиты звука, и это будет очень по-лейбнициански. Итак, оттенок, длительность, интенсивность и тембры – это реквизиты цвета. Более обобщенно я бы сказал, что это протяженность (вы мне скажете: говорить о протяженности ты не имеешь права). Так вот, если бы я имел право. Только что я говорил о протяженности как экстензии. К счастью, латынь обладает бльшим количеством удобств в этом отношении; теперь, когда Лейбниц говорит нам, что характеристикой материи является протяженное, это уже не протяженность, это протяженное.
Это уже не экстензия, и это могло бы быть очень неудобным для нас. Слава богу, Лейбниц очень старается не смешивать extensum с экстензией… И все-таки в некоторых текстах смешивает их. К чему это может привести? Разумеется, в некоторых текстах он смешивает их, когда его задача – не различать их. К примеру, когда Лейбниц берет как группу две разновидности рядов, для него нет никакого смысла устанавливать различия между ними. Зато когда он берет ряд второго типа в его специфичности – здесь ему необходимо провести различие, и он отметит, что extensum не следует путать с extensio. Итак, я бы сказал, что материя имеет много внутренних характеристик; не существует такой вещи, у которой был бы один-единственный реквизит. Для Лейбница характерен некий глубинный плюрализм. А реквизитом материи служит extensum, то есть протяженное. Но также и сопротивление, но еще и тяжесть, и, почему бы не продолжить, еще и густота. Все это имеет границы. Таковы внутренние характеристики, или пределы, бесконечных сходящихся рядов. Но еще и активная сила. И возможно, вы сразу поймете, почему Лейбница так отталкивала картезианская идея о том, что протяженность – в общем и целом – может быть субстанцией. Ведь протяженность для Лейбница имела столько смысла – и то это была экстензия, то это был extensum, то это была некая экстенсивность, то некий экстенсив, и ни в одном из возможных смыслов слова «протяженность» не было того, из чего можно было бы составить субстанцию. Это была либо просто extensio, бесконечный ряд, либо же некий реквизит материи. Материи ли? Нет, следовало бы сказать «почти что материи», так как субъект всех реквизитов, всех этих рядов есть то реальное, что имеется в материи. Не надо удивляться, что спустя некоторое время Кант определяет именно интенсивность в ее отношениях с тем реальным, которое есть в материи. Ибо – особенно для Лейбница – в материи не все реально. Но в той точке, где мы находимся, я могу сказать: всякая реальность располагается в материи, или входит в бесконечный сходящийся ряд, который стремится к пределу, или, скорее, входит в несколько бесконечных схдящихся рядов, которые стремятся к пределам, и эти пределы – реквизиты вещи.
Вы помните, мы занимались этим начиная с первого триместра. Мы видели – и мы очень наскоро анализировали – понятие реквизита. Ладно.
Я хотел бы закончить по этому пункту. У вас уже есть кое-какое представление о конъюнкции. На реальном уровне материи вы имеете не только бесконечные сходящиеся ряды, которые стремятся к пределам, но вы имеете и своего рода конъюнкцию этих рядов на уровне реального, в материи, потому что у реального в материи есть несколько внутренних характеристик. Не существует такой реальности, которая имела бы одну-единственную характеристику. Почувствуйте, что это будет существенным для теории субстанции и для ее оппозиции по отношению к Декарту. Ибо у Декарта субстанция имеет один-единственный атрибут и определяется этим атрибутом. Вы отдаете себе отчет, насколько это было подозрительно: два атрибута – это уж слишком, это могло бы обмануть Декарта. Зато уж Лейбницу-то, наоборот, казалась комичной субстанция, у которой был один-единственный атрибут. Для него это гротескно. Во всяком случае, в мире нет ничего, у чего не было бы множества реквизитов. Ну ладно… Чему это соответствует? Уже есть конъюнкция. Добавлю, что Лейбниц превосходит Уайтхеда. Это любопытно и озадачивает. Лейбниц добавляет третью разновидность рядов. Чем больше будет рядов, тем лучше. Вспомните, что эта третья разновидность рядов возникает, когда мы добираемся до монад, то есть до возможных существований. Всякая монада определяется через некий сходящийся ряд, то есть через некую часть мира. Но здесь – сходящиеся ряды, и одни продолжаются в других, формируя совозможный мир. На сей раз это уже не конъюнкция нескольких сходящихся рядов, через которые проходит некая реальность, но продолжение сходящихся рядов друг в друге, что соответствует нескольким реальностям. Все это приводит нас к одному и тому же результату. Что такое эти два типа рядов у Лейбница (я оставляю в стороне третий тип, так как мы его видели выше, и я к нему не вернусь) – экстенсивности и интенсивности? Я полагаю, что вам необходимо напомнить: когда мы проанализировали то, что, по Лейбницу, происходит в разуме Бога, мы увидели, что разум Бога мыслит простыми понятиями. И существует три типа простых понятий. Это существенно для логики Лейбница. Первый тип простых понятий – это были формы, бесконечные сами по себе, то есть формы, которые я могу мыслить как бесконечные сами по себе. Это были абсолютно простые понятия, или те, которые Лейбниц называл «тождественными». И не то чтобы одно было тождественно другому, но каждое из этих понятий было тождественным самому себе. Они отсылали к первому типу бесконечного, к бесконечному самому по себе. Это было «бесконечное-в-себе», тождественное, простые формы, первый уровень разума Бога. Второй уровень, как мы видели, это определимые. Это были еще и простые: относительно простые понятия. Как он получился из предыдущего? У меня лишь один возможный ответ: дело в том, что это не одно и то же бесконечное. Абсолютно простые – это предикаты Бога, то есть бесконечного самого по себе. Определимые, относительно простые – иное дело. Они отсылают к другому бесконечному. Что такое это второе бесконечное? Я говорил вам десять тысяч раз, что вы совершенно ничего не поймете в мысли XVII века, если не увидите, что это мысль о разных порядках бесконечного. Будь то Паскаль, Спиноза или Лейбниц – вот она, проблема XVII века (я не говорю, что она единственная): различие между порядками бесконечного. Это уже другое бесконечное – определимые. К какому бесконечному они отсылают? К бесконечному второго порядка. Что это такое? Это уже не само по себе бесконечное, но бесконечное по своей причине, то есть то, что бесконечно именно по причине, от которой оно зависит. Полагаю, я не могу здесь пытаться получить обоснование: вам надо тут поразмыслить – как тем, кого интересует этот аспект мысли Лейбница; я полагаю, что это в точности соответствует действительности: что есть бесконечное в силу причины? Это ряд, являющийся бесконечным в той мере, в какой все его члены до бесконечности вступают в отношения целого и частей. Бесконечное-по-причине находит свой статус в рядах, до бесконечности вступающих в отношения «целое – части». Итак, это соответствовало бы первому ряду, ряду экстенсивностей. И потом: существуют еще относительно более простые понятия. Это уже не определимые, это реквизиты, или пределы. Вот каковы три основные зоны ума Бога. И что же это такое? Это соответствует третьему уровню бесконечного. Это – бесконечное сходящихся рядов, которые стремятся к пределам.
Это бесконечное могло бы предоставить нам точку опоры. Список на этом не заканчивается. Мы увидим (впрочем, это произойдет в самом конце нашей работы), что существует гораздо больше типов бесконечного. Таковы были три первых порядка бесконечного у Лейбница; у Лейбница всего три первых порядка бесконечного. Я бы хотел напомнить вам, что это надо сравнить со знаменитым седьмым письмом Спинозы, письмом к Луи Мейеру о бесконечном, где Спиноза различает три типа бесконечного, три порядка бесконечного. Как вы хотите понимать что бы то ни было во всех рассуждениях Паскаля о бесконечности, если вы кое-что не замените в его текстах, столь прекрасных, столь сравнимых… Я ощущаю, что со мной скоро произойдет кризис оцепенения. Я колеблюсь между картезианской реакцией, параноической реакцией, и шизофренической реакцией бегства. Если бы не было заграждений… Здесь мы попали на такой уровень, где сама идея истории, объекта, субъекта – все это не имеет никакого смысла. Я не могу найти им место, это как если бы вы сказали мне: в какой слой земли ты можешь положить такой-то камешек? Я бы сказал: это зависит от природы камешка. На уровне, где мы находимся, – объект, субъект, история, включая живопись, и я даже назвал бы звуки и цвета – все это не имеет абсолютно никакого смысла. Если я называю звук и цвет, то делаю это по аналогии, чтобы дать вам представление об этой истории хаоса. И дело не в том, что вы плохо понимаете, дело в том, что вы хотите расположить все на одном уровне. Это досадно для всякой философии, но это особенно досадно для философии Лейбница, которая оперирует очень четко определяемыми уровнями. Дело выглядит так, словно мы выходим из хаоса, чтобы добраться до события. Мы сделали это, не имея ничего, кроме идеи хаоса, двух разновидностей рядов, конъюнкции этих рядов, которые образуют событие. И все. Это черновик{ Здесь слово «bourr», которое можно понимать как «чучело, набитое трухой» или «мазня».}. Под черновиком я имею в виду нечто определенное, как мы говорим о живописи, о рисунке: это черновик. Если вы добавите что-нибудь еще – конец. У вас картины, на которых колоссальные пустые пространства; если вы что-нибудь добавите, картине конец{ Le tableau est foutu.}! Я бы сказал, что сколь бы значительными ни были пустоты, это был черновик. И тогда придется подождать – как обобщение, это великолепно. Мы добрались до события, но не собираемся здесь останавливаться. Я уже объяснил, из чего состоит событие, а здесь – совсем новая проблема.
Вопрос: [нрзб.].
Жиль Делёз: Каковы элементы события? Здесь мы увидим, как возникают новые понятия. Что такое слабая философия? Это философия, в которой немного концептов. Она имеет два-три концепта, и она подавляет все остальное на том же уровне. Но богатая философия, такая как философия Лейбница, обладает целой системой концептов, которые возникают в должные моменты. Проблема в том, что вы слишком торопитесь. Дело не в том, что у вас получается нечто абсурдное, а в том, что вы чересчур торопитесь. Так довольствуйтесь же уровнем, на котором вы находитесь! Если вы говорите «субъект и объект», то вы там и находитесь. Это слова, которые не могут иметь смысл на этом уровне. Мы собираемся произвести событие, словно каплю реальности. Для остального нет места. И тем более нет места для истории. Неужели у вас будет история? Конечно, будет все, что вы хотите. Впрочем, посмотрим. Иными словами, ничто не останавливается на событии. Все, что вы сказали, показывает, что вы хорошо все поняли, – но почему, если вы так хорошо поняли, вытак спешите? Бывают моменты, когда надо быть стремительным, и потом бывают моменты, когда надо быть медлительным в мысли. Бывают моменты, когда она скачет во весь опор, и потом бывают моменты, когда она еле тащится. Я не могу сказать, что моменты, когда она еле тащится, – наиболее богатые. Во всяком случае, мысль ритмизуется забавным способом, это похоже на музыку, вы получаете темп, очень-очень разнообразный, очень варьирующийся. И тогда, если вы захотите, чтобы понятия уровня 4 оказались на уровне 1, вы все перепутаете, сколь бы умными, сколь бы коварными вы ни были.
Вопрос: [нрзб.].
Жиль Делёз: Я скажу тебе, Контесс, что, если бы ты читал курс на ту же тему, ты провел бы его совершенно иначе. То, что я обсуждаю, – словечко, которое ты проронил: «то было бы глубже». Различие между тобой и мной – в том, что ты настаиваешь на сходствах между Лейбницем и Декартом. Я вполне допускаю, что это возможно и что это легитимно. А вот я настаиваю на радикальной оппозиции, это в равной степени возможно и тоже легитимно. Мне кажется, что в прошлом у нас была та же проблема со Спинозой. Когда ты говоришь: вот у меня немного глубже – здесь я могу обидеться, потому что не знаю, почему одно глубже другого. Я предпочитаю говорить, делая упор на том, что нечто столь же глубоко, сколь и поверхностно. Но я вовсе при этом не говорю, что ты неправ. Я лишь допускаю, что ставлю у Лейбница в привилегированное положение ту или иную проблему, а ты ставишь в привилегированное положение другие проблемы, чтобы поддержать свою точку зрения, и используешь другие тексты, которые ты найдешь для подтверждения своей позиции, я этого отнюдь не исключаю. Я говорю, что в моей схеме (впрочем, большинство из вас уже поняли это), отрицается, что Лейбниц и даже Спиноза входят – как ты говоришь – в ту же складку, что и Декарт. Моя единственная хитрость в том, что Декарт – человек Ренессанса, а не классик; он еще является философом Ренессанса. А вот то, что ты только что показал в своем кратком выступлении, есть средство и возможность сделать из Декарта не только классика, но и отца Лейбница и Спинозы. В каком-то смысле это было бы очень интересно, но в дискуссии так не поступают; было бы необходимо, чтобы ты прочел об этом курс, и я тоже, и тогда мы, наверное, догадались бы, что некоторые слушатели предпочитают тебя или меня. Но нет никакого сомнения, что то, что ты только что сказал и обрисовал, – схема, совершенно отличная от моей. Для меня Декарт не входит в тот классический мир, который я пытаюсь определить, и это для меня барочный мир, тогда как для тебя то, что ты называешь классическим миром, было бы уже не барочным миром, а миром, способным охватить Декарта, Спинозу и Лейбница. Но ты получишь свою интерпретацию не с теми же текстами, что и я. У тебя другие тексты. Но ведь я всегда говорил и повторяю вам, что не претендую на то, что моя интерпретация единственная возможная; разве я притязаю на то, что она лучшая? Конечно, отчасти притязаю, иначе я бы ее не предлагал, но это я говорю шепотом и вдобавок в лицо мне ударяет краска стыда, и поэтому я бы никогда не сказал этого публично. Итак, я говорю: все хорошо, все хорошо с момента, когда вы сами начинаете выносить суждения, то есть когда вы начинаете углубляться в тексты.
И все-таки вот третье бесконечное. У нас было бесконечное-в-себе, бесконечное-по-причине, и причина эта, как мне кажется, отсылала к экстензиям, поскольку они до бесконечности формировали отношения между целым и частями, – и потом, вот у нас бесконечные ряды, которые стремятся к пределу, и это – третье бесконечное. Если я возьму знаменитое письмо Спинозы о трех бесконечных, то первые два совпадают. Это – бесконечное-в-себе, то есть Бог и то, что Спиноза называет Его атрибутами. Бог и Его атрибуты… Второе бесконечное Спиноза называет бесконечным-по-причине. И потом Спиноза выделяет третье бесконечное. Посмотрите это письмо, оно прекрасно. Примечание: у нас есть пометки Лейбница на этом письме Спинозы, где Лейбниц все-таки скуп на комплименты, он боится Спинозы, словно чумы, так как проблема Лейбница прежде всего в том, чтобы его не приняли за философа имманентности. «Я добрый христианин, я ортодокс». Спиноза – враг до такой степени, что Лейбниц устраивал Спинозе всякие гнусные штуки. К счастью, Спиноза остался безразличным к ним. Лейбниц никогда не отличался большой ясностью. И вот, Лейбниц разражается рукописными комплиментами. По поводу третьего бесконечного Спинозы он говорит, что увидел нечто весьма глубокое. А поскольку это – математическое бесконечное, а Спиноза, как известно{ В оригинале: «notoirement», т.е. «имеет дурную славу» нематематика.}, не математик, хотя он превосходный физик и оптик с большим талантом, такие математические комплименты, исходящие от Лейбница, очень интересны. Как Спиноза определяет третье бесконечное? Он говорит нам, что существуют количества, которые, хотя и включены в фиксированные границы, выходят за пределы всяких чисел. Он сам приводит геометрический пример, который как будто бы не сочетается с бесконечными сходящимися рядами. Итак, я всего лишь ставлю вопрос: не совпадает ли третье бесконечное Спинозы с третьим бесконечным Лейбница? Я делаю вывод: они, грубо говоря, похожи, в одном случае – это бесконечное из сходящихся рядов, которые стремятся к пределу, а во втором – это бесконечное, включенное в границы некоего пространства. Я полагаю, что превращение одного в другое мыслимо, даже математически. Итак, будет очень интересно сопоставить эти три бесконечных Лейбница с этими тремя бесконечными Спинозы. У Лейбница существует три разновидности простых понятий, и мы вновь находим у него то, что находили в прошлом триместре, – абсолютно простые понятия, мы их оставим в стороне, потому что они касаются только Бога, Бога в самом себе; относительно простые понятия, которые касаются отношений «части – целое»; экстензии, а также пределы, сходящиеся к одному пределу, которые касаются интензий, интенсивностей. Я утверждаю, что две последние разновидности простых понятий довольно точно отсылают к двум типам рядов у Уайтхеда. Ряды, делимые до бесконечности, без предела, и ряды, сходящиеся к пределу. Итак, конъюнкция двух этих последних рядов дает нам событие, или актуальный случай. Что такое событие? Что в нем поразительного? Да ничего! Вы помните это по первому триместру, это пройдено. То, что Уайтхед, будучи физиком XX века, называет вибрацией, – это довольно точно, и здесь с точки зрения концепта я не вижу никакого различия, но с точки зрения научного углубления понятия существуют значительные различия. Это как раз то, что Лейбниц, будучи великим математиком XVII века, называет сгибом. Итак, если вы помните, весь наш первый триместр состоял в комментировании того, что такое сгиб, – и мы заранее знали, что событие было конъюнкцией сгибов. Итак, мы работаем при чрезвычайно крепкой спаянности с нашей работой в первом семестре.
И тут наступает смена декораций, так как мы достигли события. Событие, как вы помните, таково: меня раздавил автобус, но это также жизнь великой пирамиды в течение десяти минут. Событие – это всякое прохождение природы, то есть всякое развертывание рядов. Мы назовем его прохождением природы, а если угодно, то прохождением Бога, это почти одно и то же. Меня раздавил автобус, это проходит Бог! [Cмех.] Я смотрю на великую пирамиду в течение десяти минут, здесь также прохождение Бога, или прохождение природы. Это событие. Опять-таки что такое событие: вы ничего не поймете, если проинтерпретируете это так: событие – это то, что великая пирамида была построена. Речь идет не об этом. Сооружение великой пирамиды – другое событие. Но жизнь великой пирамиды в продолжение десяти минут, пока я смотрю на нее, есть событие; а жизнь пирамиды в продолжение следующих десяти минут – другое событие. Вы скажете мне: но течение пяти минут, включенных в десять минут, это делимость до бесконечности. И как раз этот первый ряд, бесконечный ряд вступает в отношения частей и целого. Я бы сказал так: жизнь пирамиды в течение пяти минут есть часть жизни пирамиды в течение десяти минут. Итак, все хорошо.
Из чего складывается событие? Пока что у меня нет ничего, что составляет событие. У меня есть условия складывания события, но что формирует событие? Из чего сделано событие? И я предлагаю вам – хотя это очень искусственно – тот же метод. Ответ Уайтхеда и ответ Лейбница… Анализ Уайтхеда вы найдете в «Процессе и реальности». Первый общий ответ: событие, нечто, составляющее событие, то есть актуальный случай, есть схватывание. Схватывание. Это будет основополагающим концептом для Уайтхеда. Правда, надо немедленно поправить: схватывание непрестанно схватывает другие схватывания. Иными словами, событие не есть схватывание, так как сейчас это было бы лишь синонимом события, а не его составной частью. Необходимо сказать, выражаясь языком Уайтхеда, что событие есть узел (нексус) схватываний во множественном числе. Как видите, существуют два определения события, или актуального случая. Я могу сказать, что это срастание рядов, или я могу сказать, что это узел схватываний. Срастание рядов – это означает: схождение и конъюнкция, вот что такое срастание, или же я могу сказать: это узел схватываний, то есть то, что одни схватывания отсылают к другим. Что же говорит Лейбниц? Каков элемент события? Элемент события – это монада! А что такое монада? Вы это знаете: схватывание мира. То, что Лейбниц интерпретирует через событие: всякая монада выражает мир. Она схватывает мир.
Узел схватываний – что это означает? Какими будут его элементы? Лейбниц выделяет пять элементов. Всякое схватывание имеет пять аспектов. А поскольку всякое схватывание есть схватывание схватываний, вы чувствуете, что всякий аспект схватывания схватывает другие аспекты другого схватывания. Всякое схватывание предъявляет схватывающего субъекта. Именно здесь вмешивается понятие: первое возникновение субъекта. Datum. Моя, всегда расхожая, философская латынь: данность, datum, или схваченная данность. Так что же такое datum, или схваченная данность? Это – другое схватывание, предсуществующее тому, которое рассматриваю я. Всякое схватывание предполагает предварительные схватывания. Схватывания, одно или несколько предварительных схватываний, станут данными для актуального схватывания, то есть данными схватывающего субъекта. Иными словами, всякое событие есть схватывание предшествующих событий. Посмотрите, что такое datum, схватываемый datum. Я мог бы сказать: сегодня вечером я иду на концерт, где так или иначе будут играть Стравинского; при этом схватывании исполняемой части сочинения Стравинского будут схватываться данные, предварительно заданные данные, то есть определенное количество исполнений той же части.
Заметьте, что уже на этом уровне у меня есть операции отвращения. Есть негативные схватывания. Мы назовем негативными схватываниями такие, которые в актуальном событии отвергают некоторые предшествующие события. Например, если я дирижер, то на такое-то исполнение Стравинского, которого играют в этот вечер, на то, что я хорошо знаю и не поддерживаю, я реагирую: «Только не это!» – здесь будет негативное схватывание. Мое схватывание в этот вечер будет иметь в виду негативное схватывание некоего datum’а, то есть предсуществующего схватывания в модусе отталкивания, исключения. И я не включил бы это исполнение в свое схватывание. Все мы здесь: мы делаем основополагающий выбор. Существуют философы, которых мы не можем включить в свое схватывание, так как нас затошнит. И не от самой философии, так как вся философия – гармония! Но от сферы человеческих страстей, так как существуют феномены схватывания через рвоту или рвотное схватывание. Я хотел бы продвигаться быстро.
Эти схваченные datum’ы, эти схваченные данные, каковые являются предварительно заданными схватываниями, – они образуют публичный материал моего актуального схватывания. Публичное. Уайтхед очень любит это слово, «public». Он говорит о публичном измерении некоего схватывания, в отличие от его частного измерения. Это необычно для философии – использование публичного и частного на таком уровне. Предварительно заданные события, каковые сами являются схватываниями, но которые я схватываю в моем актуальном схватывании, составляют публичное измерение схватывания. Очень любопытно. И главное, что здесь опять-таки будет частное измерение схватывания. Вы видите, что у всякого актуального схватывания есть данные, стало быть, есть схватывающий субъект; существуют схваченные данные, доставшиеся от предшествующих схватываний и формирующие публичное в схватывании. Это забавно. Третий компонент: то, что называют субъективной формой. Субъективная форма – это «как». Как мое актуальное схватывание схватывает данные? Именно то, что называется «как мое актуальное схватывание схватывает данность», то есть предыдущие схватывания, вы видите сразу же – в модусе исключения, рвоты, или в модусе интеграции, но интеграции какого типа? Это может быть проект, это может быть оценка, это может быть тревога, это может быть желание, это может быть что угодно. Он назовет это субъективной формой, или «как», восприятия; способ, каким схватывание схватывает схваченное, то есть datum, он назовет feeling. Субъективная форма есть feeling. То, что Изабель Стенгерс в прошлый раз предложила перевести как «аффект».
Четвертое, довольно необычное, измерение, которое мы всегда находим в нашей проблеме и всегда влачим за собой: но, Господи Боже, почему не повторить попытку, которую смог сделать только Ницше? Потому что надо было бы иметь такой же талант, как у Ницше, иначе результат был бы плачевным. Почему бы не провести исследование философии с точки зрения национальностей: вот что в философии английское, вот что немецкое, вот что французское, вот что греческое – вместо того чтобы все приписывать грекам. Ницше в «По ту сторону добра и зла» однажды сумел это сделать, а именно: он смог это сделать для немцев, сразу и в высшей степени забавно, и чрезвычайно философично. И как раз – и это хороший случай опоры для моих мыслей – заставил меня перечитать один текст из «По ту сторону добра и зла» о немецкой душе. Знаете ли, говорит Ницше, немецкая душа не глубока, она лучше или гораздо хуже, она гораздо больше или гораздо меньше. Не то чтобы она была глубока, немецкая душа, но дело в том, что она столь многосложна, она полна складок и сгибов. И значит, этот текст, очевидно, мне подходит. В той мере, в какой мы обозначили выход Германии на философскую сцену через Лейбница, в форме барочной философии, работавшей со складками и сгибами, – как хорошо, как приятно найти это подтверждение: немецкая душа полна складок и сгибов. Понадобилось дождаться Гегеля, чтобы начать отрицать это. Гегель сказал: нет-нет, мы глубоки. И вот в этот момент все пропало.
Что же касается того, что есть английское в философии, то Ницше здесь промахнулся, потому что он слишком уж презирает утилитаристов. Он не увидел, что утилитаристы были сумасшедшими, и я полагаю, что он не прочел утилитаристов. Ницше делает упреки, которые, в конечном счете следует признать слабыми. Это неудачные страницы, страницы об англичанах. Он не заметил, что безумие этого народа и его философия – это одно и то же. О том, что есть сугубо английское, я сейчас вам скажу. Это понятие, которое у Уайтхеда появляется четвертым, и это понятие self-enjoyment. Как это перевести? Это совершенно невозможно. Enjoy? Наслаждение собой? Почему я перевожу таким гротескным способом? Вы прекрасно понимаете, что если бы я перевел как contentement de soi, самодовольство, это будет нуль, это абсурд. Почему? Я всегда говорю вам, что философский концепт резко идет наперекор всему самому пошлому, самому банальному и олицетворяет собой парадокс. Взять самое пошлое и сказать вам: посмотрите, какой парадокс внутри. Я говорю «самое пошлое», но, по-моему, и я спрашивал компетентных людей, это в высшей степени расхожая формулировка для англичан. Enjoy yourself. В предельном случае мы говорим такое ребенку, имея в виду: забавляйся. Это эквивалент нашего amuse-toi. Иди развлекайся. Но когда нищий, попав в жилище богача, получает свою милостыню или когда философ стучится в дверь богача, чтобы обеспечить ему счастливую смерть, а потом возвращается домой со словами: enjoy yourself! Почему так? Вы чувствуете, что это чрезвычайно библейская формулирока, а вы помните, что у англичан Библия – не священная книга, или не только священная книга, это книга обо всем и ни о чем. Это книга всяческой мудрости и всякой житейской мудрости, в частности.
Enjoy yourselves! «Возрадуйтесь!» Вот что такое элемент события, self-enjoyment, то есть схватывание. Я перевожу так – в том месте, где мы находимся. У нас нет выбора. Схватывающий может схватывать данные, лишь возрадовавшись. Отсюда мой вопрос: что такое это self-enjoyment? Это действительно типично английский концепт? Давайте немного поразмыслим. Страницы Уайтхеда возвышенны, они возвышенны относительно self-enjoyment, являющегося философской категорией. На мой взгляд, если французы пренебрегают такой философской категорией, то их ужасно терзает противоположная вещь, меланхолия. Французы так уж угнетены из-за self-enjoyment? О нет! С чем они знакомы, так это с нехваткой бытия, то есть с умиранием.
[Конец пленки.]
Я не говорю, что английская философия сводится к этому. Из чего она состоит для тех, кто ее немного знает? Она сформирована возвышенной встречей: встречей самого требовательного эмпиризма и тончайшего неоплатонизма. Наиболее типичный представитель этой традиции – это один из величайших поэтов мира, Кольридж, и он не только грандиозный поэт, но и величайший философ: он осуществляет этот синтез между эмпирическим требованием и неоплатонической традицией, традицией неоплатонических мифов, а она чрезвычайно любопытна. Почему я ссылаюсь на неоплатоников? Потому что неоплатоники, я бы сказал, это почти что англичане той прекрасной эпохи. Византия была своего рода Англией – почему? У нее была своя величайшая идея. У Плотина в «Третьей Эннеаде» есть одна идея, и она входит… Можно всегда поиграть в конкурс: каковы двенадцать страниц, которые представляются вам прекраснейшими в мире; это хорошо получается с фильмами. Вот я сразу же назвал бы упомянутую страницу Плотина одной из прекраснейших в мире, и это – страница из третьей «Эннеады». Книги Плотина сгруппированы в «Эннеады», я имею в виду страницу о созерцании из третьей «Эннеады».
Вот то, что нам говорит Плотин: всякая вещь радуется, всякая вещь радуется себе самой, и она радуется самой себе, потому что она созерцает другую.
Всякая вещь есть созерцание, и именно это составляет ее радость. То есть радость есть наполненное созерцание. Она радуется сама себе по мере того как наполняется созерцание. И само собой разумеется, созерцает она не себя. Вещь наполняется собой, созерцая другую вещь. И Плотин говорит: и не только животные, не только души, вы и я, мы – это созерцания, наполненные самими собой. У нас есть маленькие радости. Но больше мы ничего об этом не знаем! Почувствуйте, что это слова из приветствия, обращенного к философии. Это – исповедание веры философа, и это не означает «я доволен». Какие глупости можно было сказать об оптимизме Лейбница, но его оптимизм не означает, что все хорошо! Когда кто-нибудь говорит вам, подобно Плотину: будьте радостью, это не означает: «Давайте, парни, все хорошо, будьте радостью, созерцайте и наполняйте себя тем, что вы созерцаете. Вот в этот момент вы будете радостью». А он говорит: «Не только вы и я, ваши души суть созерцания, но и животные – созерцания, и растения – созерцания, и даже скалы – созерцания». Бывает self-enjoyment скалы. Благодаря самому факту, что некто созерцает, он наполняется тем, что созерцает. Он наполняется тем, что созерцает, и тем самым получает self-enjoyment. И Плотин превосходно заканчивает, это текст несказанной красоты; и мне говорят, будто я шучу, когда говорю все это, но, может быть, сами шутки – это созерцания. Итак, перед нами прекрасный текст! Что он означает? Мы очень хорошо это видим в неоплатонической системе. Всякое существо на своем уровне возвращается к тому, с чего оно начало. Это и есть созерцание. Созерцание – это обращение. Это обращение души или вещи к тому, откуда она исходит. Возвращаясь к тому, откуда она исходит, душа созерцает. Но она не наполняется другим, тем, из чего она исходит, – или образом другого, из которого она исходит, не наполняясь собой. Она становится радостью самой по себе, возвращаясь к тому, откуда она исходит. Self-enjoyment, радость от самого себя, – это коррелят созерцания принципов. Вот это и есть великая неоплатоническая идея. Представьте себе эмпирика, прочитавшего Библию, то есть англичанина, и к тому же читающего этот текст Плотина. Он видит, что говорит Плотин: даже животные, даже растения, даже скалы – это созерцания. Англичанин скажет: я знал это. Разве не то же самое говорит нам Библия, когда она утверждает, что полевые лилии и птицы поют славу Господу? Лилии и птицы поют славу Господу: что же это может означать? Это поэтическая формула? Вроде нет. Всякая вещь есть созерцание, из которого она исходит. Но здесь мы находимся на территории эмпириков, хотя это ничего не меняет. Впрочем, мы можем несколько продвинуться. Во всяком случае, мы все больше в состоянии понять, что имеет в виду Плотин. Что же это означает, что всякая вещь созерцает то, из чего она исходит? Ну да, надо, чтобы вы представили себе, как скала созерцает… Черт побери! Примеров будет много, и доказательств тоже. Скала созерцает, кремний, углерод – конечно, x, y, z и т. д. Злак поет славу Небесам – это означает, что злак есть созерцание элементов, из которых он исходит и которые он заимствует у земли. И он заимствует их у земли в соответствии с собственной формой и сообразно требованиям своей формы, то есть согласно своему feeling’у. Требования его формы – это и есть feeling. А живое тело созерцает, я, мое живое тело, мой организм, вот потому-то они впадают в витализм, эти эмпирики, в такой витализм, что является чудом света. Органическое тело – ну да, оно созерцает: углерод, азот, воду, соли, из которых оно исходит. Переведем это на язык известных вам терминов: всякая вещь есть созерцание собственных реквизитов. Вместо того чтобы ссылаться на великие неоплатонические принципы, мы вспоминаем условия существования: всякая вещь есть неосознанное созерцание ее собственных условий существования, то есть ее реквизитов. Ладно, мало-помалу мы продвигаемся. Вы чувствуете, что это значит – созерцать! Очевидно, это не есть теоретическая деятельность. И опять-таки цветок созерцает гораздо больше, чем философ. Или, например, корова. Кто более созерцателен, чем корова? У нее такой вид, будто она смотрит в пустоту, однако вовсе нет! Правда, есть животные, которых абсолютно, совершенно нельзя назвать созерцательными, но это самый низкий уровень животных, например, кошки и собаки – вот они созерцают очень-очень мало. К тому же они ведают очень мало радости. Это печальные животные, они ничего не созерцают [смех]. Это в точности соответствует проклятым: проклятые ничего не созерцают, – мы это видели. Статус проклятых в том, что они ощущают только рвоту. Все их схватывания негативные. У них – только негативные и экспульсивные схватывания, ничего, кроме рвотного; у кошек и собак тоже ничего, кроме рвотного. Итак, всех проклятых сопровождают кошка и собака [смех]. В итоге сейчас оказывается, что кошек и собак больше, чем проклятых. Во времена Лейбница ситуация была более разумной, их было меньше. А что коровы? Коровы в высшей степени созерцательны, а что они созерцают? Уж точно не глупости. Они созерцают элементы, из которых произошли; они созерцают свой собственный реквизит, а реквизит коровы – это трава! Но что означает «созерцать»? Из травы они творят плоть, коровью плоть. Вы мне скажете, что относительно кошки и собаки можно поспорить. Хорошо известно, что у кошки не слишком привлекательная плоть. Как говорят, она вялая. У собак то же самое. Они ищут пропитание повсюду. У китайцев они считаются неважными животными.
Вопрос: А как с Богом?
Жиль Делёз: Это хорошо известно. Мы еще увидим. Трудностей здесь нет. Поскольку Бог – бесконечное-в-себе, Ему есть что созерцать. Самосозерцание и self-enjoyment Бога, собственно говоря, бесконечны по определению. Хотя бы поймите, что это значит – созерцать. По крайней мере, мы видим настоящий философский концепт. Здесь Уайтхед имеет основания, когда откзывается созерцать. Созерцание существовало в полном смысле уже у такого великого английского автора, предшественника Уайтхеда, как Батлер{ Имеется в виду английский романист викторианской эпохи Сэмюэл Батлер (1835–1902).}. Батлер в сверхгениальной книге, которая называется «Жизнь и привычка», объяснил, что все живые существа суть привычки, габитусы, – эта книга тоже полна философских концептов, – а габитус есть созерцание. И на прекраснейших страницах он утверждал, что злак есть созерцание собственных элементов, элементов, благодаря которым он растет, и поэтому он габитус. И, как говорит Батлер, он даже полон «радостной и наивной веры в себя». Или, например, почувствуйте у Лоуренса, до какой степени все это по-английски, – у Лоуренса на превосходных страницах о природе вы найдете аналогичные вещи. Если вы думаете, что это претенциозность (mivrerie), вы ничего не уловите. Это, как мне кажется, одна из наиболее мощных мыслей одной из разновидностей пантеизма. Эта концепция природы поразительна. Они не идиоты, они переживают природу вот так, как организмы, наполняющиеся самими собой, – когда? Созерцая? Нет! Опять-таки (Изабель [Стенгерс] сказала это в последний раз, они предлагают следующее: Уайтхед не употребляет глагола «созерцать», он использует глагол «рассматривать», и тут есть небольшой нюанс. Это для того, чтобы вытеснить пассивный аспект. Уайтхед имеет в виду, что существует схватывание реквизитов. Субъект схватывает собственные реквизиты. Он рассматривает собственные реквизиты больше, чем созерцает их. И на самом деле это не чистое созерцание, не абстрактное созерцание, и Уайтхед боится, что глагол «созерцать»… А вот я, наоборот, предпочитаю глагол «созерцать», потому что риск абсурда неважен, потому что этот глагол более нагружен, он более рискован. Но почему это не пассивное созерцание? Потому что мы действительно можем найти для него имя, имя активной операции. Фактически это сокращение. Сокращение. Все проясняется. Если я говорю, что организм сокращает элементы, в которых нуждается, если я говорю, что ваш организм есть сокращение воды, кислорода, карбона, соли и т. д… Мне кажется, что это становится в высшей степени ясно. Если я говорю, что скала – это сокращение кремния и, я не знаю, чего еще, то это становится в высшей степени ясным. Если я говорю, обобщая: всякое схватывание данных этой скалы схватывает свои данные, то имеются в виду прошедшие схватывания. В действительности и сам кремний есть схватывание, и сам углерод есть схватывание. Это схватывания, предполагаемые живым организмом. Схватывание никогда не схватывает ничего, кроме схватываний. Я бы сказал, что азот, углерод, кислород – это «публичные» материалы живого. Итак, схватывать всегда означает сокращать прошлые схватывания, сокращать данные. Сокращая данные, я наполняюсь радостью от бытия самим собой.
Лекция 7
Логика события
(07.04.1987)
…И в каком-то смысле всякое событие духовно, более того: что бы то ни было является событием лишь будучи вознесенным на уровень феномена духа. Смерть есть событие только как феномен духа, в противном случае рождение и смерть не событие, и т. д. Мы видели, как у Лейбница событие отсылало к неотъемлемости от монады, то есть событие у него имеет актуальное существование только в монаде, которая выражает мир. Событие актуально существует в монаде, в каждой монаде. Но это – лишь одно измерение события, духовное измерение. Необходимо еще, чтобы событие осуществилось. Здесь я бы различал актуализацию и осуществление. Я бы сказал, что событие осуществляется в духе и что это и есть наиболее глубокая принадлежность духа событию и события духу.
Событие актуализуется в духе, или, если угодно, в душе. Повсюду существуют души. Это очень близко Лейбницу: событие актуализуется в душе и повсюду существуют души, но в то же время необходимо, чтобы событие осуществлялось в некоей материи, чтобы оно осуществлялось в теле. Здесь у нас нечто вроде двойной системы координат: актуализация в душе и осуществление в теле.
Но что это означает: иметь тело? Весь этот триместр мы посвятили отношениям события с монадой как с чистым духом, или душой. Но мы прекрасно чувствуем, опять-таки, что событие, определяемое как то, что актуально существует в душе, имеет в виду и другое измерение: осуществляться в материи, или в теле.
Отсюда отправным вопросом нашей третьей части будет: что означает «иметь тело»? Что это такое? Мы узнем, что это означает – «иметь тело» или, по крайней мере, что такое само тело: это то, в чем осуществляется событие. «Перейти Рубикон» – вечный пример, к которому возвращается Лейбниц. «Перейти Рубикон» – это событие, которое актуализуется в монаде «Цезарь», и действительно: необходимо решение души. Цезарь мог бы и не переходить Рубикон: мы уже видели с вами, в каком смысле понимает свободу Лейбниц. Но это отсылает также к некоему телу и некоей реке: необходимо, чтобы тело преодолело эту реку. То, что монады имеют тела и, более того, что эти тела находятся в материальном мире, – к этому мы даже не приступали, и это будет предметом нашей третьей части.
Впрочем, я возвращаюсь к концу этой второй части, в которой я бы хотел сегодня продвинуться до максимума.
Что же такое эта логика события, которую мы пытаемся построить на стольких лекциях? Мы исходим из того, что проходило красной нитью для нас весь этот семестр, а именно: Лейбниц придумывает или притязает на то, что он придумал, включение предиката в субъект. Правда, здесь необходимо быть очень внимательным, так как то, что он называет предикатом, есть всегда отношение или событие. Я весьма основательно опирался на текст «Рассуждение о метафизике», где – как бы мимоходом (это для него само собой разумеется) – Лейбниц говорит: предикат, или событие. Вот то, что, насколько я знаю, ни Мальбранш, ни Спиноза, ни Декарт никогда не говорили и даже не понимали. Предикат, или событие. Здесь мы были бы вынуждены сказать: ну нет, во многих комментариях к Лейбницу что-то не так, потому что их авторы писали, что предикат у Лейбница, как и у других, является атрибутом.
И здесь мы даже встречаем у столь важного, столь гениального автора, как Рассел, посвятившего Лейбницу книгу, слова: «неотъемлемость предиката от субъекта имеет в виду, что всякое суждение есть суждение атрибуции». Если дело обстоит так, то как Лейбниц объясняет отношения? Я говорю: по-моему, в этом есть нечто пугающее, так как Лейбниц, конечно, затрагивает многие сложные проблемы, но не эту. Почему он говорит об атрибуции в смысле предикации, но ни разу, насколько я знаю (держитесь за дерево), никогда вы не найдете отождествления предиката с атрибутом. Почему? По простой причине: у Лейбница нет атрибута. Это уважительная причина. И тогда, конечно, мы можем найти слово «атрибут», но это не сильно меняет дело. Я имею в виду: предикат есть всегда событие или отношение.
Что касается меня, у меня нет ощущения, что проблемы отношений представляют хотя бы малейшую трудность для Лейбница: вся его философия написана по поводу этого. Вся его логика написана ради этого. Было бы даже удивительно, если бы из-за этого он испытывал особые трудности. Источник ошибок по этому вопросу всегда очень забавен, если у меня вообще есть основание думать, что это ошибка. Когда такой человек, как Рассел, говорит: «У Лейбница суждения сводятся к моделям атрибуции», он опирается на что? На формулу «всякий предикат – в субъекте». Стало быть, он говорит, что все есть атрибуция. Но выражение «всякий предикат» предполагает у Лейбница, что предикат не есть атрибут.
Так что же находится в субъекте? В субъекте, на самом деле, располагаются отношения и события. Иными словами, Лейбниц – это автор, для которого предикация, или, если угодно, назначение предиката субъекту, радикально отличается от атрибуции. И это такой автор, который буквально – по крайней мере, в предельном случае – мог бы сказать нам: атрибуции не существует, существует только предикация.
Вопрос об отношениях и соотношении всегда был очень прост, он состоит в утверждении: существует субъект отношения. Вы видите, что те, кто подобно Расселу, говорит, что такая философия, как философия Лейбница, неспособна объяснить отношения, – это те, кто подразумевает или полагает, будто подразумевает: у отношения нет субъекта. Стало быть, такая философия, которая, как философия Лейбница, утверждает, что всякое суждение, всякая пропозиция типа «предикат находится в субъекте» не может объяснить отношение, потому что в отношении, когда я говорю, например: «Вот три человека», заимствуя пример у Рассела, то где тут субъект? Это пропозиция без субъекта.
Ответ Лейбница: если вы как следует поставите проблему, вы найдете субъект! И тогда в рассуждении Рассела субъектом не будет ни такой-то, ни другой человек, ни множество из трех человек. И все зависит также от того, каков предикат. Мы видели ответ Лейбница. Ответ Лейбница таков: вот три x; соответствующая пропозиция – «два» и «один» суть предикаты «три». Это имеет совершенно незначительный вид, «два» и «один» суть предикаты «три»; я попытался показать, что это могло быть чрезвычайно важным ответом, так как в нем действительно фигурировало назначение субъекта. А у Лейбница этот субъект мог иметь в качестве предиката лишь некое отношение – отношение «“два” и “один” суть предикаты “три”».
Опять-таки – зачем все это? Для того чтобы сказать: предикат есть всегда отношение или событие, это не атрибут. Предикат субъекта… Это логика события. Мой вопрос сразу же будет: что из этого проистекает для субстанции? Ведь субстанция – это субъект.
То, что мы называем в логике «субъектом», есть то, что в метафизике называется «субстанцией»: субстанция определяется как субъект собственных детерминаций. Два этих понятия были длительное время эквивалентными, и в XVII веке еще существует полное равенство между метафизической субстанцией и логическим субъектом. Именно Кант и посткантианская философия проведут критику метафизического субъекта, то есть критику субстанции, а значит, с этих пор судьба логического субъекта перестанет быть связанной с судьбой самой субстанции. Были ли правы эти философы? Все зависит от того, какого рода проблемы они тогда перед собой ставили. Все это – не наше дело. Я спрашиваю: какие это имеет последствия для субстанции? Это очень важно. Субстанция уже не определяется и не сможет определяться через атрибут.
От Аристотеля до Декарта – правда, по-разному – субстанция определяется через атрибут. Что здесь такое атрибут? Атрибут есть сущность. Атрибут – это то, что есть вещь, то есть ее сущность. А у вас, если угодно, есть соответствие, эквивалентность между логической схемой «субъект есть атрибут» и метафизической триадой: субстанция, бытие, сущность. Если пропозиция – уже не атрибуция, то есть она больше не определяется ни через атрибут, ни через субъект, то чем становится субстанция, которая уже не может определяться через сущность? Данная тема в этом курсе сопрягается с наиболее очевидной, с самой несомненной темой нашего рассмотрения. Надо будет сказать, что Лейбниц порывает со схемой атрибуции и что тем самым он рвет с эссенциализмом субстанции – субстанции, сформированной через сущность. Атрибуцию он заменяет предикацией, так как предикат всегда был отношением или событием, а чем он собирается заменить эссенциализм? И здесь мы можем радоваться тому, что нашли слово, я скажу его сразу же: маньеризм.
Ведь в конечном счете все мы знаем, что у маньеризма весьма особые отношения именно с барокко: либо внутренние, либо чуть опережающие, либо немного запаздывающие. Но мы огорчим критиков, которые как будто бы с таким трудом стараются определить маньеризм. Итак, все изменить – место и время – и сказать себе: ладно, очень хорошо, разве не могла бы философия здесь помочь тому, кто с таким трудом пытается определить маньеризм в искусстве; возможно, философия даст нам очень простое средство определить маньеризм? И мы хорошо понимаем, что если субстанция не определяется через сущность, то она определяется чем? Как бы там ни было, субстанция уже не может определяться своими модусами.
Что же такое «модус субстанции»? То, что мы называем модусом субстанции, есть нечто, что имеет в виду субстанцию, тогда как субстанция не имеет в виду его. Я говорю, например: фигура имеет в виду протяженность, или треугольник имеет в виду протяженность. Но протяженность не имеет в виду треугольник. Доказательство – в том, что протяженность может иметь в виду и какую-нибудь другую фигуру, или – в предельном случае – может вообще не иметь в виду никакой фигуры. Я бы сказал так: фигура есть модус протяженности. Если a имплицирует b без того, чтобы b имплицировало a, то перед нами модус: a есть модус b. Вы сразу же видите, как мы тем самым различаем модус и сущность. Сущность – это то, что имплицирует вещь, чьей сущностью она является, и то, что, наоборот, само имплицировано вещью. Иными словами, мы скажем, что сущность есть реверсная импликация, а модус есть односторонняя импликация. Казалось бы, вполне нормально определять субстанцию через сущность, при условии что сущности существуют. Так что же такое маньеризм? Определим его прежде всего как мысль. Вы должны лишь спрашивать себя: что в вас? Пока я говорю, попытайтесь его нарисовать. Вы развертываете некий ментальный холст и пытаетесь написать соответствующую маньеризму картину. Вообразите, что по неопределенным причинам философ думает, что у субстанции больше нет модусов, но есть нечто большее, чем модус или модификация, и, однако, это не сущность, это нечто иное, нежели сущность. Это больше, чем модификация, и это не сущность. Субстанция больше не будет определяться через сущность. Опять возьмите ваш ментальный холст: я говорю, что человек – это разумное животное. Нарисуйте разумное животное. Это сразу же покажет вам стиль живописи.
Рисовать (писать) разумное животное – это уже прямо-таки стиль живописи. Но я говорю: разумеется, в субстанции есть вещи, которые больше модусов, но это не сущности, это нечто иное, нежели сущности.
Передо мной текст Лейбница «Письмо к преподобному отцу де Боссу», страница 176 во французском издании: «Вам кажется, говорите вы (пишет Лейбниц преподобному отцу. – Ж.Д.), что может существовать промежуточное бытие между субстанцией и модификацией (между субстанцией и модусом. – Ж.Д.), но вот я полагаю, что этот посредник…» я мог бы прочесть остаток, но мы не в состоянии понять его. И как раз субстантивировать сложную субстанцию. Это неважно, в счет здесь идет то, что Лейбниц не говорит, что этот посредник есть некая сущность.
Почему мы не в состоянии понять того, что объясняет Лейбниц в письме к преподобному отцу де Боссу? Это входит в нашу третью часть: это имеет в виду обращение к данным, каковых у нас пока нет. Но вот то, что важно, я подчеркиваю: существует некий посредник между модификацией и субстанцией, и этот посредник никоим образом не определяется как сущность – которая, впрочем, и не посредник. Что такое этот посредник между субстанцией и модификацией? Это может быть лишь одно – то, что играет роль источника модификаций. Субстанция определяется не через сущность, она определяется через активный источник ее собственных модификаций, источник ее собственных манер. У субстанции нет сущности, она представляет собой исток своих способов существования. Вещь определяется через все способы существования, на которые она способна; субстанция вещи есть исток способов ее существования. Этим имеется в виду – хотите вы того или нет, – что субстанция неотделима от самих способов существования. Иными словами, ее можно отделить от ее модусов разве что абстрактно. И если вы постараетесь сохранить слово «субстанция», вы всё сможете, но пока необходимо будет сказать: субстанция есть всё. Но в тексте, который мне кажется очень важным, в «Рассуждении о метафизике», Лейбниц говорит нам нечто, представляющееся мне весьма причудливым… «Рассуждение о метафизике», параграф 15{ Здесь идет лишь приблизительный пересказ параграфов 14–15 соответствующей статьи Лейбница. См. Собр. соч. Т. 1. С. 138–140.}: «Мы могли бы назвать нашей сущностью («мы могли бы»: сослагательное наклонение уже очень интересно, это доказывает, что Лейбниц не так уж и дорожит этим понятием) то, что включает в себя все, что мы выражаем (а ведь вы припоминаете, что монада выражает целый мир, монада выражает все). Но то, что в нас является ограниченным (здесь весьма специфический словарь), это и было бы нашей сущностью». Сущность – это все. А что в нас ограничено – вы, может быть, помните? Это малая область, которую мы выражаем ясно, то, что Лейбниц так хорошо называет нашим «департаментом». Мы выражаем весь мир, но мы выражаем ясно лишь небольшую область мира. Но то, что в нас ограничено (то есть наша зона ясного выражения), может быть названо нашей природой или нашей мощью. Это любопытно: он отказывается от слова «сущность». Вы видите, как Лейбниц работает: сущность есть все, что мы выражаем, и, наоборот, мы называем природой, или мощью, зону, которую выражаем ясно.
Подвожу итог: субстанция уже не может на этом уровне определяться через сущность. Мы вновь посмотрим на это пристально, хотя это не моя общая тема. Субстанция может определяться лишь через отношение к собственным способам существования как их источник.
Монада Лейбница – глубоко маньеристская, а не эссенциалистская. Я бы сказал, что это революция в понятии «субстанция», – возможно, столь же великая, как и другая революция, состоящая в том, что мы обходимся без понятия «субстанция». Что является важным в понятии субстанции? Сама ли идея субстанции, или факт…
[Конец пленки.]
Это уже не будет определяться через сущность, которая теперь предстает в маньеристском, а не в эссенциалистском ключе. И действительно, я некоторым образом полагаю, что если вы подумаете о так называемой маньеристской живописи, то вся философия Лейбница, наверное, предстанет маньеристской философией по преимуществу. Уже у Микеланджело мы находим следы первого и глубокого маньеризма. Посмотрите: позиция Микеланджело не связана с сущностью. Здесь, в его маньеризме, поистине источник неких метаморфоз, источник некоего способа существования. И в этом смысле философия, может быть, дает нам ключ к проблеме живописи, отвечая на вопрос, что такое маньеризм.
Как бы то ни было, к чему в конечном счете это сводится? Почему сущности не существует? Опять-таки по тем же причинам, по каким не существует атрибутов, но существуют предикаты. Предикаты – это события и отношения. Всё – событие, это и есть маньеризм.
Событие есть производство способа существования. Все есть событие – это маньеристское мировоззрение.
Возвратимся назад. Мы уже достигли первого уровня. В связи с сопоставлением логики и метафизики события наше сравнение Уайтхеда с Лейбницем привело к тому, что мы разработали первый уровень, а именно: возьмем какое угодно событие, раз уж сказано, что все есть событие, – и каковы в таком случае условия возникновения события? Напоминаю вам отправную точку, годящуюся как для Лейбница, так и для Уайтхеда: событие – это не просто «человека задавили», но еще и «жизнь великой пирамиды в течение пяти минут». Мы задавались вопросом: каковы условия возникновения событий? Мы могли говорить на двух языках, и эти два языка были весьма близки друг к другу. Событие вибрационно и находит условие своего возникновения в вибрации. В конечном счете последний элемент события – это вибрации воздуха или вибрации электромагнитного поля. А еще (это нам кое-что напомнило) событие принадлежит к порядку сгибов.
Сгибы как события на линии… Вибрации как событие волны… И мы видели, как у Уайтхеда это вибрационное назначение события происходило в форме двух рядов: во-первых, экстенсивные ряды, которые определяются так: у них нет последнего члена, они бесконечны, у них нет предела. Они вступают в отношение «целое – части». Типичный пример отношения «целое – части» – жизнь пирамиды в течение часа (пока я на нее смотрю), в течение получаса, в течение минуты, в течение полуминуты, в течение секунды, в течение десятой доли секунды – и так до бесконечности. Этот ряд не стремится ни к какому пределу, ряд бесконечен, а члены ряда входят в отношения целого и частей. Таков был первый тип ряда.
Если вы помните, мы нашли эквивалент этому у Лейбница. И все-таки я не думаю, что Уайтхед что-то позаимствовал у Лейбница. Все это – в совершенно разных контекстах. Уайтхед говорит от имени современной физики вибрации, а вот Лейбниц говорил от имени математического исчисления рядов. Я гораздо больше здесь верю во встречу, хотя немного и форсирую сходство. Я говорю: у Лейбница вы находите первый тип бесконечных рядов, которые можно назвать экстензиями. Экстензии – это не только соизмеримые длины, вступающие в отношения «целое – части», но это еще и числа, вступающие в отношения «целое – части». Нам казалось, что у Лейбница именно экстензии представляют собой предмет сразу и определения, и доказательства. Вот мое первое условие.
Второе условие Уайтхед демонстрирует следующим образом. Дело в том, что у первых рядов все-таки есть внутренние неотъемлемые свойства. Неотъемлемые свойства, которые входят в ряд нового, второго типа, – и что есть этот второй тип ряда? Может быть, вы припоминаете? Это также бесконечные ряды, которые на сей раз стремятся к внутренним пределам. Они стремятся к пределам, другими словами, являются сходящимися – в том смысле, который использует Уайтхед. Это сходящиеся ряды, которые сходятся у пределов. Это совсем просто. Возьмем некую звуковую волну. Звуковая волна есть первый ряд. В каком смысле? В том смысле, что предполагается, что она имеет бесконечное множество гармоник, которые выступают подмножествами ее частоты. Тем самым мы получаем ряд первого типа. Но, с другой стороны, волна обладает неотъемлемыми свойствами: высотой, интенсивностью, тембром. Эти неотъемлемые свойства сами входят в ряды, просто эти ряды отличаются от рядов первого типа: на сей раз это сходящиеся ряды, которые стремятся к пределам. Между этими пределами будут существовать отношения: у Лейбница, как и у Уайтхеда, всегда есть идея того, что всё есть отношения. Итак, между этими пределами будут наличествовать отношения – и ощущаете ли вы, что именно отношения между этими пределами будут предикатами? Предикатами чего? Мы назвали экстензией первый тип ряда, а второй тип ряда мы назовем интензией, или, если предпочитаете, экстенсивностью и интенсивностью. Отношения между пределами определяют конъюнкции. Если вы возьмете светящуюся волну, вы получите также два типа рядов. Для меня важно именно формирование двух наложенных друг на друга типов ряда. Что касается внутренних пределов рядов второго типа, то мы видели, как Лейбниц назвал их чрезвычайно галантным именем: это – говорит нам он – реквизиты. В данном отношении параллелизм между Уайтхедом и Лейбницем разителен. Например: тембр, высота, интенсивность суть реквизиты звука. Гармоники – это не реквизиты. Гармоники – это множество отношений «целое – части», которые определяют первый тип рядов. Реквизиты – это пределы, определяющие второй тип рядов, конвергентные ряды. Более того, я мог бы сказать, что Лейбниц – по сравнению с Уайтхедом – добавлял и третий тип ряда.
Третьим типом ряда у Лейбница были сходящиеся ряды, которые имеют дополнительные свойства: одни их них продлеваются в другие, так что формируется некий мир конъюнкции, мир, который будет выражаться каждой монадой. Стало быть, продлеваемые сингулярности, или одни ряды, продлеваемые в других, образуют некий мир конъюнкции, выражаемый всеми монадами, – это и будет третий тип ряда, для которого нет эквивалента у Уайтхеда и который позволяет Лейбницу определять индивидуации. И получается, что у Лейбница мы будем иметь три типа рядов, потому что каждая индивидуальная монада сокращает и концентрирует известные количества сингулярностей. Таким образом, мы видим у Лейбница шкалу из трех рядов, следующих друг за другом: экстензии, интензии и индивидуации. У Уайтхеда мы видели только два типа рядов. Вероятно, у Уайтхеда (но лишь впоследствии и не на том же уровне) мы тоже обнаружим феномен индивидуации. Но пока что мы ответили лишь на один вопрос, а именно: каковы условия возникновения события? Условия возникновения события – в бесконечных рядах. Это возможный ответ – при условии определения бесконечных рядов. Я бы сказал, что условия возникновения события – это два типа рядов или три типа рядов, как вы выберете; причем событие здесь – конъюнкция. Событие есть конъюнкция двух или трех типов рядов.
Но тем самым я определил условия возникновения события, хотя еще не определил состав события – а то, что мы видели в прошлый раз, было именно составом события. Мы впервые увидели это у Уайтхеда, и я напоминаю вам, что мы выяснили, что составной элемент события, согласно Уайтхеду, есть схватывание. Для вновь созданной логики события Уайтхеду, очевидно, необходимы относительно новые слова: составным элементом события становится у него схватывание. Схватывание и составляет событие. Или, скорее: поскольку событие есть конъюнкция, которая отсылает к нескольким условиям, необходимо будет сказать, что оно само и есть связь – или, как выражается Уайтхед, нексус. Событие – с точки зрения своего состава – есть нексус схватываний. С точки зрения своей обусловленности это конъюнкция рядов; с точки зрения своего состава это нексус схватываний. Речь идет о том, чтобы узнать, каковы различные аспекты схватывания, или части события, или, другими словами, что составляет событие.
Мы видели пять аспектов. (Я продвигаюсь очень быстро, чтобы выиграть время.) Всякое схватывание отсылает к схватывающему субъекту. Но схватывающий субъект не есть нечто предсуществующее: именно схватывание, в той мере, в какой оно схватывает, составляет то, что называется схватывающим субъектом, или то, что формирует самое себя как схватывающего субъекта. Схватывающий субъект здесь будет первым элементом.
Второй элемент – схваченное. Схватывание формирует то, что оно схватывает, как схваченное. Здесь также схваченное не является чем-то предсуществующим.
Еще одно схватывание. Событие может быть только схватыванием схватываний. Это – еще одно схватывание, то есть еще одно событие: событие есть схватывание других событий. Каких других событий? Либо предсуществующих, либо сосуществующих. Всякое событие схватывает другие события. Пример: битва при Ватерлоо есть схватывание Аустерлица. Это две разные битвы, однако я слишком уж легко мог бы сослаться на психологические элементы. То, что идет в счет, есть система, а она работает за пределами психологии. Это не имеет ни малейшего отношения к психологии, это описывает, из чего сделаны вещи! Другой пример – концерт. Концерт – это событие. Пианино – это схватывание скрипки, в такой-то момент скрипку схватывает фортепьяно, однако существуют и другие моменты… Именно это я утверждаю, когда говорю: такой-то инструмент отвечает такому-то. А что есть страница оркестровки? Это когда я распределяю звуки по инструментам. Оркестровка есть то великолепное распределение, в соответствии с которым в такой-то момент возникнет схватывание какого-нибудь другого схватывания и т. д… Как организовать схватывания? Всегда именно схватывание является схватывающим, но схватывание всегда является и схваченным. Тем не менее это различные аспекты. В том аспекте, в каком схватывание является схваченным, мы назовем его, по Уайтхеду, datum. Итак, datum. Мы скажем, что всякое схватывание схватывает data, то есть предварительные или предсуществующие схватывания. Мы скажем, что data, то есть то, что схвачено в схватывании, представляет собой публичный элемент схватывания. Публичный элемент схватывания… Какое любопытное слово – «публичный»! У меня есть основания подчеркнуть его мимоходом, вы скоро поймете почему. Уайтхед говорит нам, что публичный элемент схватывания – это то, что схватывание схватывает и что само является одним из предыдущих схватываний.
Итак, когда я схватываю, я пока еще не публичен; но когда я cхвачен кем-нибудь из вас, когда я схватываю вас, вы – моя публика (мое публичное). А когда вы схватываете меня, то я ваша публика (ваше публичное). Это предполагает, что схватывающий неотделим от некоего частного элемента. Но всякое схватывание будет, в свою очередь, схвачено, и в этом один из великих уроков Уайтхеда. Нет такого схватывания, которое не будет, в свою очередь схвачено, то есть не существует такого схватывания, которое не будет datum’ом для других грядущих схватываний. Стало быть, я всегда буду публичным для того, кто будет частным для самого себя и опять-таки будет публичным для кого-нибудь еще. Возникнет целая цепочка «частное–публичное». Так что же такое «частный элемент» в противовес публичным data, то есть схваченным схватываниям? Вы припоминаете, что это то, что я называю feeling. Так что же такое feeling, третья часть схватывания, но с сугубо логической точки зрения? Согласно схватывающему субъекту и схваченным данным, feeling есть способ, каким схватывающее улавливает схваченное. Именно это есть частный элемент.
Это довольно странное употребление оппозиции «частное – публичное», и это смешно, особенно потому, что Уайтхед придает ей большую важность в «Процессе и реальности»; это употребление «частного – публичного» производит довольно причудливое впечатление. Как-то раз я готовился к нашим лекциям и вдруг наткнулся на любопытную штуковину в «Рассуждении о метафизике»; я читал его одним глазом, как нечто очень смутное, потому что припоминаю, что я сказал себе: ну ладно, это для того, чтобы вновь вбить мне эти штуки в голову, – и представьте себе, чуть ниже я натыкаюсь на фрагмент из «Рассуждения о метафизике», третий абзац параграфа 14: «А ведь только Бог есть причина этого соответствия их феноменов (среди монад. – Ж.Д.), в противном случае никакой связи между ними не было бы… и все-таки только Бог может сделать так, что то, что является частным для одной (то есть для одной монады. – Ж.Д.), было бы публичным для всех»{ Перевод В.П. Преображенского (Т. 1. Собр. соч. С. 139) не показателен, так как никакой «публичности» там нет, а есть только «общее».}. Потрясающе, сказал я себе: все тот же термин «публичный». И тогда я занялся поисками – и не нашел его у Лейбница в других местах. Неужели он употребил его лишь однажды? Лейбниц имеет в виду, что все монады выражают один и тот же мир, то есть то, что схватывает одна, является схваченным для другой (то есть схватывание одной монады есть datum схватывания для другой монады). Эта история «частное – публичное» представляется мне весьма любопытной: в конце концов, это что-то из области грез…
Что меня интересует в большей степени, так это то, что касается истории feeling’а – того способа, каким схватывающий субъект схватывает схваченное, datum. Уайтхед часто настаивает на возможности «негативного feeling», и вот это меня интересует чрезвычайно: феномены отвращения. Проявления омерзения: я отвергаю некое событие! Не говорите мне об этом! Необходимо было бы изучать негативные feeling’и, вещи, о которых не следует говорить, монады, которые подыхают. Даже сегодня вы найдете монады, которые не выносят, если им говорят, например, о 1936 годе. И это весьма интересные монады. Этот год остался в них как своего рода рана. Вот случай негативного feeling’а.
Это психологический пример, однако существуют события, целиком предназначенные для изгнания других событий; они существуют для того, чтобы перекрыть другое событие, чтобы заставить нас изрыгнуть его. И, в конечном счете, я не хочу слишком уж настаивать на этом, но это напоминает нам кое о чем. Вспомните: прклятый – это человек, который ненавидит Бога. А как говорил Лейбниц, Бог – это всё. Тот, кто ненавидит Бога, имеет наибольшую ненависть из всех возможных. Он ненавидит всё, так как тот, кто ненавидит Бога, ненавидит всех Божьих тварей – будь то люди, животные или растения. И даже камушки, которые не сделали никому ничего плохого. Он ненавидит всё. Иными словами, он всё изрыгает. Определение прклятого у Уайтхеда таково: человек негативного feeling’а. Таков третий элемент.
Мы видели, что feeling обеспечивает выполнение схватывания схваченным. Схватывающий же субъект – посредством feeling’а – наполняется тем, что он схватывает, он наполняется данными (data), и из этого наполнения рождается self-enjoyment. Это похоже на своего рода сокращение: именно в той мере, в какой схватывание возвращается к тому, что оно схватывает, оно наполняется самим собой.
[Конец пленки.]
…Вибрационны ряд есть как раз материал datum’а. Я могу сказать, что всякий datum состоит из вибрационного материала. Именно в той мере, в какой схватывание есть сокращение вибрационных элементов, оно схватывает data; это одно и то же, и оно схватывает data, потому что оно сокращает вибрационные элементы, которые обусловливают схватывание – в той самой мере, в какой оно наполняется этой радостью от самого себя. Как писал Сэмюэл Батлер{ См. прим. 1 на с. 274.} в превосходной, очень английской, весьма по-английски философской книге «Жизнь и привычка»{ Написана в 1878 г.}, злак радуется тому, что он злак, но, сокращаясь, и благодаря тому факту, что он сокращается, он радуется земле и влаге, благодаря которым он возник. Это английский вариант, это философская версия изречения «лилия долин поет славу небесам, растения поют славу Господу, растения свидетельствуют».
Лейбниц скажет ровно то же самое. Он скажет то же самое относительно музыки, так как что такое удовольствие в наиболее точном и глубочайшем смысле слова? Удовольствие есть сокращение некоей вибрации. Есть прекрасный текст Лейбница о музыке («словно про истекшей из бессознательного исчисления», исчисления, касающегося вибраций звуковых волн), «Начала природы»{ Имеется в виду работа «Начала природы и благодати, основанные на разуме».}: «Музыка чарует нас, хотя ее красота состоит в сочетаемости чисел и в счете, которого мы не замечаем». Она буквально сокращает число{ Под «числом» здесь имеется в виду некая мистическая сущность бытия.}, которого мы достигаем в нашем высочайшем удовольствии, то есть в удовольствии от бытия самим собой. А что такое мы суть – мы, живые, – в нашем организме, в глубочайших глубинах нашего организма, и что способствует тому, что – даже будучи больными – мы можем обладать этой радостью бытия, если можем найти ее, дойдя как раз до этой точки в нас самих? Что такое эта радость бытия, по сравнению с которой хныканье – ерунда? Эта радость бытия есть не что иное, как то, что мы называем удовольствием, то есть операцией, которая состоит в сокращении элементов, из которых мы состоим. Например, «Я», тело, – что такое «иметь тело»?
Даже если я проявляю предвзятость относительно того, что нам остается сделать, – что такое «иметь тело», если не сокращать эти вибрационные ряды? Что такое «иметь тело», если не сокращать – что? Жалкие или грандиозные вещи, то есть вещи, которые всегда были богами, а именно: сокращать воду, землю, соли, углерод – все то, откуда мы вышли. И мы наполняемся самими собой, возвращаясь к тем рядам, которые сокращаем. Это и есть self-enjoyment. Это то, что мы назовем бессознательным исчислением всякого бытия. В этом смысле мы состоим из чистой музыки. А если мы состоим из чистой музыки, то в этом аспекте перед нами – self-enjoyment. Поэтому мы, возможно, догадываемся, что в истории того, что такое событие, концерт есть все что угодно, но не простая метафора.
А теперь покончим с глупостями об оптимизме Лейбница. Ибо хорошо известно, что существует одна формула, касающаяся Лейбница, которая перешла к потомству, и это идея того, что наш мир – «лучший из возможных миров». Вы знаете, что произошло: однажды Лиссабон испытал знаменитое землетрясение. И это землетрясение – как ни странно – сыграло такую же роль в истории Европы, что и его эквивалент, который я усматриваю только в нацистских концентрационных лагерях. Был поставлен вопрос, эхо которого звучало после войны: как можно продолжать верить в разум, если был Освенцим и определенный тип философии стал невозможным (а как раз он определял историю XIX века)? Весьма любопытно, что в XVIII веке именно лиссабонское землетрясение берет на себя нечто подобное, когда вся Европа сказала себе: как возможно сохранять еще какой-то оптимизм, основанный на вере в Бога? Вы видите, что после Освенцима звучит вопрос: как возможно сохранять хотя бы малейший оптимизм относительно того, что есть человеческий разум? А после лиссабонского землетрясения: как возможно сохранять хотя бы малейшее верование в рациональность божественных истоков мира?
Из-за этого возникнет знаменитый текст Вольтера, направленный против Лейбница, а именно небольшой роман{ Или, как принято называть жанр этого текста по-русски, «повесть».} «Кандид», где действует молодой дурачок, чей мозг обработан профессором философии, и его постигают всевозможные беды: войны, изнасилование невесты, всевозможные страдания, целый каталог всяческих унижений человека; а профессор всегда увещевает Кандида: дескать, все к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Этот текст Вольтера – подлинный шедевр. Не надо думать, что Вольтер обманывался, так как величие вольтеровской книги в том, после этой повести проблема добра и зла уже не могла ставиться так, как она ставилась столетие назад. Я полагаю, что наступил конец и блаженным, и прклятым. Необходимо сказать, что вплоть до Лейбница проблема добра и зла ставилась в терминах блаженных и прклятых. А начиная с Вольтера в XVIII веке, с 1755 года, она ставилась уже иначе.
Я отнюдь не имею в виду, что Вольтер – это всего лишь литература; «Кандид» относится к имеющим величайшую важность произведениям сразу и литературы, и философии. Что я собираюсь исследовать (и это совершенно не исключает «Кандида»), так это то, что стало с оптимизмом Лейбница.
То был оптимизм, основанный на божественной рациональности – понятии, к которому не следует возвращаться. Но что меня интересует, так это то, что даже с упомянутой точки зрения не следует думать, будто теологи той эпохи говорили себе: ну ладно, о’кей, все, что происходит от зла, – смерть невинных, войны, жестокости – получит по заслугам. Они не были готовы к лиссабонскому землетрясению. И любопытно, что лиссабонское землетрясение произошло в тот момент, когда мысль и мысленный способ рассматривать проблему зла находились уже в процессе изменения. И в этот момент случается землетрясение. Катастрофы и унижения сразу и Бога, и человека были хорошо известны и прежде. И получается, что в истории вокруг лейбницевского оптимизма я настаиваю на следующем: необходимо делать различие между двумя соотносительными оптимизмами, субъективным и объективным. Я имею в виду, что объективный оптимизм таков: этот мир – лучший из возможных миров. Почему? Это отсылает к совозможности. Сюда я больше не вернусь. Это отсылает к объективному понятию совозможности, а именно: существуют ряды сингулярностей, одни из которых, если помните, продлеваются в других, и к тому же существуют точки дивергенции. Итак, будет столько же миров, сколько дивергенций, ведь все миры возможны, но одни из них несовозможны с другими. Итак, Бог избрал один из этих миров. И ответ Лейбница таков: Бог мог избрать только лучший мир. Дальше этого мы не пойдем: лучший из миров. Все возвращается, и не нужно повторять, что этот мир существует, потому что он лучший. Некоторые тексты Лейбница движутся в этом направлении. Или же надо сказать противоположное: этот мир – наилучший, потому что он есть и потому что есть именно он. Но объективный оптимизм, как мне кажется, не содержит своего основания в самом себе; он имеет в виду основание, взятое откуда-нибудь еще, и его может дать только субъективный оптимизм. А что такое субъективный оптимизм? Это и есть self-enjoyment.
Каким бы ни было отторжение мира, существует нечто, чего никто не сможет у вас отнять и благодаря чему вы непобедимы, и прежде всего это не ваш эгоизм и не ваше мелочное удовольствие быть «Я». Это нечто более грандиозное, и как раз его Уайтхед называет self-enjoyment, то есть той разновидностью жизненно важного хора, в котором вы сокращаете элементы, будь то элементы музыки, или химии, вибрационные волны и т. д… Станьте же самими собой, сокращая эти элементы и возвращаясь к этим элементам. Это и будет упомянутый тип радости, радости Становления; именно эту радость Становления вы найдете во всякой радости виталистского типа. Припомните: «Да возрастет эта радость!» – такова формула субъективного оптимизма. Она не означает, что мир станет лучше, что будет меньше мерзостей. Это нечто иное. Речь не идет и о том, что мерзости оставят меня безразличным. Обо всех этих вопросах Лейбниц чудесно высказался в тексте, к которомуя вас отсылаю и которым мы уже много раз пользовались: «Исповедание веры философа». Быть довольным миром, говорится в этом тексте, отнюдь не означает лелеять свой эгоизм. Это означает находить в себе силу сопротивляться всему, что отвратительно. Находить в себе силу выносить отвратительное, когда оно вас постигает. Иными словами, self-enjoyment означает: «быть достойным события». Кто может сказать заранее, что я буду достоин события, которое меня постигнет? Каким бы ни было событие, будь оно катастрофой или же любовью, существуют люди, недостойные событий, которые их постигают, даже если это чудесные события. Быть достойным происходящего! Это тема, пронизывающая философию. Если философия на что-то годна, то это как раз такого рода вещи: не поучать, а убеждать нас, что вот это проблема, которую следует лучше знать, чтобы быть достойным того, что вас постигает, будь то великая беда или огромное счастье. Ведь если вам удастся стать достойными того, что вас постигает, то в этот самый момент вы очень хорошо поймете, что неважно в постигающем вас и что в нем важно.
Иными словами, что важно в событии? Это не обязательно то, во что мы веруем. Здесь необходима прямо-таки этика достоинства. Быть достойным того, что нас постигает, – вот он, витализм. Прочтите у Лейбница конец «Исповедания веры философа», вот где это. Впрочем, вы помните, что идея Лейбница такова: слава Богу, что есть проклятые, так как проклятые сузили свою область, она свертывается (вы помните: речь о небольшой ясной области, которую они выражали), потому что они отвергли Бога. Коль скоро это так, они отреклись от этой ясной области. Проклятые попали в крайнее замешательство из-за ненависти к Богу – вот идея, которая кажется мне возвышенной, идея проклятого: это вызывает зависть к бытию. Они сделали это, а значит, всё из-за них: они оставили неиспользованными фантастические количества виртуальной радости. Так овладеем же этими радостями, этими пустыми, ненаполненными enjoyments. Необходимо их присвоить. И прклятые впадут в ярость, когда увидят, что их проклятость служит нам и служит еще чему-то. Да-да, проклятье служит увеличению общего количества self-enjoyment множества тех, кто не проклят или еще не проклят.
Это четвертый элемент.
И есть еще пятый элемент. Вы прекрасно чувствуете, что существует необходимый пятый элемент, о котором я скажу очень кратко. Дело в том, что на него притязает все. На него притязает feeling: feeling претендует на то, что существует нечто, соответствующее feeling’у другого в одном и том же схватывающем субъекте. Своего рода соответствие feelings. Соответствие означает принадлежность к одной и той же форме, к одной и той же субъективной форме. Схваченное притязает на другую вещь как мгновенное или непосредственное предъявление. Self-enjoyment предъявляет само себя как аффект чистого становления собой, становления самим собой. Все это имеет в виду своего рода длительность, в какую погружается событие и минимум которой есть точка соединения ближайшего прошлого и совсем близкого будущего. Я говорил вам: в конечном счете, это и есть оптимизм, убежденность, что вот это будет длиться, убежденность, что за биением моего сердца последует другое биение. И эта убежденность закончится тем, что мы скажем, что хотя, возможно, так будет не всегда, но, несмотря ни на что, возникнет другое сердце. Возможно, между self-enjoyments существует связь. Иными словами, то, что я схватываю, и то, что я испытываю, никогда не сводится к непосредственному предъявлению. Оно схватывается схватывающим субъектом, который так или иначе погружается в прошлое и стремится к будущему. Это пятый, или последний, элемент, который Уайтхед называет субъективной целью. Он дает очень хороший пример субъективной цели: то, что мы воспринимаем, мы воспринимаем как немедленное и мгновенное, например: я поворачиваю голову и воспринимаю это окно. Но это окно, которое я воспринимаю, когда поворачиваю голову, я воспринимаю глазами, я дотрагиваюсь до него погружаясь в настоящее даже без ближайшего прошлого.
Заметьте, как возникает единство всего. Ибо что такое орган чувств? Или, если угодно, орган схватывания? Это процесс сокращения – и ничего более. Это поверхность сокращения. Уши суть поверхности сокращения, которые эксплицируют то, что я слышу, и то, чего я не слышу, в звуковой волне. А у кого-то больные уши: он, например, очень хорошо усваивает гласные с «тяжелым» ударением и не воспринимает ударений «острых»: он их не слышит. Мне хотелось бы, чтобы вы сами добавили сюда разного рода вещи. Эта идея Уайтхеда кажется мне очень-очень важной: именно органами, доставшимися мне из прошлого, сколь бы близким оно ни было (пусть это прошлое будет даже ближайшим), я воспринимаю непосредственно присутствующее. Здесь, несомненно, Уайтхед видит основу субъективной цели. Почему я не могу больше продолжать на этом уровне? Потому что вы чувствуете, что в субъективной цели задействованы как непрерывность, так и причинность. Непрерывность и причинность [нрзб.] анализ – как у Лейбница, так и у Уайтхеда, и анализ последнего мы сможем провести лишь в третьей части.
Вкратце подведем итоги: у меня возникает ощущение, что как у Лейбница, так и у Уайтхеда перед нами не только три ряда, обусловливающие событие, но и пять отношений [?] события. Теперь я буду говорить очень бегло. Я сказал бы, на уровне Лейбница, что схватывающий субъект – это поистине эквивалент монады. Монада есть схватывание мира. Datum – это сам мир. Я бы сказал: при необходимости они не соответствуют друг другу, и это даже хорошо Существуют понятия, не имеющие эквивалента в другом понятии. У Лейбница всякая монада схватывает весь мир, но ясно схватывает лишь малую его порцию. Весь мир – публичный, потому что именно его одновременно схватывают другие монады. Моя малая порция – это мое частное схватывание мира. Почему? Потому что, вероятно, ее схватывают другие, но лишь смутно. Существует область мира, которую схватываю именно я, которую я выражаю ясно. А другие выражают ее лишь смутно. Сколь бы ограниченной она ни была, не лишайте меня моего имущества, моего частного имущества. Схватывания суть перцепции. И Лейбниц создаст великолепную теорию малых перцепций. Так что по этому пункту Уайтхеду, строго говоря, нечего добавить. И никто не сможет почти ничего добавить к теории малых бессознательных перцепций у Лейбница. Это воистину неосознанные схватывания. Наконец, вы видели, как self-enjoyment соотносится с лейбницианскими радостью и оптимизмом. И, в конце концов, субъективная цель – это как раз то, что Лейбниц называет аппетицией. В конце, подводя итоги, он спросит: каковы свойства монады? Наиболее глубокие свойства монады суть перцепция и аппетиция. И перцепцию он определит через подробности того, что изменяется; аппетиция же – это внутренний принцип изменения.
Начало «Монадологии»: «Из сейчас сказанного (параграфы 11 и 12. – Ж.Д.), следует, что естественные изменения монад исходят из внутреннего принципа… Но кроме начала изменения необходимо должно существовать многоразличие того, что изменяется, которое производит, так сказать, видовую определенность и разнообразие простых субстанций. Это многоразличие должно обнимать…»{ Лейбниц. Собр. соч. Т. 1. С. 414. Пер. Е.Н. Боброва.}, и Лейбниц назовет это перцепцией и аппетицией{ В переводе Е. Н. Боброва – «стремление».}…
[Конец пленки.]
Хорошо известно, что философия Уайтхеда зиждется на двух основополагающих понятиях, он вводит два определяющих концепта: актуальные случаи и вечные объекты. О вечных объектах мы не сказали ни слова. Я буду очень краток: вы помните, что такое актуальные случаи, – это события. Это события в той мере, в какой они сразу и обусловлены рядами, вибрационными рядами, и составлены схватывающими элементами, элементами схватывания. Вот из этого у нас и получается событие. Любопытно, что «внутри» события нет ничего, что было бы долговечным. Так, вибрации непрестанно исчезают. А теперь я думаю о том, о чем я пока думать не могу, потому что это наша третья часть, – я думаю о теле. Здесь я перескакиваю от Уайтхеда к Лейбницу, но умоляю вас это разрешить, так как мы говорим об общности между ними.
араграф 71 «Монадологии»: «Нельзя вместе с некоторыми, плохо понявшими мою мысль (он изобличает абсурдные мнения о своей мысли; стало быть, у нас бльшая необходимость делать это. – Ж.Д.), воображать, будто каждая душа имеет массу, или часть материи, собственно ей присвоенную»{ Там же. С. 425-426.}. Иными словами, когда я буду говорить вам о телах, не следует полагать, говорит нам Лейбниц, что каждая душа имеет принадлежащее ей тело. Почему? «Ведь все тела, подобно рекам, находятся в вечном течении (он знает фразу Гераклита . – Ж.Д.), и части (корпускулы. – Ж.Д.) беспрерывно входят в них и выходят оттуда»{ Там же. С. 426.}. Вибрационные волны – нечто похожее. Но больше того: перцепции монады, подробности того, что ее образует, – все это непрестанно меняется. Вы скажете мне: ладно, все это мы предвидели, так как ввели фактор длительности в качестве последнего компонента, вместе с субъективной целью. Нечто длящееся и производящее синтез настоящего с близким прошлым и близким будущим.
Длительность – что это такое? Она может длиться сто лет, но мы не получим никакого ответа на этот вопрос. Великая пирамида длится. Да, но по отношению к чему? Она длится дольше, чем муха, и это все. Не следует смешивать то, что длится, с подлинной перманентностью – или, если угодно, с чем-то вечным. Я могу сказать, что некая гора длится, но гора есть событие, как и муха, ни больше ни меньше. Эти события, правда, разного масштаба. Надо уловить гору как событие, то есть как нечто вечно складывающееся, не перестающее образовывать складки и утрачивать их, так как она теряет свои молекулы каждое мгновение, но также и обновляет свои молекулы. Итак, гора возобновляет образование собственных складок. Я говорил только о длительности. Но ведь длительность, строго говоря, приносит подобие. Одна волна сменяется другой. Одна вибрация уступает место другой. И что-то заставляет меня сказать: здесь присутствует то же самое.
Проблема «того же самого» совершенно не исчерпывается длительностью, сколь бы долгой та ни была. «То же самое» не есть непрерывное. Что такое проблема «того же самого»? Что заставляет меня говорить: это та же самая волна? Вы скажете: обобщение? Нет, потому что я говорю о «том же самом» даже на уровне индивида. Это тот же самый Пьер, которого я видел вчера; более того, это та же самая нота на концерте. Ну да, это нота «си» Берга. Ну да, это тот же самый цвет. Ну да, это зеленый цвет такого-то художника. Вот все это Уайтхед и назовет вечными объектами. Вечный объект – это то, что я узнаю как то же самое сквозь множество событий, или актуальных случаев. Я говорю: это великая пирамида. Ну да, вот великая пирамида! Вы чувствуете, что здесь присутствовало то, чего не объясняли события, актуальные случаи. Как же я могу утверждать, что это та же самая великая пирамида? Ага, это великая пирамида. Ну да, она не сдвинулась! Ага, ты постарел, Пьер! Пьер, ты не постарел, ты такой же. Я узнаю тебя. Я не говорю: одна волна сменяется другой; я не говорю: одного Пьера сменяет другой. Я говорю: это ты, Пьер. Я говорю: о великая пирамида, приветствую тебя! Весь этот тип пропозиций необходимо учитывать.
Вечные объекты, а уже не актуальные случаи.
Словарь Уайтхеда очень красив, очень поэтичен. Событие в нем определено как срастание. Как вам угодно: либо срастание рядов, которые обусловливают его, либо срастание схватываний, которые его составляют. Всякое событие есть срастание. Но вечные объекты Уайтхед определяет как вторжения: вечный объект совершает вторжение в событие. И об этом вторжении данного вечного объекта я могу сказать: вот великая пирамида! Это «си»! Ага, «си», и ты его услышал! Ага, это прусская зелень! Эту весьма своеобразную зелень, которая совсем не похожа на прусскую зелень, мы только и встречаем, и ты ее видел. Вот вечный объект, который совершает вторжение и способствует тому, чтобы одни волны сменяют другие, и вы говорите: но ведь это одно и то же! Правда, вы не называете «одной и той же» волну, которая является совершенно той же самой: вы говорите «это одно и то же» об объектах определенного типа, которые называются «вечными объектами», поскольку они вторгаются в события.
Уайтхед не без кокетства может ссылаться на Платона, говоря: ну да, вечные объекты – это примерно то, что Платон называет идеями. Правда, у него вечные объекты – это не что иное, как компоненты события, в той мере, в какой они совершают вторжение в событие.
Что же такое эти вечные объекты? На первый взгляд, Уайтхед различает три их разновидности. Чувственно воспринимаемые: эта зелень! Этот оттенок цвета! Не следует говорить, будто цвет – это тоже вечный объект – здесь дело не просто в обобщении. Эта синева! Эта зелень! Эта нота! Эта группа нот! И действительно, вспомните мой пример. Мы на концерте, мы слушаем музыку Вентейля, и вдруг Шарлю схватывает малую фразу. Знаменитую малую фразу Вентейля. Он схватывает ее и смотрит на нее, он слушает с взволнованным видом.
А играет ее Морель. Это его любовник, и он находится в процессе исполнения музыки. Эта фраза составлена из определенного агрегата нот, весьма индивидуализированных, которые Пруст подробно описывает; она очень хорошо проанализирована. И вот – схватывание малой фразы, но Шарлю тысячу раз слушал ее, несомую другими звуковыми волнами.
Вы видите, что вечный объект есть «то же самое», которое совершает вторжение во множество актуальных случаев. На всех концертах, когда я слышал эту малую фразу или, по крайней мере, когда я ожидаю момента ее появления, я говорю: ну да, это действительно она! Или же говорю: ах, мерзавец, он запорол ее! Итак, не удивляйтесь тому, что Уайтхед употребляет термин feeling: бывают концептуальные feelings. Концептуальное feeling – это отношение схватывания: как происходит так, что оно соотносится yже не с другими схватываниями, а с вечными объектами, которые совершают вторжение в событие? И если существуют концептуальные feelings, то бывают и негативные концептуальные feelings, типа того, которое я только что упомянул. Как можно запороть такое произведение?! Может случиться, что мы скажем, глядя на дирижера: ну, Господи, как можно испортить такой шедевр?! И тогда у меня будет негативное feeling.
Я предполагаю, что вечный объект имеет свой диапазон вариаций, но он совершенно индивидуализирован. Это не какое-то обобщение. Это действительно. Какой это агрегат звуков? Вот пример чувственно воспринимаемого вечного объекта. И вы можете вообразить тысячи и тысячи событий под названием «концерт», тысячу концертов, и всегда в этот момент произойдет вторжение вечного объекта. Итак, это действительно нечто весьма отличающееся от актуальных случаев – вечные объекты с их вторжениями. Иной случай: вечные перцептивные объекты, уже не чувственно воспринимаемые и не ощутимые. Я уже не говорю: это прусская зелень, я говорю: ага, это пиджак цвета прусской зелени. Или же говорю: ага, это скрипка!
И потом, существуют вечные научные объекты: атомы, электроны, треугольники и т. д… Существуют немногочисленные тексты Уайтхеда, посвященные этой теме. Также надо полагать, что существуют вечные объекты feelings. Feelings не гарантируют самотождественности. Необходимо, чтобы существовал вечный объект «гнев». Почему? Или же в этом нет необходимости? Ты гневаешься, или: вот что вызывает его гнев. Пришла пора выпутываться: он назовет свой гнев «своим гневом» – и что это означает? Как будто гнев можно индивидуализировать… На самом деле ненависть и гнев превосходно поддаются индивидуализации. У каждого человека собственный стиль гнева, и, как правило, именно поэтому мы их не узнаем. Существуют бурные холерики, относительно которых мы никогда не знаем, до какой степени они разгневаются, так как присущий им стиль гнева обладает непредсказуемым темпом. Существуют люди, относительно которых мы сразу же видим, когда они разгневаются; существуют более сложные случаи. В чем секрет их гнева? «Твой гнев» – это вечный объект. Имеем ли мы перед собой именно его? Вообразите очень гневную женщину, когда она совершает вторжение в некое множество событий, в разнообразные события. Вообразите мужа очень гневной жеы, когда он говорит: «О-ля-ля, сейчас она разойдется!» Очевидно, что здесь гнев этой женщины, а не гнев вообще представляет собой вечный объект. Итак, могут существовать feelings вечных объектов. Дело выглядит так, будто существует великая пирамида – событие, существует великая пирамида – вечный объект, и одна есть срастание, а другая – вторжение. Как определить вечные объекты? Как он, Уайтхед, определяет вечные объекты? Он говорит, что это детерминабельности, или потенциальности. Почему? Потому что на самом деле они актуализуются только в событиях: небольшая фраза Вентейля есть всего лишь потенциальность, которая получает актуальное существование только в актуальном случае, то есть когда она исполняется. В противном случае она – сугубая потенциальность. Тем не менее как потенциальность она обладает в полном смысле индивидуальным существованием. И все это очень важно. Чтобы приучить вас к этому способу мысли, вам необходимо поиграть с ним; «эта зелень!» есть чистая потенциальность. Вообразите, что мир посещают призраки потенциальностей. Так что же это за призраки? Сколько небольших фраз блуждает по миру; они не актуализовались и, возможно, никогда не актуализуются! И каков способ их существования, и есть ли он? Об этом следовало бы погрезить.
Как бы то ни было, этого совершенно недостаточно. Мы не можем определять вечные объекты как простые формы узнавания. Этого недостаточно. Поскольку Уайтхед – прежде всего физик и математик, он не придает узнаванию значения. Электрон не есть форма узнавания, это нечто совсем иное. Опять-таки существует электрон, частица, несомая волной, – и это и есть электрон как актуальный случай. Затем существует электрон как вечный объект. Внезапно у Уайтхеда все удваивается. Перед вами – вечный объект, который вторгается в событие с его компонентами.
Я бы сказал, что существуют три разновидности вечных объектов. Я определю их в духе Лейбница следующим образом. Вечные объекты первого типа: определимые, или доказуемые. Определимые, или доказуемые, объекты суть всё, что вступает в отношения «целое – части». Это интенсивности. Вечные объекты второго типа: реквизиты, или пределы, и отношения между пределами. Всё, что входит в интенсивности. Когда я говорю: «Звук обладает определенной высотой, интенсивностью, тембром», то это три вечных объекта. И, наконец, вечные объекты третьего типа: сингулярности. Вы видите, что индивиды, которые представляют собой весьма особенные сочетания сингулярностей, по-моему, не входят в вечные объекты. Индивиды – это носители сингулярностей и вечных объектов; они сгущают и сокращают их, то есть вечные объекты совершают вторжение в индивидов. Хотя вечные объекты совершенно сингулярны, но это не индивиды. Итак, вот каковы дела.
Вопрос: Если мы возьмем случай с зеленым костюмом и, например, зелень этого костюма, то, с одной стороны, перед нами потенциальность, а с другой – ее осуществление. В случае с записью какой-либо музыкальной пьесы перед нами, с одной стороны, – и я хотел бы узнать твое мнение об этом, потому что это меня интересует, – музыкальное произведение, замышленное композитором в голове, – и это стадия первая, во-вторых, запись партитуры музыки, то есть произведение написанное, но не сыгранное, и, в-третьих, произведение, сыгранное оркестром, то есть осуществленное и слышимое. Возникает ощущение, что здесь три области, а значит, множество областей.
Жиль Делёз: Твое замечание совершенно справедливо. В таком процессе вторжения, если следовать Уайтхеду, необходимо выделять несколько уровней. Если мы говорим, что потенциальность актуализуется, то актуализация с необходимостью не есть гомогенный процесс. Актуализующаяся вещь актуализуется на последовательных уровнях, и иногда для того, чтобы замкнуть такой уровень. Возьмем пример с музыкальной пьесой: с чего она начинается? Где ее ядро до того, как начнет существовать сама пьеса? Я бы сказал: знаете ли, в музыке в основе всего лежит ритурнель. Основа есть малый ритурнель. Меня спросят: где же этот малый ритурнель? Он может носиться в воздухе. Он уже не является человеческим, он может быть космическим; этот малый ритурнель может находиться вон там, в какой-нибудь отдаленной галактике. Малый ритурнель – все начинается с него. Предположим, этот малый ритурнель был уловлен. У меня больше нет памяти, и это очень любопытно: всякий раз, когда я хочу точно вспомнить какое-нибудь имя собственное, речь идет… ах, возраст – это ужасно! «Песнь о земле», Малер. Его уловил Малер. Я вспомнил, потому что он действительно ловец ритурнелей, но, в конце концов, не он один. Вот его схватывание вечного объекта – а вы видите, что схватывание больше не есть схватывание схватывания, оно есть схватывание вечного объекта. Когда Малер схватывает малый ритурнель – это не то же самое, когда его схватываете вы или я. Потому что – не говоря уже о его личном гении, – он схватывает его, уже пользуясь прямо-таки технической арматурой; во всяком случае, некоторые из вас могут уловить ее, а вот я – нет. Уже эти схватывания различаются между собой. Популярная мелодия в венгерском кафе за углом наряду с Бартоком; очевидно, что для незначительной венгерской мелодии схватывание Бартока будет иным. Но малый ритурнель – он может быть поначалу не звучащим, а музыкант его улавливает как звучащий ритурнель. Например, движение: вы видите двух детей, которые шагают определенным образом, – им нет необходимости петь для того, чтобы получился малый ритурнель.
Вечный объект, если вы попытаетесь определить его, и будет малый ритурнель. Схватывание – это первый уровень актуализации. Схватывание не схватывания, а вечного объекта. Вы видите, каждый раз это раздваивается: мое схватывание малого ритурнеля отсылает к другим схватываниям; это выглядит как актуальный случай. И, с другой стороны, оно является схватыванием вечного объекта, малого ритурнеля, который разносится по воздуху. Но если вы меня спросите, откуда он взялся, то я вам не смогу ответить. Никто не жаждет спрашивать это! Существуют философии, где есть основания задаваться этим вопросом, но не здесь: тут нет ни малейшего основания спрашивать, откуда берется малый ритурнель. На это нам отвечают оскорблениями, ударом палки. Но удар палки – это тоже малый ритурнель.
Лекция 8
(12.05.1987)
Итак, работаем. Мы перешли к теме, где могли бы различать нечто вроде четырех главных критериев субстанции у Лейбница. Критерии субстанции – это означает средства назначения того, что такое субстанция, и такими критериями могли бы быть: логический критерий, эпистемологический критерий, физический, или физикалистский, критерий и психологический критерий. Однако уже здесь нас подстерегают разные виды трудностей. Необходимо их представить и в то же время чуть-чуть продвинуться. Эти трудности заключаются не только в том, что одни из этих критериев отсылают к другим и даже «вставляются» в другие. Но дело в том (и это вторая трудность), что всегда примешивается некое обращение к телу. А ведь это для нас удивительно. Почему? Потому что мы пока совсем не испытывали необходимости говорить о теле. Вы помните? Мы ощущали необходимость говорить о событиях и монадах, причем монады содержат события на правах предикатов. Но монады – это что? Это души или дхи. А зачем монадам иметь тела? Мы даже не приступали к рассмотрению этого вопроса. Откуда это берется – иметь тело? И что это означает – иметь тело? Мы показали, что монады имеют точки зрения, – ну да. И мы долго застревали на идее точки зрения монады и того, что монада неотделима от некоей точки зрения. И возможно, мы чувствуем, что иметь тело и иметь точку зрения – это вещи, не безразличные друг другу. Но чего мы совсем не видим, так это в чем это все состоит, и, вероятно, иметь тело означает нечто иное, нежели иметь точку зрения, даже если две эти вещи взаимосвязаны. И наконец, все эти критерии задействуют не только понятия, которые можно было бы назвать телесными, но и новые для нас понятия. И тут я говорю: необходимо распутать. Это надо распутать, потому что это отнюдь не область, свободная от комментариев; существует много коментаторов Лейбница, и даже величайших комментаторов. И потом, когда мы читаем, мы чувствуем необходимость распутать (и это верно для всех философов, но, может быть, это особенно верно для Лейбница): мы, может быть, не сможем даже уловить, что имеют в виду эти комментаторы, если не попытаемся, в свою очередь, распутать понятия, сколь бы причудливыми они ни представлялись. В точке, где мы находимся, причудливость Лейбница удваивается. И вот тут я предложил бы вам следующее: если вы видите нечто совершенно иное, если вы видите интересного комментатора, не признавайте за ним обязательной правоты, но и за мной не признавайте обязательной правоты. Мы можем сказать, что относительно каждого из нас прав тот, кто позволит вам узнать себя в своих идеях. А если у вас другая идея, которая годится для того, чтобы узнать себя в ней, то она и будет хорошей. Как говорится, существуют вещи, о которых невозможно сказать, но существует и много вещей, о которых сказать можно.
Я говорил вам, что мы знаем логический критерий субстанции, и мы с ним «слегка» попрощались в прошлый раз, но попрощались мы с ним так, что он отбросил нас к проблеме тела. С этого я и хотел бы начать, занявшись этой новой проблемой тела. Одна из прекраснейших фраз Лейбница такова: «Я думал, что вхожу в гавань, а очутился как бы брошенным в открытое море»{ Из «Новой системы природы и общения между субстанциями, а также о связи, существующей между душою и телом». – Лейбниц. Собр. соч. Т. 1. С. 277. Пер. Н.А. Иванцова.}. Что может быть прекраснее? Это само описание философской работы: мы думали, что приплыли, а оказалось, нас вновь бросили в открытое море.
У меня создается впечатление, что «иметь тело» и требование иметь тело осуществляют как раз эту «брошенность в открытое море». Но ведь то, что мы видели в прошлый раз относительно логического критерия субстанции, – подвожу итог – кажется мне относительно ясным.
Сегодня больше, чем когда-либо, прерывайте меня, если встретитесь с чем-нибудь смутным. Я говорил вам, что у Декарта это относительно просто: логическим критерием субстанции служит простота, а это означает, что субстанция определяется сущностным атрибутом, от которого она отличается лишь разумным различием: это либо тело и протяженность, либо дух и мысль. На первый взгляд, здесь перед нами очень хороший пример понятия: до какой степени необходимо быть чувствительным к оттенкам концептов. Но, как я говорил вам, Лейбниц никогда не будет определять субстанцию через простоту.
Хотя он и употребит выражение «простая субстанция», но с запозданием, и употребит он это выражение, лишь когда речь пойдет о том, чтобы отличать простые субстанции, или монады, от других вещей, которые он назовет сложными субстанциями. В этот-то момент он не скажет «субстанция есть простота», он скажет: существуют простые субстанции и субстанции сложные. Но Лейбниц никогда не определяет субстанцию через простоту. Зато он определяет всякую субстанцию через единство. А мы фактически видели, что между простотой и единством существует основополагающее различие. Ведь единство – это активное единство, когда нечто движется или изменяется; единство есть внутреннее единство движения, или же оно представляет собой активное единство изменения. Мы уже чувствуем, что два этих определения не сводятся к одному и тому же. Движение имеет в виду причину движения. Эта причина есть тело. Что же произойдет с этим телом, если до сих пор мы говорили лишь о душах или духах, называемых монадами? Душа или дух претерпевают изменения, ну да. Активное единство внутреннего для монады изменения не доставляет нам трудностей. Но попытка определения единства движения, с необходимостью внешнего для монады, так как оно касается тела, трудности нам доставляет. Последний раз мы их скрыли, потому что еще не дошли до этой темы, но следовало бы вновь обратиться к этим трудностям. Чем это может быть? Все, что мы можем сказать: перед нами качественное изменение, внутреннее по отношению к монаде, оно глубже движения; стало быть, если нам удастся понять, что есть движение, мы догадаемся, что причиной его является качественное изменение, внутреннее для монады.
Откуда же берутся это тело и эта причина? Из активного единства внутреннего изменения. Это и есть спонтанность. А если внутреннее изменение – предикат монады, то это потому, что оно происходит в монаде. Необходимо сказать, что в то же время существует и спонтанность. Что активное единство изменения означает двойную спонтанность: как спонтанность изменяющейся субстанции, так и спонтанность изменения, то есть спонтанность предиката. Мы видели, в чем состояла спонтанность предиката: она была его свойством выйти из момента a в момент b, необходимость для момента a порождать момент b. А значит, между Лейбницем и Декартом развивалась оппозиция. Вы, конечно, уяснили: монада извлекает все из собственных глубин благодаря спонтанности. Это выражение вы находите постоянно. А я напоминаю вам о полемике с Бейлем, которая кажется нам очень важной в этом отношении: душа собаки достает из собственной глубины боль, которую собака испытывает, когда ее тело (опять нас здесь сопровождает ее тело) получает удар палкой. И великолепным ответом Лейбница было: не рассматривайте абстракции, дело совсем не в том, что душа собаки извлекает из своей глубины боль, внезапно к ней приходящую, но дело в том, что душа собаки извлекает из своей глубины боль, которая интегрирует тысячи малых перцепций в душе, – это и определяло ее беспокойство. И я здесь говорю, хорошенько взвешивая свои слова: я действительно полагаю, что Лейбниц – это создатель психологии животных. Психология животных начинается с момента, когда вы не только верите в душу животных, но когда вы определяете ситуацию с этой душой как ситуацию «быть как на иголках». Когда вы прогуливаетесь в сельской местности, надо сыграть в следующую игру (впрочем, можно и в городе): вообразите, что вы животное. Что означает быть животным? Это означает, что вы «как на иголках» будете ждать того, что может внезапно произойти.
Я бы сказал: это то, что Лейбниц в «Новых опытах о человеческом разумении» называет беспокойством, непрерывным беспокойством. Какое животное ест в состоянии покоя? Покой оно ощущать может, но покой животного – это интеграция некоего вечного беспокойства: кто стащит у меня кусок не знаю чего? Посмотрите на беспокойство гиены, на беспокойство грифа. Посмотрите, как животное отдыхает. До какой степени это придает Лейбницу правоту! Лейбниц – первый, кто это увидел, кто сказал: очевидно, у животных есть душа! Почему же он говорит это против Декарта? Дело не в том, что мы можем считать животных машинами: для тех, кто хотя бы немного знаком с Декартом, существует знаменитая теория животных-машин. Мы всегда можем к ней обратиться, это одна из «моделей для сборки». Но чего машине будет недоставать?
Недоставать ей будет как раз животного беспокойства, а именно: мы сможем с помощью искусственных моделей реконструировать все, что хотим от животного, мы заставим робота есть и т. д… Мы сможем также наделить его признаками беспокойства – да-да, в этот момент получается, что определенным образом животное есть нечто иное, нежели робот. Вы можете сыграть в это в сельской местности, это удобнее, чем в городе: вы попадаете на лужайку и говорите себе довольно решительно: я кролик (или кто-нибудь еще, если вы не любите кроликов), и вы пытаетесь слегка вообразить, что такое жизнь этих животных. Ведь их не достигают ружейные выстрелы, а это наделяет Лейбница серьезной правотой: «просто так» из ружья в них не попадешь. Боль от ружейного выстрела – но ведь она приходит в буквальном смысле внезапно, словно интегрируя тысячи малых «позывов» из окружающей среды, а именно: смутная малая перцепция того, что охота началась. Они слышали выстрелы из ружья, более того, они слышали возглас охотников: «Эй, Тото, ты его видел?» Существует особый голос охоты и охотников. Звери видели, как специфически эти люди передвигаются; звери «как на иголках». Лейбниц предлагает нам здесь, отвечая Бейлю, следующую идею: когда я говорю, что душа спонтанно производит собственную боль, я имею в виду попросту следующее: она не получает впечатление боли как чего-то внезапно приходящего извне, когда боль ничто не подготавливает. Впечатление боли мгновенно интегрирует тысячи малых перцепций, которые уже присутствовали и могли бы остаться неинтегрированными. В этот момент кролик доедает свою морковку, то есть его удовольствие прекращается; впрочем, вы видите, как происходит на дне души эта разновидность изменения в монаде, будь то человека или животного. Значит, существует средство наделить концепт маньеризма в философии известной непротиворечивостью. А я вам говорил: по-моему, Лейбниц был поистине первым великим философом, который затронул эту тему дна души. Романтики, может быть, напоминают Лейбница, но до них нам едва ли кто-нибудь говорил о дне души. Или же когда нам о нем говорили, то это было нечто вроде образа. Тогда как в статус души входит то, что «она извлекает все из собственной глубины», это и есть монада. Стало быть, пара маньеристских понятий есть «дно – спонтанность», в противовес классической паре Декарта «форма – сущность». Впрочем, не много продолжим. Первый критерий есть присущность, вы ее узнали, мы с ней столько возились раньше. Присущность, то есть предикаты, располагаются в субъекте, или, если угодно, каждая монада выражает мир, или мир находится в монаде. Вы припоминаете, это инклюзия. У нас есть конечное подтверждение этому, но обратите внимание, что, как правило, предикацию у Лейбница путали с атрибуцией, а они совершенно противоположны друг другу, так как суждение атрибуции есть отношение «атрибут – субстанция» в той мере, в какой атрибут обусловливает сущность субстанции. Присущность – совсем иное: это включение предиката в субстанцию в той мере, в какой субстанция извлекает предикаты и последовательность предикатов из собственных глубин. Предикат не есть атрибут, это событие. Итак, я предполагаю, что все это ясно. Вот он, логический критерий субстанции, который противопоставлен у Лейбница классическому критерию субстанции в том виде, в каком вы находите его у Декарта: субстанция – сущностный атрибут. Воспользуюсь этим, чтобы немного продвинуться вперед. Коль скоро это так, то даже на данном уровне я определяю субстанцию через включение: это то, что включает совокупность предикатов как событий или совокупность предикатов как изменений. Итак, субстанция есть активный источник изменения, она – активное единство изменения. Изменение противостоит в маньеризме неподвижному и жесткому атрибуту субстанции. Здесь же, наоборот, живой источник изменения. Вот вопрос, который я ставлю, и ставлю я его поначалу на латыни, чтобы лучше убедить вас, что все на этом не останавливается, то есть что не все что угодно представляет собой percipi субстанции монады. Percipi – что это означает? Это означает воспринимаемое бытие. Percipere означает воспринимать, percipi – быть воспринятым. Монада выражает вселенную и включает ее, каждая монада включает в себя вселенную. Ее предикаты суть изменения, или же от одного предиката к другому происходят изменения. Перцепции, скажет нам Лейбниц, суть действия субстанции. Уточняю это, потому что впоследствии это будет важным для нас. Мы ведь считали, будто легче сказать, что перцепции – это то, что получала субстанция? Вы видите теперь, что мы не можем сказать этого, – ведь сказать это означает ничего не понять. Мы не можем даже сказать, что именно субстанция получает: ведь она не получает ничего. Все и так в ней. Лейбниц – это последний философ, который может сказать, что субстанция получает перцепции, что она – активное единство.
Вот один из текстов Лейбница на эту тему: «Действие, свойственное душе, есть восприятие, а единство того, что воспринимает (то есть субстанции. – Ж.Д.), происходит от связи восприятий, благодаря которой последующие восприятия вытекают из предыдущих». Мы видели, согласно каким законам последующие восприятия вытекают из предыдущих. Необходимо, чтобы предыдущие восприятия могли породить последующие. Мы видели, что боли у собаки не было; и даже удовольствие, которое собака испытывала от еды, не могло породить боль, каковую ей предстояло испытать, получив удар палкой. Зато малые перцепции, предшествовавшие ударам палкой, порождают боль, которую собаке придется испытать. Итак, почему бы не сказать: не существует ни вещей, ни тел. Существует лишь монада и ее перцепции. Мир – это то, что перципирует монада, то есть то, что находится в монаде. Стало быть, мир есть исключительно «бытие, воспринимаемое монадой»; это то, что воспринимает монада. А тело, мое тело – это область того, что воспринимается монадой, моей монадой. И я мог бы сказать: бытие – это либо бытие монады, либо бытие, воспринимаемое монадой. «Быть» означает «быть воспринимаемым». Это то, что можно было бы назвать идеалистической системой. Все нас к ней подталкивает, потому что вы помните: мир не существует за пределами монад, его выражающих или включающих. Необходимо этого придерживаться, необходимо сюда возвращаться. Вы помните нашу схему: мир – это виртуальный горизонт всех монад , он не существует за пределами такой-то, такой-то, и такой-то монады; количество монад, которые он включает, равно x. Именно это во все времена называется идеализмом.
Коль скоро это так, вещей не существует, существуют перцепции. Не существует ударов палкой, существуют боли. Именно об этом Бейль очень хорошо написал Лейбницу: ну почему же вам так необходимо вмешательство удара палкой? Не будь палки, не будь удара палкой, не будь тела собаки, что изменилось бы?
[Конец пленки.]
Бог может все, а раз так, то зачем Бог сотворил тела, которые очень утомляют, тогда как он мог бы создать только духи, души? Ничего бы не изменилось: собака испытывала бы удовольствие, она испытывала бы всевозможные малые беспокойства, о которых мы говорили, а затем боль интегрировала бы эти малые беспокойства. Все это происходит в душе, стало быть, нет ни малейшей необходимости, чтобы существовала реальная палка. Имелась бы перцепция палки, и палка не существовала бы помимо перцепции палки. Имелась бы перцепция пищи, и пища не существовала бы помимо перцепции пищи. Esse было бы для тела или предмета percipi, то есть «быть воспринимаемым».
Вы понимаете. Я полагал, что добрался до гавани. Монады объясняют тотальность, они объясняют все, что угодно. Достаточно сказать: нет ничего, кроме монад. И все-таки Лейбниц никогда не думал этого говорить, никогда. И это ставит проблему: верно ли, что он мог сказать это? Более того, это сказал другой, что усложняет дело. И это Беркли. Я показываю Беркли в облегченном виде, хотя он знаменит тем, что выдвинул формулу esse est percipi, и тем, что основал идеализм нового типа, согласно которому существуют только души, или только дух. А в начале своей философии он показывает всю свою хватку, утверждая: существуют только ирландцы. Беркли – ирландец, я нахожу это очень важным, потому прежде всего, что это образует связь с Беккетом, который превосходно знал Беркли. Маленькое чудо, которое Беккет сотворил в кино (sic! – Примеч. пер.), прошло под знаком esse est percipi, вот ответ Беккета Беркли; но Беркли проводит время, утверждая: все вы – ирландцы, по крайней мере в своих первых произведениях. И говорит он это не из коварства, он имеет в виду, что существует такая штука в том, что он говорит, которую может понять только ирландец. И вот это меня очень интересует, потому что ставит проблему отношений философа и философии с национальностями. Он видит себя создающим философию для ирландцев, ради использования ирландцами. Ладно, esse est percipi. Именно это он представляет как двойную трансформацию: вещей в идеи и идей в вещи. Или, если вы предпочитаете выразить вещи в чувственных впечатлениях, а чувственные впечатления – в вещах, то не существует ничего, кроме чувственных впечатлений. Что такое стол? Это его percipi, его воспринимаемое бытие. Неважно, что Беркли имеет в виду, это не наше дело. Но что наше дело – так это то, что первые книги Беркли появляются около 1714 года и что Лейбниц, сохраняя колоссальную любознательность, читает их. Что очень интересно, так это его реакция на чтение; я полагаю, это чтение было весьма стремительным. У нас есть пометки ейбница на книге Беркли, который в ту пору был очень молодой философ. Первая реакция Лейбница нехороша, он говорит: это экстравагантный ирландец! Он действительно экстравагантен; этот молодой человек говорит такие вещи, из-за которых, как он считает, он будет казаться интересным. Лейбниц говорит: esse est percipit – это несерьезно. А затем, что более интересно, в своих заметках он отмечает, что это ему вполне подходит и что он тоже мог бы так сказать. Я не говорю, что он сказал это; он всего лишь мог это сказать. Но Лейбниц как раз этого не говорит и не скажет. Мой первый вопрос таков: почему он этого не скажет, притом что первый критерий субстанции позволил бы ему сказать это?
Итак, вот на чем я заканчиваю анализ первого критерия субстанции; необходимо, чтобы это было очень упорядоченным, дабы вы согласились с тем, насколько все сложно. Я заканчиваю: мы выброшены в открытое море. Почему же, рассмотрев этот первый критерий, Лейбниц не просыпается – почему, несмотря на свою старость, он не просыпается берклианцем? То есть не говорит, что существуют лишь монады и их перцепции, так что тела и вещи суть простые percipis. Существуют только души и духи, или их перцепции. Здесь я хотел бы, чтобы вы припомнили кое-что: каждая монада, вы или я, выражает весь мир. Заметьте, что Беркли никогда не сказал бы этого, и вы должны предощутить, почему Беркли никогда этого не сказал бы. Мы выражаем весь мир до бесконечности, каждый из нас выражает его, и мир не существует за пределами всех нас, его выражающих. Но вы помните: у каждого из нас есть небольшая привилегированная область, та, которую Лейбниц называет отделом, зоной, кварталом. Что это такое? Это та часть мира, которую мы выражаем ясно, или, как говорит Лейбниц более таинственно, отчетливо, или, как говорит Лейбниц более обобщенно, которую мы выражаем особенно. Здесь очень интересно изучить лексикон: «особенно», «ясно», «отчетливо», «малая часть мира», то есть законченная порция: «наш отдел», «наш квартал», и только что я вам говорил: ну да, вы обладаете небольшой зоной, например датами, когда вы живете, средой, в какой вы эволюционируете, – это и есть ясная порция того, что вы выражаете. И точно так же, как вы выражаете бесконечность мира, вы выражаете ясно лишь его ограниченную часть. Эта ограниченная часть есть ваша бренность или – если хотите – ваша ограниченность. Почему это ваша ограниченность? Потому что именно это отличает вас от Бога. Если Бог – монада, то дело в том, что, с одной стороны, Он выражает все миры, даже несовозможные между собой, а с другой стороны, в мире, который Он избирает, Он ясно и отчетливо выражает бесконечную тотальность этого мира. Бог обладает всеми областями мира сразу. И все-таки то, что определяет ограниченность такой монады, как вы и я, конечность монады, есть тот факт, что ясно она выражает лишь совсем малую часть мира.
Попытаемся растолковать. Что же я выражаю в мире ясно? Возможно, это то, что… Вы помните, я на этом часто настаивал: предикат у Лейбница, то, что содержится в субстанции, этот предикат менее всего является атрибутом, ибо фактически он всегда – событие, или отношение. Событие – это особо сложное отношение, мы это видели, когда анализировали Уайтхеда в его перекличках с Лейбницем. Но и предикат – всегда отношение. Вот поэтому-то он и не атрибут, который всегда есть некое качество. А вот что чрезвычайно пагубно, так это считать, будто суждение инклюзии у Лейбница – это суждение атрибуции, потому что тогда мы уже совершенно не поймем, что такое предикат для Лейбница, а ведь сказано, что предикат есть отношение и может быть только отношением. Что я выражаю ясно? Существует формулировка, которая подводит итог всему, и мы собираемся использовать ее; в то время, как она должна была бы нам все упростить, она все усложняет. Ничего не поделаешь, мы будем брошены в открытое море. Разумеется, довольно легко и действительно точно было бы сказать: зона, которую я выражаю ясно, – та, что соприкасается с моим телом. То в мире, что я выражаю ясно, есть то, что имеет отношение к моему телу. Мы вновь находим здесь идею отношения. Ясный предикат, включенный в монаду, или совокупность ясных предикатов, которые определяют мой отдел, мою зону, мой квартал, – это множество событий, проходящих сквозь мое тело. Это то, что я обязан выразить особенным образом. Создается впечатление, что сказать это было бы несложно. Но почему Лейбниц этого не сказал, почему он даже не начинал говорить это? Почему в письмах к Арно он пишет: «То, что монада выражает ясно, есть то, что имеет отношение к ее телу»? Вот как: монада имеет тело. Например, монада «Цезарь»: она выражает ясно всевозможные вещи, но вглядитесь хорошенько: все, что она выражает, имеет отношение к ее телу. И так же монада «Адам»: все, что она выражает, все, что она выражает ясно (быть первым человеком, быть в саду, иметь жену, сотворенную из его ребра), все это – то, что имеет отношение к телу этой монады. И вы не найдете в ясных выражениях ничего, у чего не было бы отношения к вашему телу. Это не означает, что то, что вы выражаете ясно, суть феномены вашего тела. Тут дело усложняется.
Здесь-то мы и пускаемся вплавь. Ибо мне представляется неоспоримым: то, что я выражаю ясно, есть то, что имеет отношение к моему телу. Но то, что происходит в моем теле, само мое тело, его я выражаю отнюдь не ясно. Я не могу сказать, что я ясно выражаю движения моей крови, и более того: если и есть нечто смутное для меня, то это мое тело. Итак: такая смутная вещь, и в то же время то, с чем вступает в отношения нечто, что я ясно воспринимаю. Почувствуйте, что статус тела оказывается забавным. Особенно когда зародыш ответа состоит в том, что факт «иметь тело» должен иметь отношение к малым перцепциям. Однако малые перцепции – темны и смутны. То, что я выражаю ясно, связано с интеграцией малых перцепций. И тогда я извлекаю нечто ясное из всех этих темных глубин. Извлечь нечто ясное из темных глубин – очень забавная операция. У Декарта этого никогда не происходит. Это сугубое лейбницианство: ясное – это то, что извлекается из темных глубин. Более того, не существует такой ясности, которая не извлекалась бы из темных глубин. Мы говорили, что это барочная концепция света, в противовес концепции классической. Все это очень логично. Ссылка на тело избавит нас от всевозможных проблем, но вот что я хочу сказать: смотрите, в каком порядке мы можем на него ссылаться. Вот мой вопрос: могу ли я сказать «моя монада», «мой дух»? Я выражаю особенным образом (или ясно) некую область мира, потому что я имею тело и потому что это – именно та область, которая касается моего тела или вступает в отношения с моим телом. Потому ли, что я имею тело, я выражаю ясно часть мира, имеющую отношение к этому телу? Радикальный ответ: нет, невозможно! Почему невозможно? Потому что Лейбниц не был бы Лейбницем, мы говорили бы тогда не о Лейбнице, мы говорили бы о ком-нибудь другом. Мы говорили бы о философии, которая издавна объясняла бы нам, что такое тело. А, как мы видели, здесь путь прямо противоположный. Необходимо сказать что? Ладно, у меня нет выбора, но я в значительной степени предпочитаю вторую пропозицию первой, она разумнее. Необходимо сказать: у меня есть тело, потому что моя душа ясно выражает небольшую область мира. Это – единственное, что я могу сказать.
То, что у меня есть некая область, то есть то, что моя душа выражает ясно небольшую зону мира, – достаточное основание для того, чтобы иметь тело. И получается, что я мог бы сказать в этот момент: да, то, что я выражаю ясно, есть то, что имеет отношение к моему телу, на весьма простом основании: дело в том, что мое тело выводится из ясной области, которую я выражаю. Иными словами, то, что я должен осуществить, есть генезис тела. Этот генезис тела запрещает мне начинать с тела. Вы можете спросить: всегда ли я имею тело? Да, я имею тело всегда; вы, может быть, помните: перед тем как родиться, я имел тело, после моей смерти я буду иметь тело. Вопрос не в том, имею ли я тело всегда, вопрос таков: что из чего проистекает? И порядок для меня незыблем. Почему я выражаю небольшую ясную зону, и в то же время выражаю весь мир, но смутно? Почему я выражаю ясно небольшую область? Мы видели, что ответить: «Потому что я имею тело» – невозможно. Наоборот, потому что я выражаю ясно небольшую область, я имею тело. Генезис тела. Отсюда необходимость вопроса: почему ты выражаешь небольшую ясную область, если это не потому, что ты имеешь тело, а наоборот, потому… тьфу, черт! Наоборот… наконец вы поняли!
Ответ мы видели! Мы видели, что каждая монада построена вокруг определенного количества сингулярностей, продлеваемых в другие сингулярности, вплоть до соседства с ними. Каждая монада построена вокруг определенного количества основных сингулярностей. Я построен вокруг малого количества привилегированных сингулярностей. Сингулярности Адама таковы: быть первым человеком, быть в саду, иметь женщину, рожденную из ребра; поищите другие… Душа каждого конденсируется вокруг ограниченного множества сингулярностей. Почему он выражает неограниченный мир? Потому что эти сингулярности продлеваются до соседства со всеми другими сингулярностями, но каждый из нас построен вокруг небольшого количества сингулярностей. Именно потому, что каждый из нас построен вокруг небольшого количества сингулярностей… Здесь я немного продвигаюсь вперед: ответ никогда не бывает таким, как у Лейбница, но, как мне кажется, его подсказывают тексты, подсказывают столь же выразительно, сколь и просто: если он его дал, то он дал его в текстах, которые до нас не дошли. Однако они все-таки существуют, и их когда-нибудь найдут – это будет обязательно; другие ответы, как мне кажется, невозможны. И все-таки осталось ждать недолго. Мне вообще не следовало этого говорить…
Вы видите генезис: первая пропозиция – разумеется, каждая монада выражает весь мир, подобно каждому индивиду. Что такое быть индивидом? Это означает концентрировать; концентрация – слово, которое Лейбниц употребляет: концентрация ограниченного количества сингулярностей; и все-таки я выражаю весь мир, потому что эти сингулярности опять-таки продлеваемы до соседства с другими сингулярностями. Итак, первая пропозиция: я построен по соседству с определенным количеством сингулярностей, или с детерминированным множеством сингулярностей.
Второе основание: следовательно, это происходит по причине, в силу которой я выражаю определенную часть мира, ту, которая соединяет эти сингулярности, формирующие мир, который избрал Бог, но я делаю свой квартал, или свою зону, свою порцию мира ограниченными моими основополагающими сингулярностями.
Третья пропозиция: я имею тело, потому что я выражаю привилегированную область, так что я мог бы сказать: моя привилегированная область – это то, что имеет отношение к моему телу.
[Конец пленки.]
Мы исходили из монады. Пока что монада для нас – это дух, который выражает весь мир на основаниях разума. Это вы или мы. Мы встречали и животных. Но мы не знаем, что это означает; мы встречали их просто так, потому что давали им вмешиваться. Мы не знаем, что это означает. И вот пример, столь любимый Лейбницем, он вам понравится: радуга, и все такое. Животные и феномены типа света, радуги – вы чувствуете, что они должны быть частью (и ваш вопрос весьма справедлив) генезиса. Они должны внезапно появиться в какой-нибудь момент, но в какой? Мы не знаем, мы еще не знаем, в какой момент. Второй критерий субстанции: субстанция всегда воспринималась как монада, представленная как дух разумного существа. Мы только что видели, что – благодаря первому критерию – монада как дух разумного существа должна иметь тело. А почему она должна иметь тело? Она должна иметь тело, потому что она выражает некую привилегированную область, потому что в ее тотальном выражении присутствует некая привилегированная область.
Второй критерий – эпистемологический. Почему я называю этот критерий эпистемологическим? Мы видели: потому что я настаивал на том, что логика Лейбница состоит в следующем: определение вещи зависит от ее реквизитов. А что такое реквизиты вещи? Это уже нечто очень новое: это конститутивные условия существования вещи. Необходимо отличать конститутивные условия существования вещи от составляющих ее частей. Реквизиты не являются составляющими частями, это условия, каким вещь должна подчиняться, чтобы быть тем, что она есть. Мы уже видели, что и по этому вопросу Лейбниц сцепился с Декартом: ведь у Декарта второй критерий субстанции состоит в том, что одна вещь мыслится без вмешательства элементов другой. С точки зрения Декарта, две вещи являются реально различными, то есть мыслимыми как реально различные, – но мы видели, что в мыслях о реальном различии речь всегда шла об одной и той же вещи, хотя две вещи, мыслимые как реально различные, были отделимы. Декарт мог бы добавить: «то, что отделимо и отделено». Но это – совсем иное. Если что-либо для Декарта является отделимым и отделенным, то это потому, что в противном случае Бог был бы обманщиком. Он заставил бы нас мыслить вещи как отделенные, но не отделил бы их друг от друга. Стало быть, Он лгал бы нам.
Лейбниц во второй раз отвечает: нет! Он говорит: чего Декарт не увидел, так это того, что две вещи могут быть реально различными, то есть мыслимыми как реально различные, однако иметь одни и те же реквизиты, то есть одни и те же конституирующие условия возникновения. Но ведь две вещи, имеющие одни и те же реквизиты, могут быть реально различными, и все-таки они неотделимы. Вот великая идея Лейбница: в мире нет ничего отделимого. Пример: монады. Они являются реально различными, одну можно помыслить без другой, но при этом они неотделимы друг от друга. Почему? Потому что у них одни и те же реквизиты. Какие реквизиты? Общий мир, который они выражают. Каждый со своей точки зрения выражает один и тот же мир; монады реально различны, потому что реально различны их точки зрения. Вы можете помыслить монаду «Цезарь», совершенно не мысля о монаде «Александр»; тем не менее они неотделимы, у них одни и те же реквизиты: они выражают один и тот же мир. Надо полагать, что этот сингулярный реквизит – все сингулярности одного и того же мира – выражается в общих терминах, то есть с логической точки зрения реквизитов. В прошлый раз мы видели, что именно благодаря этому Лейбниц осуществил великое реактивирование Аристотеля, чтобы посмеяться над Декартом. Декарт полагал, будто разделался с Аристотелем и с аристотелевскими абстракциями, говорящими нам: субстанция состоит (как видите, это довольно далеко от Лейбница – составные части) из материи, формы и из сочетания материи и формы. Он добавлял: материя есть способность принимать противоположности, то есть она – изменение, и поэтому субстанция есть единство в изменении; это близко к Лейбницу, ведь один из неприемлемых для Лейбница тезисов есть обладание формой. Значит, форма есть акт, приводящий потенцию в действие, актуализующий потенции, а материя без формы подразумевает лишение. Отсюда условия, при которых вы мыслите трио «материя – форма – сочетание материи и формы», суть различение, оппозиция «обладание – лишение». Это целое множество реквизитов субстанции. И вот что в замысле Лейбница, направленном в то же время на то, чтобы сохранить приобретения картезианства, повернуть их против Декарта и реактивировать Аристотеля, вот как Лейбниц подхватывает эту проблему, представляя ее как проблему реквизитов субстанции. Это – наиболее сложное из того, что я собираюсь сегодня вам сказать; стало быть, мы будем продвигаться довольно медленно.
Чтобы имелась субстанция, прежде всего необходимо, чтобы существовало некое активное единство. Как мы видели, это было связано с первым критерием. Это единство можно извлечь из первого критерия, потому что единство могло бы быть как единством движения, так и единством присущего монаде изменения. Для существования субстанции необходимо, чтобы так или иначе существовало некое единство, активное единство, или спонтанность. Или то, что мы назовем субстанциальной формой, либо совершённым действием, то есть энтелехией (это Аристотелев термин, определять который нет времени, а то мы во всем этом заблудимся). Совершённое действие, или энтелехия, завершенная субстанциальная форма, или совершённая энтелехия, и есть упомянутое активное единство, то есть то, что мы пока что назвали монадой. Это и есть спонтанность. Мы назовем ее изначальной активной потенцией. Вы уже видите, что потенция больше не противопоставляется действию, но переходит в действие, и ей не нужно ничего иного, кроме нее самой, для перехода к действию. Изначальная активная потенция. Почему? Потому что она не способствует переходу в действие никакой потенции и никакой материи, она сама – потенция действия. Лейбниц заимствует это положение у Ренессанса, то есть у аристотеликов, которые примечательно изменили отношение «потенция – действие» таким образом, что сама потенция есть потенция действия. Больше не существует действия, актуализующего потенцию, – существует потенция, переходящая в действие, если ничто не препятствует. Потому-то ее и называют потенцией. Если ничто ей не препятствует, она переходит к действию. Спонтанность активной потенции. Отсюда великолепное выражение Николая Кузанского, философа Ренессанса (ему Лейбниц многим обязан): possest. Для тех, кто знает латынь, possest – это сложное слово, составленное из posse, «мочь», и est, есть. Буквально это означает: потенция, каковая есть не потенция «быть», а потенция, которая «есть», потенция в действии. Итак, possest. У Лейбница вы опять-таки будете непрерывно находить этот термин: изначальная активная потенция. Вы видите, что это не форма, не субстанциальная форма, и к тому же это не форма, воздействующая на материю; это форма, – скажет Лейбниц, – все действия которой являются внутренними. Если ничто не препятствует ей, она переходит к действию. Очень часто Лейбниц говорит нам, что у монады, по определению, есть только внутренние действия. Она активна, а все ее действия являются внутренними. Почему? Из-за принципа включения, из-за принципа присущности. Итак, существует активная потенция, потому что действие не переходит ни на какую внешнюю материю, но сама потенция находится в действии, так как все ее действия являются внутренними. Я бы сказал: субстанциальная форма у Лейбница отождествляется с субстанцией как субъектом, то есть с монадой, то есть с активной потенцией, все страсти которой является внутренними. Вы видели, что такое внутренние действия монады: это перцепции. Перцепции суть действия монады. Только вот вмешивается второй реквизит: верно, что наше отличие от Бога состоит в ограниченности. И мы видели, что подобно тому, как у Лейбница произошло полное перетряхивание отношений «потенция – действие», у него был и отказ от оппозиции «отношение – обладание».