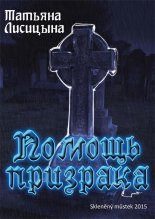Волхв Фаулз Джон
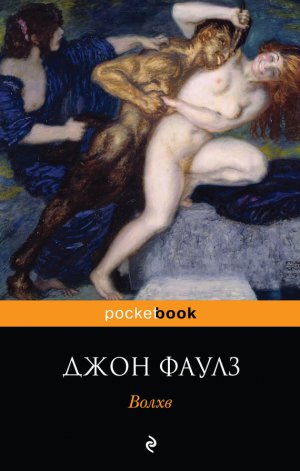
Читать бесплатно другие книги:
«Струны осеннего света пронизывали сквер, на легком ветру шевелились рыжие листья, было тихо, спокой...
«– Ну? И когда ты мне расскажешь? – Агнешка сидела на перилах, отделяющих пешеходную дорожку от буйн...
«– Войны не будет!Слова падают медленно и неотвратимо. Как капли крови с острия кинжала.– Брат! Посл...
«Совладелец частного сыскного агентства «Иголка в стогу» Герман Иванович Солдатов слыл человеком обс...
«Перед сборами нас, конечно, стращали. Мол, кормить будут плохо, рюкзаки шмонать. Могут и на «губу» ...
«Когда я, послав гордость к черту, позвонила Андрею, его уже не было в этом мире. Знать я тогда этог...