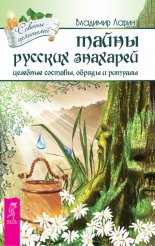Моя жизнь. Фаина Раневская Орлова Елизавета

В 1947 году я снялась сразу в двух фильмах. В «Весне» Григория Александрова я играла эпизодическую роль Маргариты Львовны, тетушки главной героини.
Первоначально моей героине в сценарии отводился лишь один эпизод, в котором Маргарита Львовна подавала завтрак своей племяннице, которую играла Любовь Орлова.
Любочка Орлова! О, она гениальна! Когда в 30-х выдавали паспорта и не требовали никаких документов, она не растерялась и скостила себе десяток лет. Это я, идиотка, все колебалась: стоит ли? Потом подсчитала, что два года я все же провела на курортах, а курорты, говорят, не в счет. Так появился в моем паспорте 1897 год вместо 1895-го. И только! До сих пор не могу простить себе такого легкомыслия.
На тот момент мы были с ней знакомы, нам довелось сниматься вместе с Орловой – в фильме «Ошибка инженера Кочина».
Знакомство же непосредственно произошло на «Мосфильме». Тогда это был «Кинокомбинат» – жуткий недостроенный сарай, всюду строительный мусор, запах известки и сырой штукатурки, вместо скамеек – штабеля свежеоструганных досок, одна ярчайшая лампочка под потолком. И среди всего этого – Любочка в платье из «Петербургской ночи»:
– Я умоляю вас, будьте моей феей!
– Кем-кем? – не поняла я.
– Моей доброй феей, – повторила она ангельским голоском. – Мне предлагают большую роль в музыкальном фильме. Согласиться – значит бросить театр. Я жду вашего решения!
Я недолго думала:
– Сейчас вами любуются ваши близкие и зрители одного театра. А в кино вами будут восхищаться миллионы. Я благословляю вас.
…Александров любил снимать известных актеров и всегда шел им навстречу. «Можете сделать себе роль», – сказал он мне тогда. А я и согласилась и «сделала» роль! «Я возьму с собой «Идиота», чтобы не скучать в троллейбусе!», «Красота – это страшная сила!», «Скорую помощь! Помощь скорую! Кто больной? Я больной. Лев Маргаритович… Маргарит Львович…» – мои новые фразы пополнили народный фольклор. На просмотрах этой скучноватой вялой комедии публика в зрительном зале оживлялась при моем появлении на экране, а также Ростислава Плятта.
Плятт… Это настоящий клад, а не актер! Впервые нас свела судьба на съемках «Подкидыша», а потом нам было суждено всю жизнь вместе сниматься в фильмах, играть на сцене одного театра – театра имени Моссовета, где зрители нас запомнили в первую очередь по дуэту в спектакле «Дальше – тишина».
Григорий Александров был режиссером требовательным. Он не делал исключений ни для кого, в том числе и для своей супруги, с которой они всегда общались на «вы» и по имени-отчеству.
В «Весне» сцена, в которой восторженно-взволнованная героиня Орловой лежит на спине в своей комнате, закинув голову, Александров пытался максимально усилить эту сцену, используя для этого все возможные средства. Манипулировал освещением, бесконечно искал новые, нестандартные ракурсы. Только и слышались его возгласы: «Любовь Петровна, еще раз!». В общей сложности Орлова несколько часов пролежала в заданном положении, не меня позы и, не жалуясь на усталость, пока сцена не была снята.
Я безумно благодарна ей и Александрову, что взяли меня на съемки в Прагу. Я повидала брата, с которым не виделась тридцать лет! Студия «Баррандов» – бывшая немецкая, с роскошными павильонами и самой лучшей техникой. А по возвращении в Москву снова ледяные павильоны «Кинокомбината»… Я тогда нарисовала для Любочки «картину»: изобразила себя Маргаритой Львовной в валенках, в ушанке и подписала: «Ваш Фей». Это непременно демонстрировалось гостям. Пока я не выразилась однажды: «Орлова превосходная актриса. Одно у нее плохо – голос. Когда она поет, кажется, будто кто-то писает в пустой таз». Григорий Васильевич еще позвонил мне, затеяв этот свой шедевр – «Русский сувенир»:
– Фаиночка, для тебя есть чудная роль – сплошная эксцентрика! Ты сыграешь бабушку Любочки.
– Гриша, побойся Бога, – не удержалась я. – Мы же с Любочкой ровесницы. Ты подумал, сколько лет должно быть этой бабушке?!
На съемках «Весны» я и Любовь Орлова подружились. Вот письмо, написанное Орловой в сентябре 1947 года из Венеции, где они с мужем представляли свое детище на международном кинофестивале:
«Дорогая Фаина Георгиевна!
…Вчера закончился фестиваль. «Весна» получила премию. На Ваших кусках очень смеялись. Вы чудная актриса, и я Вас очень люблю… Венеция с водяными улицами меня не устраивает для жизни. Завтра едем в Милан и Флоренцию. Затем в Рим. Думаю, числа 1-ого будем в Москве, если не поедем во Францию. Впечатлений очень много. Все Вам расскажу при встрече. Целую Вас, дорогая. Гриша тоже Вас целует. Самый сердечный привет от нас Павле Леонтьевне. Ваша Л. Орлова. 16.IX .47. Венеция».
Любовь Орлова! Да, она была любовью зрителей, она была любовью друзей, она была любовью всех, кто с ней общался. Мне посчастливилось работать с ней в кино и в театре. Помню, какой радостью для меня было ее партнерство, помню, с какой чуткостью она воспринимала своих партнеров, с редкостным доброжелательством. Она была нежно и крепко любима не только зрителем, но и всеми нами, актерами. С таким же теплом к ней относились и гримеры, и костюмеры, и рабочие – весь технический персонал театра. Ее уход из жизни был тяжелым горем для всех знавших ее. Любочка Орлова дарила меня своей дружбой, и по сей день я очень тоскую о дорогом моем друге, любимом товарище, прелестной артистке. За мою более чем полувековую жизнь в театре ни к кому из коллег я не была так дружески привязана, как к дорогой доброй Любочке Орловой.
Орден за роль в кинофильме «Весна» я должна была получить в Кремле. Задолго до события составлялись подробные списки. Там указывалось все: год и место рождения, образование, работа, семейное положение и номер паспорта. Потом, недели за две, ставили в известность, когда и к каким воротам явиться. Помню, часам к двум у Боровицких, в садике, выстроился длинный хвост – никого не пускали, пока не выйдет время. Затем начали сличать фотографии в паспорте с наружностью, номера и прописку со списками… Пройдешь ворота – дальше ни с места, жди, пока всех проверят. Возле нас дюжина кагебешников в форме. Шестеро встали впереди, шестеро сзади – и повели колонну ко Дворцу.
«Как заключенных, – подумала я. – Только ружей конвою не хватает».
– Подтягивайтесь, товарищи! – торопили нас.
Всем-то любопытно, так и хотелось повертеть головами по сторонам, но нельзя! У входа во Дворец снова началась дотошная проверка. Все уже измотались – сил нет. Наконец поднялись по лестнице, появился Георгадзе. Расплылся в улыбке, сказал мне что-то об особом удовольствии, я тоже заулыбалась, а сама думаю:
«Скорей бы все это кончилось».
И бокал шампанского не поднял настроения… А главное, дальше – то же самое, но в обратном порядке.
– Теперь-то зачем? – закипала я. – Ну, каждый получил свое, ничего не украл, отпустите душу с Богом!
Нет, те же подозрительные взгляды, каменные лица, будто и «Весну» никогда не видели.
После «Весны» я снялась у Григория Александрова еще раз – два года спустя. В фильме «Встреча на Эльбе» мне досталась роль алчной американской генеральши Мак-Дермот. Сюжет агитки, снятой любимым режиссером Сталина, можно выразить одной фразой: советские люди хотят мира, а вот в Америке это желание разделяют далеко не все. Мне снова достался «характерный типаж», несмотря на то, что я никогда не видела американских генеральш.
В том же году я сыграла Мачеху в знаменитой сказке «Золушка» режиссера Надежды Кошеверовой. Эта картина – из немногих, принесших мне настоящую радость. В моей мачехе зрители узнавали, несмотря на пышные средневековые одежды, сегодняшнюю соседку-склочницу, сослуживицу, просто знакомую, установившую в семье режим своей диктатуры. Это бытовой план роли, достаточно злой и выразительный. Но в Мачехе есть и социальный подтекст. Сила ее, безнаказанность, самоуверенность кроются в огромных связях…
Одна из самых замечательных сцен в фильме с моим участием – это, безусловно, охота за знаками внимания короля и принца на балу. В этой сцене все было смешно: и то, чем занимается милое семейство, и то, как оно это делает. По сценарию дочки сообщают матери о знаках внимания, и та, зная силу документа, немедленно фиксирует в блокноте каждый факт.
Автор сценария – Евгений Львович Шварц, как никто другой, болезненно бережно относившийся к каждой фразе, каждому слову в сценарии, разрешил мне творить отсебятину. Там была еще такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья – это я сама придумала: мне показалось очень характерным для Мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть в зеркало, прикладывая к голове различные перья и любоваться собой. Но для действия мне не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал руку:
– С Богом!
Однажды во время съемок «Золушки» я обронила в траву свое кольцо и громко объявила:
– Я с места не сдвинусь, пока мы его не найдем! – Все поняли, что спорить бесполезно, опустились на четвереньки и начали ползать в поисках перстня, ругаясь себе под нос. Искали всей группой около часа. А когда нашли, я вновь пришла в хорошее расположение духа, расцеловала всех и пригласила на чай.
Наверное, я порой была совершенно невыносима для окружающих. Но мало кого так нежно и преданно любили друзья, мало кто вызывал такие теплые чувства у публики. Любовь эта порой принимала неожиданные формы и была под стать самой моей натуре. Однажды в доме отдыха мне нездоровилось, и я не смогла участвовать в самодеятельном концерте. Наутро ко мне в комнату пришла некая дама и сказала:
– Вы мне испортили весь вечер…
– Помилуйте, я же не выступала! – ответила тогда я, действительно не чувствуя за собой никакой вины.
– Вот этим как раз и испортили…
Среди других моих работ в послевоенные годы стоит отметить роль в драме «У них есть Родина», поставленной по пьесе Сергея Михалкова. Фильм рассказывал о том, как советские разведчики, разыскав на территории Западной Германии оказавшийся под присмотром английской разведки сиротский приют с советскими детьми, добиваются возвращения детей на родину…
Да, фрау Вурст у меня получилась. Вурст – по-немецки колбаса. Я и играю такую толстую колбасу, наливающую себя пивом. От толщинок, которыми обложилась, пошевелиться не могла. И под щеки и под губы тоже чего-то напихала. Не рожа, а задница! Но когда я говорю о михалковском дерьме, то имею в виду одно: знал ли он, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения на Родину, прямым ходом отправляли в лагеря и колонии? Если знал, то тридцать сребреников не жгли руки?
А еще тогда мне предлагали работать на телевидении. В ответ я махнула рукой. Только мне и лезть на телевидение. Я пыталась отшутиться: «Представляете – мать укладывает ребенка спать, а тут я со своей мордой из телевизора: «Добрый вечер!». Ребенок на всю жизнь заикой сделается… Или жена с мужем выясняют отношения, и только он решит простить ее – тут я влезаю в их квартиру. – Боже, до чего отвратительны женщины! – подумает он, и примирение не состоится. Нет уж, я, скорее, соглашусь станцевать Жизель, чем выступить по телевидению. С меня хватит и радио. Утром, когда работает моя «точка», я хоть могу мазать хлеб маслом и пить чай, не уставясь, как умалишенная, в экран. Да у меня его и нет. К соседу, Риме Кармену, не пойду. К Галине Сергеевне Улановой можно, но вдруг ей из-за меня придется менять планы? Вот, пожалуй, к кому можно смело идти, так это к Лиде Смирновой. Она мне будет рада искренне, без притворства. Когда мы с ней снимались в михалковском дерьме «У них есть Родина», мы так дружно страдали по своим возлюбленным – слезы лились в четыре ручья!
«Похоронные принадлежности»
Буквально тотчас же по возвращении из эвакуации в Москву я получила приглашение в Московский театр Революции. Позже он стал Театром драмы, а потом и вовсе Московским академическим театром им. Владимира Маяковского. Приглашение исходило от Николая Павловича Охлопкова, недавно назначенного главным режиссером театра. Он рассказал мне, что хочет поставить спектакль по раннему, ныне почти позабытому, рассказу Чехова «Беззащитное существо».
– Кто лучше вас может сыграть в чеховском спектакле? – сказал Николай Павлович, предложив мне роль Щукиной.
Те, кому довелось видеть меня в этом спектакле, утверждали, что никогда прежде я не играла столь бесподобно. Актеры других московских театров просили Охлопкова показывать «Беззащитное существо» поздно вечером, после двадцати двух часов, чтобы иметь возможность насладиться этим великолепным зрелищем после работы.
Летом 1945 года я попала в Кремлевскую больницу с подозрением на злокачественную опухоль. К моей радости опухоль оказалась доброкачественной, и в сентябре того же года я вернулась на сцену Театра драмы.
Лучшей моей ролью в Театре драмы стала роль Берди в пьесе Лиллиан Хелман «Лисички», поставленной в 1945 году. Драма американской писательницы, активной участницы антифашистского демократического движения, дважды посещавшей Советский Союз, рассказывала о семействе нуворишей, одержимом жаждой наживы. Действие происходило в период реконструкции Юга. Вечная тема – губительная власть денег – неспроста так заинтересовала меня. Дело в том, что читая эту пьесу, я вспоминала свою собственную семью, свое детство, свою юность. Одиночество главной героини по прозвищу Берди, что в переводе с английского означало «птичка» тронуло меня до глубины души. Она просто задыхалась в гнетущем мирке, основанном на власти денег. Это не могло не затронуть сокровенных струн в моей душе.
В голове так и звучат слова:
– Двадцать два года и ни одного счастливого дня!
Сколько разговоров состоялось в одной гримировальной уборной театра драмы!
На гастролях нас часто селили в одном номере с другими актерами. Я получала много радости от общения с ними, несмотря на слухи о моем нелегком характере. Я всегда любила говорить образно, иногда весьма озорные вещи. Высказывала их с большим аппетитом и смелостью, наверное, в моих устах это звучало как-то естественно. Хотя я знала, что в гримерке присутствовали артисты, не любившие и никогда не употреблявшие подобных слов и выражений. Меня это не смущало, и поэтому, высказавшись от души, я всегда добавляла:
– Ах, простите, миледи, я не учла, что вы присутствуете!
В Театре драмы я сыграла и много других ролей – от бабушки Олега Кошевого в спектакле «Молодая гвардия» по одноименной книге Фадеева до жены ученого Лосева в пьесе Александра Штейна «Закон чести». Фадеев однажды признался Николаю Охлопкову: «Образ бабушки Олега Кошевого создал не я, а Фаина Раневская!».
А в пьесе Штейна «Закон чести» нам вместе с Клавдией Пугачевой неожиданно пришлось играть одну роль – Нины Ивановны, жены профессора. Первоначально на эту роль была назначена я.
Мой первый выход сразу же пленял публику. Я выходила, садилась за пианино, брала один аккорд и под звучание этого аккорда поворачивала лицо в зал. У меня было такое выражение лица с закатанными кверху глазами, что публика начинала смеяться и аплодировать. Когда я брала второй аккорд и с бесконечно усталым выражением опять поворачивалась к залу. Смех нарастал. Дальше играть было уже легко, так как зрители были в моей власти. Играла я эту роль прелестно, как все, что она делала на сцене.
За роль Лосевой в 1949 году мне была присуждена Сталинская премия второй степени, первая Государственная премия в моей жизни. Пятьдесят тысяч рублей по тем временам были огромными деньгами, несметным богатством!
Звания народной артистки РСФСР Фаина Георгиевна я была удостоена двумя годами раньше – 5 ноября 1947 года, в преддверии празднования тридцатилетнего юбилея Октябрьской революции. В СССР любили награждать отличившихся к очередной революционной годовщине. Разрушив до основания «мир насилья», большевики принялись создавать мир новый, с новыми традициями.
Всего Сталинских премий у меня три. Про первую уже было упомянуто, вторую – так же второй степени – я получила в 1951 году за исполнение роли Агриппины Солнцевой в спектакле «Рассвет над Москвой», а третью – Сталинскую премию третьей степени – мне дали в том же, 1951 году за исполнение роли фрау Вурст в фильме «У них есть Родина».
Все свои награды я называла похоронными принадлежностями или похоронными причиндалами. Все, кто слышал это впервые, понимали слишком буквально.
Что я вам – статуя?
До меня не единожды доходили слухи, будто бы режиссеру работать со мной было невероятно трудно. Так оно и было: я обожала вмешиваться в вопросы режиссуры, обсуждать трактовку роли, по несколько раз переписывать текст, придумывать всяческую «отсебятину»… Режиссеры то и дело слышали от меня, «испорченной Таировым» актрисы, такие фразы:
– В этой сцене я не буду стоять на одном месте! Что я вам – статуя?
– Я должна смотреть в глаза партнеру, а не отворачиваться от него! Ну и что, что там зрители? Вот вы, когда сейчас разговариваете со мной, вы куда смотрите – на меня или в зрительный зал?
– Уйти просто так моя героиня не может. Она должна оглядеть всех с торжествующим видом и только после этого покинуть сцену!
– Что это за чушь?!
– Этого я произносить не буду!
И не только режиссерам доставалось от меня. Другие актеры, декораторы, гримеры, осветители – каждая сестра получала по серьгам. Я была очень требовательна к себе и так же относилась ко всем, кому «посчастливилось» работать со мной рядом. Репетиции для меня были столь же важны, как и выступление перед зрителями, я никогда не терпела спешки, небрежности, фальши.
Некоторые считали меня придирой и склочницей, которая, вместо того чтобы играть роль, цепляется к мелочам, к совершенно незначительным деталям, например к цвету платка, который мой партнер доставал из кармана на сцене… Какие мелочи! Но для меня мелочей не существовало. Была роль. Был образ! Образ живого, настоящего человека, которого следовало сыграть так, чтобы зритель не заметил игры, не видел на сцене актрису, а видел Маньку-спекулянтку или, к примеру, Вассу Железнову. Мелочей нет – есть детали, соответствующие образу, и есть детали, ему не соответствующие, вот и все. Да и кто вообще сказал, что детали, нюансы, штрихи – не значительны, не важны? Ведь по большому счету все люди одинаковы, лишь эти самые нюансы делают их разными, отличными друг от друга.
Слухи о моем скверном характере были обусловлены тем, что я всегда действовала открыто. Громко, прилюдно, говорила вслух все, что думала и чувствовала. Сплетничать «на ушко», исподтишка распространять порочащие слухи, интриговать, сколачивать группировки, юлить, выгадывать – все это было не по мне.
Я без преувеличения шла по жизни, как и по сцене – так же гордо подняв голову. Я жила и действовала открыто, а мои противники всегда действовали исподтишка. Так ведь надежнее и удобнее. Сладчайшие улыбки в лицо – и гадости за спиной. Все в рамках приличий, как полагается.
А еще меня, видимо, боялись. Ведь я могла припечатать одним словом. Да не припечатать – убить наповал.
«Помесь гремучей змеи со степным колокольчиком», «Маразмист-затейник», «Третьесортная грандиозность», «Не могу смотреть, когда шлюха корчит невинность» – все это мое авторство.
Мой путь на сцену был долог и тернист. Ради своей профессии, своего призвания мне пришлось преодолеть множество преград. Пойти на разрыв с семьей, снова и снова стучаться в захлопывающиеся перед ней двери, ведущие на сцену, выжить в годы Гражданской войны, да не в Москве, где хоть и было голодно, но не было такой свистопляски смерти, как в Крыму, многократно переходившем из рук в руки… Чего стоило одинокой слабой женщине выжить в это суровое время, выжить тогда, когда «вихрь революции» гулял по стране, сметая все на своем пути?
Выжить в таких условиях, не опуститься, не потерять себя, а наоборот – шатаясь от голода, выходить на продуваемую насквозь сцену и играть, играть и играть. Разве могла я после этого работать спустя рукава или спокойно смотреть на то, как это делают другие? Нет, конечно!
И сколько же раз моя требовательность и ответственность оборачивались против меня же самой!
Юрий Завадский, подобно всем творческим натурам, был неоднозначным, сложным человеком. С одной стороны, он охотно привечал в своем театре опальных актеров и режиссеров (например – Этель Коневскую, Аркадия Вовси, Леонида Варпаховского), с другой – благоволил откровенным мерзавцам и подхалимам. Он ценил меня за мой талант и ненавидел за мой характер.
Моя популярность никак не могла зависеть ни от режиссеров, ни от тех, кто руководил культурой, зачастую ничего в ней не понимая. Меня признавал и любил народ, не нуждавшийся в посредниках и указчиках для выражения своей любви. Но вот роли, награды, статьи в прессе – это зависело. И здесь меня обделяли как могли: не давали ролей, обходили наградами и похвалами. Награды и похвалы мало что значили для меня, но вот роли… Без ролей, без сцены я просто задыхалась.
Завадский часто собирал труппу для бесед. Повод мог быть самый разный: новые стихи Расула Гамзатова или Евгения Евтушенко, ремарковская «Триумфальная арка», недавно прочитанная Юрием Александровичем, или даже… его вещий сон, бывало и такое. Беседы, по сути дела, были монологами Завадского. Величественными, напыщенными, картинными – он умел это. Я туда не ходила. Мне как-то задали вопрос:
– Фаина Георгиевна, а почему вы не ходите на беседы Завадского о профессии артиста? Это так интересно!
Другая актриса на моем месте уклонилась бы от ответа или придумала бы какую-то отговорку. Но я же ответила:
– Голубушка, я не терплю мессы в борделе. Да и что за новости?! Знаете, что снится Завадскому? Что он умер и похоронен в Кремлевской стене. Бедный! Как это, наверное, скучно – лежать в Кремлевской стене – никого из своих… Скажу по секрету: я видела его гипсовый бюст. По-моему, это ошибка. Он давно должен быть в мраморе.
А ведь принято считать, что режиссер – это фигура. В любом театре, от известного столичного до театра юного зрителя в каком-нибудь провинциальном городе. Режиссеру положено быть требовательным, суровым, нетерпимым к актерской бездарности, а актерам положено знать свое место и отношений с режиссером не портить. А то ролей не будет. Ни хороших, ни плохих. А без ролей актер – не актер, а так… ходячее недоразумение.
«Шо грыте?»
В 1949 году главный режиссер Театра имени Моссовета Юрий Александрович Завадский пригласил меня в свой театр.
Завадский, одно время бывший мужем Ирины Вульф, моей ближайшей подруги, знал меня еще с довоенных времен, когда судьба ненадолго свела нас в Центральном театре Красной Армии. Именно так тогда назывался Театр имени Моссовета.
Завадский готовился ставить спектакль по комедии И. А. Крылова «Модная лавка». В те времена охоты на «безродных космополитов» обращение к творческому наследию великого русского баснописца, весьма уважаемого коммунистическими идеологами за беспощадное высмеивание дворянских нравов, было беспроигрышным и политически верным шагом. К тому же, Иван Андреевич Крылов не писал скучного, и постановка его пьесы гарантированно привлекла бы зрителей.
В «Модной лавке» я играла роль госпожи Сумбуровой, «степной щеголихи, которая лет 15 сидит на 30 году. Вдобавок своенравной, злой, скупой, коварной, бешеной…». Я, по своему обыкновению, вложила в образ чванной и глупой дворянки весь свой талант, и Сумбурова в моем исполнении удалась, как говорится.
В 1949 году я ушла из Театра Драмы и поступила на работу в Театр им. Моссовета. Здесь я играла очень мало. Репертуар театра состоял из рядовых, а порой и просто бесцветных и скучнейших спектаклей, приуроченных к очередным советским праздникам. С большим трудом меня уговорили на роль старухи в спектакле «Рассвет над Москвой». Моя героиня по сценарию представляла этакую матерь-совесть, режущую правду-матку. От скуки и раздражения я превратила свою роль в капустник на заданную тему, и каждое мое появление на сцене сопровождалось аплодисментами.
Как-то мне достался эпизод в пьесе «Шторм». На первую же репетицию я принесла огромный талмуд. Все знали: я переписываю роль от руки. Я принесла десятки вариантов каждого кусочка, чуть ли не каждой реплики своей роли. Я почти полностью переписала текст, Завадский замер.
– Фаина… но драматург, что он скажет? – недоумевали коллеги.
Драматург прочитал, побагровел и стал так хохотать, что все испугались.
– Здесь ничего нельзя менять, – сказал он, – все оставить… как у Раневской.
На следующий день я принесла еще несколько вариантов.
– Оставьте ее, – сказал драматург, – пусть играет, как хочет и что хочет. Все равно лучше, чем она, эту роль сделать невозможно.
Моя игра в эпизоде в Шторме была очень яркой и затмевала всех остальных актеров, включая и исполнителей главных ролей. Завадский не хотел мириться с этим, и вскоре лишил меня роли.
Все это, конечно же, не могло устраивать меня, и в 1955 году я покинула театр. Уход из Театра имени Моссовета в первую очередь был вызван напряженными отношениями с самим Завадским и его ведущей актрисой, его «примой» Верой Марецкой. Они не могли спокойно взирать на ту популярность, которой пользовалась я, и не желали работать вместе со столь «неудобной особой».
Все произошло интеллигентно, без скандалов и выноса сора из избы. Мы даже сохранили между собой видимость дружеских отношений. Просто Завадский несколько раз намекнул, что он не слишком удерживает меня и не станет возражать против моего перехода в другой театр.
А я и перешла в театр Пушкина – бывший Камерный театр. Одной из причин было то, что именно в Камерном я когда-то начинала свою карьеру. Однако от старого Таировского театра ничего не осталось.
Здесь я проработала до 1963 года, но затем ушла и отсюда… Возможно, трепетно лелея в душе память о работе с Таировым, я надеялась на то, что сами стены бывшего таировского театра помогут мне. Разумеется, я очень боялась возвращаться в театр, где когда-то начинала свою московскую карьеру! Меня уговаривали, убеждали. Говорили, что того Камерного театра давно уж нет. Говорили, что он перестроен. Говорили много…
Перестроили зрительный зал, устроенный Александром Яковлевичем в стиле строгого модерна. Перестроили так, что от того, прежнего, не осталось и следа. Точнее говоря – не перестроили, а испортили, изувечили, испохабили в любимом советском стиле помпезного мещанского ампира.
С благословения верхов этот ужасный стиль с его канелюрами, с его псевдоконическими завитушками, с огромными тяжелыми «ветвистыми» люстрами и с креслами, обитыми плюшем, мгновенно расползся по всей стране – от Кремлевского дворца съездов до привокзальных ресторанов в глухой провинции.
При виде того, во что превратился бывший зрительный зал бывшего Камерного театра, мне захотелось плакать. Я оглядела сцену – сцена была та же, что и прежде. Я далеко не сразу решилась снова ступить на нее…
Самым же большим потрясением, или вернее сказать – разочарованием, стали для меня мои партнеры, актеры пушкинского театра. Увидев их, я окончательно поняла, что от таировского театра действительно ничего не осталось! Ни-че-го!
Я вспомнила актеров Камерного, как мужчин, так и женщин. Их фигуры были выразительны, грация непринужденна, а пластика – просто бесподобна! Любуясь своими бывшими коллегами, я в глубине души всегда ждала, что Таиров в скором будущем возьмется за постановку балета. Если не «Лебединого озера», так хотя бы «Дон Кихота» точно!
В новом театре мне сразу же дали роль в спектакле «Игрок» по Достоевскому, кстати говоря, одному из любимых моих писателей. Я сыграла в этом спектакле бабушку Антониду Васильевну – роль неоднозначную, трагичную. Властная старуха, настоящая русская помещица, хоть по болезни и не встающая с кресла, упивается своей властью над теми, кто ждет не дождется ее смерти. Внезапный ее отъезд в Европу стал подлинной катастрофой для алчных наследников ее состояния, прожигающих в игорных заведениях не только деньги, а всю свою жизнь… Антонида Васильевна отказывает всем им в деньгах, упрекнув: «Не умеете Отечества своего поддержать!», и, желая, чтобы никто больше не ждал ее смерти, проигрывает в рулетку все свое состояние.
Хорошо поставленный спектакль «Игрок» имел огромный успех главным образом благодаря моему участию. Зритель, что называется, «шел на Раневскую».
В Театре имени Пушкина я проработала недолго. Юрий Завадский… позвал меня обратно. Да-да, позвал. Правда, не лично, а через посредника – Елизавету Метельскую. Причина такого неожиданного поступка была самой банальной: с моим уходом Театр имени Моссовета потерял значительное количество своих зрителей, тех самых, которые «ходили на Раневскую». Потеря была столь существенной, что главный режиссер театра наступил на собственные амбиции и завел со мной переговоры о возвращении.
Поначалу моя реакция была категоричной:
– Слушать не хочу ни о Завадском, ни о его театре, даже уборщицей туда не пойду!
Метельская передала мои слова Завадскому и на этом сочла свою миссию парламентера исполненной. Однако через некоторое время я по собственному желанию сказала ей:
– Я бы вернулась в театр Завадского, если бы мне предложили что-то из Достоевского. Я продолжаю сама с собой играть Антониду Васильевну, но чувствую, что созрела сыграть Марию Александровну. Недавно перечитывала «Дядюшкин сон» – так хочется побывать Марией Александровной!
Конечно же, причина перемены решения крылась не столько в Достоевском, сколько в том, что на новом месте, в Театре имени Пушкина, у меня возникли такие же напряженные отношения с руководством, что и на прежнем месте. Главный режиссер Борис Равенских и его ведущая актриса Вера Васильева были недовольны тем, что я получала львиную долю зрительских симпатий.
И снова все делалось в рамках приличия – ни споров, ни ссор, ни скандалов… Так же, как и в Театре имени Моссовета, меня оставили без ролей. Классическое решение: перекрой артисту кислород и не придется его выгонять со скандалом – он уйдет сам.
Весной 1960 года я сыграла свою последнюю роль в Театре имени Пушкина – Прасковью Алексеевну в пьесе Алексея Толстого «Мракобесы», после чего осталась совсем без ролей.
Как и когда-то, в довоенное время, я не стала сидеть, сложа руки. Я ушла в кино на пять лет, благо там для меня роли находились.
Следующей моей ролью стал великолепный образ Маньки-спекулянтки, классической одесской торговки в пьесе Владимира Билль-Белоцерковского «Шторм». Билль-Белоцерковский был активным участником октябрьских событий 1917 года, участником Гражданской войны, партийным работником. Разумеется, он писал правильные, с точки зрения коммунистической идеологии, скучные пьесы. Новатор в душе, Владимир Билль-Белоцерковский стремился выразить возвышенную сущность революционной эпохи в новых формах драматургии, напрочь отрицая всякое значение театральных традиций и классического наследия.
Моя фраза «Шо грыте?» доводила зал до исступления. Когда меня спросили, как мне удалось столь достоверно, столь блистательно сыграть Маньку, я сослалась на свой опыт «спекуляции» времен Гражданской войны. Однажды я сделала роль спекулянтки Маньки, которая то и дело повторяла: «Шо грыте? Шо грыте?» так, что Завадский был недоволен:
– Эпизодический персонаж стал чуть не главным! – возмущался он, желая снять меня с роли. – Вы слишком хорошо играете!
– Если надо в интересах дела, я могу играть хуже! – ответила я.
За десятилетия совместной работы я хорошо изучила его характер и выражала свои чувства в яркой, свободной форме. Однажды Завадский закричал мне из зала:
– Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел!
– То-то у меня чувство, что я наелась дерьма! – парировала я.
Я, видимо, многим мешала – и своим талантом, и тяжелым характером. Подолгу в театрах не служила. В театре меня любили талантливые, бездарные же ненавидели, шавки кусали и рвали на части.
Однажды театральный критик Наталья Крымова спросила меня:
– Фаина Георгиевна, почему вы так долго кочевали по театрам?
– Искала святое искусство, – ответила я.
– Нашли?
– Да.
– Где?
– В Третьяковской галерее.
Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть
Я никогда не была богатым человеком. Но не потому, что мало получала, – просто, как в юности, так и не научилась правильно распоряжаться деньгами. Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть. Вещи покупаю, чтобы дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я, наверное. Я могла спокойно прийти в театр с гонораром за съемки и все раздать. Домработницы то и дело обсчитывали меня, пользуясь моей наивностью.
– Где сто рублей? – бывало, спрашивала я у помощницы по хозяйству.
А та отвечала:
– Что вы все о деньгах думаете? Это же зло. Я вот папиросы и зубную пасту купила.
Подобные диалоги случались довольно часто. Но я не только не наказывала обнаглевших женщин, а еще и делала им подарки. Приобретя как-то большую двуспальную кровать, я, спавшая до этого чуть ли не на раскладушках, тут же подарила ее домработнице, выходившей замуж. А однажды помощница, собираясь на свидание, решила нарядиться в висевшую в прихожей шубку Любови Орловой, в тот вечер сидевшей у Раневской в гостях. Пришлось хозяйке дома четыре часа развлекать Любовь Петровну разговорами и просить задержаться еще на чуть-чуть, пока не раздался хлопок входной двери, и шуба не вернулась на свое место на вешалке.
Своим гостям и посетителям я могла засунуть духи или салфеточки в карман. Придя домой и обнаружив у себя «гостинец», они, наверное, были приятно удивлены. У меня была какая-то странная потребность делиться. Дверь в мою квартиру всегда была открыта днем и ночью. Этим всегда пользовались «добрые люди».
Нередко ко мне за чем-то обращались. Я могла позволить себе ответить и в таком жанре, если, конечно, мне было «чревато».
– Фаина Георгиевна, Вы ведь добрый человек, вы не откажете.
– Во мне два человека, – отвечала я. – Добрый не может отказать, а второй может. Сегодня как раз дежурит второй.
А однажды в квартиру позвонил молодой человек и, сказал, что работает над дипломом о Пушкине. На эту тему я была готова говорить всегда. Он стал приходить чуть ли не каждый день. Приходил с пустым портфелем, а уходил с тяжеленным. Вынес половину библиотеки. Я, разумеется, знала об этом. И почему я на это не реагировала? Почему? Я ему страшно отомстила! Когда он в очередной раз ко мне пришел, я своим голосом в домофон сказала:
– Раневской нет дома!
Однажды, получив в театре деньги, я поехала к вернувшейся из эмиграции Марине Цветаевой. Зарплата была выдана пачкой. Я подумала, что сейчас я ее и разделю, а Марина Ивановна, не поняв, взяла всю пачку и сказала:
– Спасибо, Фаина! Я тебе очень благодарна, мы сможем жить на эти деньги целый месяц.
Тогда я пошла и продала свое колечко. Вспоминая об этом, я ловлю себя на мысли, что как же я была счастлива, что не успела тогда поделить пачку! Как-то раз Анна Ахматова сказала мне:
– Вам 11 лет и никогда не будет 12!
Она и не соврала. Я и впрямь даже в старости, несмотря на грозный неукротимый нрав и величественность, во многом ребенок, который то и дело корит себя за бестолковость и забывчивость, за вечное разбазаривание денег, изумляя окружающих тем, как легко ударялась в слезы, изводя порой невероятными капризами.
Когда закончились съемки «Золушки», я сразу получила какую-то большую сумму денег. То есть не большую, деньги тогда были дешевы, а просто очень толстую пачку. Это было так непривычно. Так стыдно иметь большую пачку денег! Я пришла в театр и стала останавливать разных актеров.
– Вам не нужно ли штаны купить?
– Вот, возьмите на штаны.
– А вам материя не нужна? Возьмите денег!
И как-то очень быстро раздала все. Тогда мне стало обидно, потому что мне тоже была нужна материя. И к тому же почему-то вышло так, что я раздала деньги совсем не тем, кому хотела, а самым несимпатичным…
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться
Поклонники – это вообще отдельная тема в моей жизни. Однажды ко мне подошла дама средних лет и с восторгом спросила:
– Скажите, вы – это она?!
На что я ответила:
– Да, я – это она!
В другой раз очередная почитательница принялась выведывать мой домашний телефон.
– Откуда я знаю? – сказала я ей. – Я же не звоню сама себе!
Мои шутки и быстрота реакции прославили меня едва ли не больше киноролей и работ в театре. Бывало даже, что за мной записывали, ловили каждое слово и… боялись. Потому что иногда мои реплики звучали как приговор. Особенно доставалось Завадскому, с которым у меня всегда были непростые отношения. После награждения Завадского медалью Героя Социалистического Труда я в присутствии всей труппы произнесла:
– Ну и где же наша Гертруда?
А зная его отношение к себе, я нередко говорила:
– Завадский простудится только на моих похоронах.
Как-то раз драматург Виктор Розов, автор знаменитых пьес «Вечно живые», «В день свадьбы» и многих других, как-то решил похвастаться передо мной:
– У моей последней пьесы был такой успех! Перед кассами творилась настоящая битва!
Я выслушала его и поинтересовалась:
– И как, людям удалось получить деньги назад?
Я никогда не любила хвастовство и себялюбие. К чему все это? Ведь под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная задница! Так что меньше пафоса, господа!
Те, кто меня любил, никогда на меня не обижались. А я более всего любила влюбляться в людей – прежде всего за талант, который чувствовала в других, безошибочно в начинающих – Елене Камбуровой – услышав ее, тут же написала на радио восторженное письмо, Марине Нееловой – «Неелочке», сыгравшей лично для меня спектакль на кухне.
Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй
Я сыграла в своей творческой и сценической жизни и Вассу Железнову, и Бабуленьку в «Игроке», и Марью Александровну в «Дядюшкином сне», и Фелицату в спектакле «Правда – хорошо…», и Люси в «Дальше – тишина». Я переспала с несколькими театрами, но так и не получила удовольствия.
Из режиссеров, с кем работала, ценила Ромма в кино и Таирова в театре. Других же по обыкновению едко высмеивала, пригвождая афоризмами: «уцененный Мейерхольд», «вытянутый лилипут»… Один был у меня «хрен-скиталец», другие – «с грудями во всех местах», «заслуженная мещанка республики», «жуткая дама без собачки».
Высмеивая других, я и себя не щадила. Свою кухню с развешенными под потолком трусами называла «мой итальянский дворик». По поводу собственной внешности – «с моей рожей надо сидеть в погребе и ждать околеванца».
Эти афоризмы-экспромты передавались из уст в уста, их записывали все кому не лень. Наверное, в глазах моих многочисленных поклонников я всегда представала этакой юморной старухой, которая, словно армянское радио, способна ответить на любой вопрос.
– Какие женщины более верны в браке – брюнетки или блондинки? – спрашивали у меня.
– Седые! – отвечала я.
Очень часто в кино мне предлагали лишь эпизоды, в театре 10 лет не было новых ролей. «Раневская – это целая труппа», – писали обо мне в газетах. В принципе, так и есть, я могла бы сыграть всех, кроме Ленина, просто потому, что точно упала бы с броневика.
А меня так часто одолевали болезни, мучили утраты, вечная бессонница, недовольство собой, я играла чепуху, мне было неловко и стыдно перед публикой, я разочаровалась в своем театре и всех режиссерах, с кем мне довелось работать, кроме двух. Театр покатился в пропасть по коммерческим рельсам. Я так и не встретила «своего» режиссера, нередко с горечью я называла себя «выкидыш Станиславского». Считала себя «вполне нормальной психопаткой». В жизни мне больше всего помешала душа – как хорошо быть бездушной! И уж «нет большего счастья, чем обладать одной извилиной в мозгу и большим количеством долларов».
Я – одинокий человек. Кто знает – может, это и есть спутник славы и таланта. Семья не сложилось по многим причинам.
Мое жилище всегда было очень скромным. Когда я переезжала на новую квартиру, мне советовали перевозить вещи ночью, чтобы народ не увидел, как я живу.
– Ничего, он поймет. – ответила я.
Множество любимых фотографий, приколотых к стенам иголками от инъекций, постоянно незапертая дверью, обожаемая собака-уродец Мальчик, подобранный на Тверском бульваре с отмороженными лапами – все это моя жизнь и дорогие сердцу вещи. Мучаясь без сна, я часто слушала классическую музыку по радио, читала Мальчику Пушкина и Верлена по-французски. А когда засыпала ненадолго, во снах мне являлись Марк Аврелий, Толстой, Ахматова и любимейший мной Пушкин. Однажды во сне гений сказал мне:
– Как ты надоела мне со своей любовью, старая б…!
Эх, что у меня осталось? Юмор, печаль и любовь к тому, чего уже нет. И грустный итог: жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему… Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй…
А как же жить без юмора? Не жизнь, а ее жалкое подобие получится! Как бы ни было сложно в жизни, я всегда пыталась смотреть на все с «юморинкой». Сколько было таких случаев! Их не счесть! Вот, к примеру, еще один случай.
Перед олимпиадой 80-го года в московскую торговлю поступила инструкция: быть особо вежливыми и ни в чем покупателям не отказывать. И тут в магазин на Таганке зашел мужчина и спросил:
– Мне бы перчатки…
– Вам какие? Кожаные, замшевые, шерстяные? – ответили ему.
– Мне кожаные.
– А вам светлые или темные?
– Черные.
– Под пальто или под плащ?
– Под плащ.
– Хорошо… Принесите, пожалуйста, нам ваш плащ, и мы подберем перчатки нужного цвета и фасона.
Рядом стояла я и, разумеется, слышала весь этот разговор. Потом наклонилась к мужчине и театральным шепотом, так, чтобы слышал весь торговый зал, сказала:
– Не верьте, молодой человек! Я им уже и унитаз приволокла, а туалетной бумаги все равно нет!
Что такое любовь? Забыла. Только помню, это что-то очень приятное…
Как-то раз меня спросили: