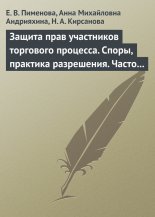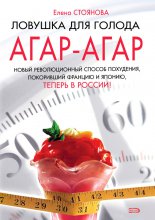Последняя женская глупость Арсеньева Елена
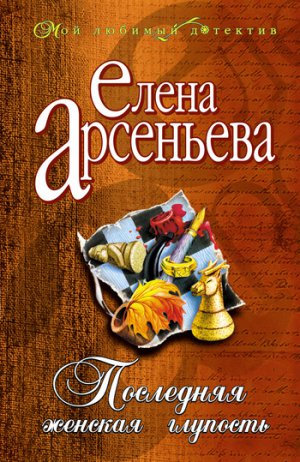
– И как же называются эти «основные причины»? – двинул пешку Бронников. Ах, как он держался, как великолепно он держался! Он уловил эти два слова, но даже умудрился ухмыльнуться своими пересохшими, как бы враз истончившимися губами.
Ну что мог сделать Бергер, как не ухмыльнуться в ответ?
– Эти причины зовутся Никита Дымов и Николай Резвун.
– А что, Резвуна тоже я убил? – с той же ухмылкой спросил Бронников. – Именно я устроил его загадочное исчезновение в Нанте, с фестиваля фантастики? Ну это как раз чистая фантастика! Супэр, как говорят французы! Особенно если учесть, что я в это время в Нижнем сидел безвылазно, а в Нант и Париж смог поехать только в октябре. Резвун, главное!.. Да его исчезновение столько проблем мне создало, вы и представить себе не можете! Я тут на части рвусь. Оба компаньона, главное, будто сговорились… Кстати, может, вы мне и трагическую гибель Сироткина пришьете? Для полного комплекта? Ну я получаюсь не преуспевающий книжник, а леди Макбет во плоти! – И он нервно потер свои длинные, суховатые, с отличным маникюром пальцы, повторяя знаменитый, описанный Шекспиром жест беспощадной леди, которая без толку пыталась отмыть кровь безвинных жертв. «Нет, с рук моих весь океан не смоет крови…»
– Сироткин? – вскинул брови Бергер. – Насчет вашей причастности к аварии, в которой погиб Иннокентий Сироткин, я подумаю, спасибо за совет.
– Подумайте, подумайте, – зло сказал Бронников. – В июне над этим уже думали такие же сократы в форме. Мы с Резвуном тогда языки стерли клясться-божиться, что ни сном, ни духом… Ни вю, ни коню, как говорят те же французы. Теперь снова-здорово? А Никита Дымов тут вообще при чем? Нет, вы всерьез думаете, что я настолько ревнив? Убил Римму за то, что она разочек-другой трахнулась с этим нелепым мальчишкой? К тому же до нашей предстоящей свадьбы. До, заметьте себе. Это ведь даже изменой считать нельзя. Думаю, сам Отелло не стал бы душить Дездемону. А вот Кассио мог бы возревновать к супругу своей возлюбленной…
– Вы намекаете, что убийство вашей любовницы мог совершить Дымов?
– А почему бы и нет?
– Из вашего пистолета? Ну… это вряд ли. Кстати, почему вы так уж афишируете свою терпимость? Ревность могла быть для вас хоть каким-то смягчающим обстоятельством. Убийство в состоянии аффекта и все такое. Но я не зря две эти фамилии – Дымов и Резвун – упомянул рядом. Догадываетесь почему?
– Это в том смысле, что Дымов – племянник Резвуна, а если будет установлен факт гибели самого Николая и его дочери – единственный его наследник?
– Совершенно верно, – кивнул Бергер. – Дымов рассказывал мне, что еще в октябре с ним произошел весьма загадочный случай, напоминавший организованное покушение на его жизнь. Вы к этому не имеете отношения?
– Как вы думаете, на такой вопрос кто-нибудь ответит «да»? – с искренним изумлением спросил Бронников. – Кроме членов террористической группировки, желающей непременно выставиться, подобно той самой лягушке, которая закричала с небесной высоты: «Это я! Это я! Это я придумала!» А если всерьез, в это время я даже не знал, что Дымов – любовник Риммы. Все это вскрылось уже потом, после нашего возвращения из Франции.
Если покопаетесь, узнаете, что обе эти вести грянули как гром с ясного неба. О факте встреч Риммы с Дымовым я узнал совершенно случайно, благодаря какому-то хренову доброжелателю, накатавшему мне анонимку. С-сука какая-то постаралась, вот с-спасибо! – прошипел Бронников. – Главное дело, письмо вскрыла моя секретарша, так что через день все издательство знало, где, когда, с кем трахается фаворитка и будущая супруга господина директора. Ну уволил я эту профурсетку в мини-юбке, а что проку? Слух все равно остался. Теперь все убеждены, что Римму шлепнул именно я – в том самом состоянии аффекта, о котором вы изволили упомянуть. А ведь я всю жизнь придерживался принципа: «Меньше знаешь – лучше спишь». Я вообще предпочел бы не знать, что у них с Дымовым роман.
Анонимка пришла буквально две недели назад, уже в ноябре. То есть, по-вашему, получается, что я на Дымова авансом покушался? А какой смысл? Потому что Дымов как наследник Резвуна должен получить какие-то деньги с «Бука»? Ну это крохи. Во-первых, Резвун только через год будет признан «безвестно отсутствующим» и аж через пять лет – мертвым. И Дымов как наследник может получить дивиденды только через шесть лет.
А если «Бук» к тому времени совершенно разорится? Это будут копейки. Не проще ли мне было фирму на нуль свести, чем грех на душу брать и на него покушаться? Конечно, если бы органы опеки могли признать Никиту достойным управлять фирмой на то время, пока Резвун числится в нетях, тут я мог бы сильно рассердиться. Но он неделовой человек, никогда не занимался административной деятельностью. О бизнесе не имеет представления. Он мне вообще не соперник. И никогда им не был, ни на каком поприще. Ведь мне с ним даже бороться за Римму не пришлось, он ее сам бросил, вульгарно бросил. Так что… В покушении на него уж точно без меня обошлось, факт!
– А где без вас не обошлось? – безмятежно спросил Бергер.
– Не ловите меня на слове, не надо, – так же безмятежно ответил Бронников. – Хотя, с другой стороны, работа у вас такая – ловить. Но напрасно, потому что без меня обошлись как покушение на Дымова и смерть Сироткина, так и исчезновение Резвуна и… убийство Риммы.
И на этом имени его ровный голос вдруг сломался, и лицо вдруг пошло резкими, страдальческими морщинами, и повлажнели глаза.
– Я ее не убивал, – выдохнул он хрипло, изму-ченно. – Можете вы усвоить такую простую вещь? Не у-би-вал! Не знаю, кто это сделал, но не я. Я просто не мог, не мог… я ведь только недавно понял, насколько люблю ее. Смешно? Мы встречались несколько лет, она считалась моей официальной любовницей, и вот наконец я захотел на ней жениться, я наконец понял, что она для меня значит, как нужна мне, но именно тогда… именно в это время она вдруг погибла, она взяла и погибла! Как же она могла так со мной поступить?!
Он облокотился на стол, закрыл лицо руками, поник. Какое-то мгновение Бергер смотрел на его слабо подрагивающие плечи, думая, что все это было бы смешно, когда бы не было так грустно: обвинять убитую в том, что позволила себя убить. И при всем при том его не оставляло ощущение, что в последних словах Бронникова, в этом неконтролируемом, почти истерическом выкрике что-то прозвучало: если не ответ на все вопросы расследования, то хотя бы намек на этот ответ, а ему, Бергеру, не хватило проницательности этот намек понять.
Маша Самохвалова
2 мая 1967 года. Благовещенск
– У них же через месяц выпускные экзамены. В июне уже все заметно будет! А выпускной? Как она будет выглядеть на выпускном?! В шелковом платьице? Я уже и крепдешину прикупила… легонького такого, розовенького… куда его теперь? Неужели пропадет?
Тетя Лида обвела собравшихся жалобным взглядом, как будто именно в невозможности сшить любимой племяннице на выпускной бал розовенькое платьице состояла главная беда.
– Ничего страшного, – буркнул дедушка. – Девку родит – нашьете пеленок. Для девок как раз положено розовое все.
– Что ты такое говоришь? – ахнула бабушка. – Пеленки – из крепдешина?! Младенцам бязь потребна, баечка, легонькое что-нибудь.
– Ну, значит, на свадебное платье пойдет, – покладисто согласился дед.
– Прекратите! Вы тут с ума сошли, что ли?
Дородная рыжеволосая женщина, доселе мертво сидевшая, а вернее, полулежащая в кресле, куда ее свалило внезапно полученное известие, вдруг резко выпрямилась и ожгла своих разговорившихся родителей таким взглядом, что они мигом прикусили языки:
– Какая свадьба? Какие пеленки? О чем речь? Этого не может быть! Этого случиться не должно! Я не отдам ей своего сына! Она должна от этого избавитья!
Резким жестом ткнула в Машу, до сих пор топтавшуюся в уголке у двери. Сесть ей не предложили, а сама она так и не осмелилась сделать несколько шагов к дивану. Там как раз было свободное местечко – рядышком с ним. Но в том-то и дело, что Маша совсем не была уверена, что он не вскочит и не бросится прочь, если Маша сядет рядом. А ведь когда-то все было иначе, совсем иначе!
Она продолжала стоять у двери, прижавшись спиной к притолоке, потому что голова чуть кружилась и Маша боялась пошатнуться. Жалкой выглядеть не хотелось, она даже радовалась, что на нее не обращали внимания.
Смешно, конечно. Разговор вообще-то шел о ней, но как бы о ней отсутствующей. Вот сейчас первый раз зеленоватые глаза хозяйки обратились на Машу – ненавидящие глаза!
– В конце концов, мы живем не в католической Италии, где аборты запрещены церковью, а в нормальной стране. В консультации ей дадут направление, в районной больнице сделают операцию. Это, конечно, немного болезненно, но терпимо, я отлично знаю, сама через это проходила…
Она вдруг осеклась: похоже, сболтнула лишнее, да поздно спохватилась! Слегка порозовела, но в следующую минуту уже овладела собой:
– Можно вытерпеть какую угодно боль, только бы вернуть себе доброе имя. Сейчас еще никто ни о чем не подозревает, а вы представляете, что начнется уже через месяц?!
– Но как же сейчас делать это… ну аборт? – Тетя Лида тоже порозовела, вымолвив запретное слово. Старая дева, вековуха, как говаривали в старину, сама, первая, она никогда бы не осмелилась это слово выговорить в приличном обществе, но поскольку хозяйка, Алла Анатольевна, женщина очень приличная, интеллигентная, работник облисполкома, уже произнесла его, то повторить можно, – конечно, понизив голос и с запинкой. – Какой может быть… аборт? Уже поздно, ведь у Машеньки четыре месяца…
Зеленоватые лютые глаза хозяйки так и впились в Машу. Та даже чуточку пригнулась, втянула в себя живот. Она никогда не была худышкой, поэтому сейчас еще вообще ничего не было заметно. Если только раздеться догола, встать в профиль перед зеркалом и пристально всматриваться, то увидишь, что животик немножко надулся. И грудь налилась, соски теперь были всегда набухшие, они выпирали так, что мальчишки в классе беспрестанно косились на эти торчащие даже сквозь лифчик, школьное форменное платье соски. Маша вспомнила, как он ласкал их ртом, вспомнила, что с нею от этих прикосновений делалось, – и зажмурилась, чтобы задавить слезинки, вдруг ожегшие глаза.
– Не похоже, что четыре, – отрезала Алла Анатольевна. – С чего вы вообще взяли, сколько у нее там месяцев?
– Машенька сказала, что они… у них это было… – запиналась бедная невинная тетя Лида, – что это случилось на каникулах новогодних, когда на турбазу поехали всем классом.
Дедушка крякнул, явно подавляя смешок, но бабушка так ткнула его в бок, что он снова умолк, украдкой поглядывая на дочь, лицо которой пошло красными пятнами.
– Может быть, и случилось один раз, – резко бросила Алла Анатольевна. – Но кто мне докажет, что она, – непримиримо указала выпяченным подбородком на Машу, – в это время была еще девушка? Вполне возможно, она начала вести половую жизнь не с моим сыном, а с кем-то другим. И не факт, что потом, после моего сына, у нее ни с кем ничего не было. Она могла продолжать тот же образ жизни. Знаю я подобных девиц! Забеременеют невесть от кого, а потом ищут виноватого. И находят, что характерно, не бича какого-нибудь, не грузчика из магазина, а мальчика чистого, воспитанного, из обеспеченной семьи, безответного ребенка, которого самым наглым образом совратили, а теперь хотят…
Маша зажала руками уши, чтобы не слышать, но голос Аллы Анатольевны способен был проникнуть и сквозь железобетон. Маша слушала, слушала ее несправедливые, оскорбительные слова и ждала, каждую минуту ждала, что вот сейчас он воскликнет: «Хватит! Это все неправда!» – вскочит, возьмет Машу за руку и уведет ее прочь… куда-нибудь, хоть к тете Лиде, потому что она единственная не разозлилась на Машу, не стала ее позорить случившимся. Даже он, он рассердился, испугался, сделался жалок. Но Маша сейчас все простила бы ему, только бы вскочил, вскрикнул протестующе, заступился за Машу, только бы остановил мать…
Никто не вскочил, не вскрикнул, не заступился за Машу. Алла Анатольевна остановилась сама, да и то лишь потому, что у нее перехватило дыхание.
– Он у меня первый был, – услышала Маша тихий, прерывающийся голос и даже не сразу поняла, что говорит сама. Осмелилась-таки! – Первый и единственный. И ребенок – его. Между нами это только два раза случилось: когда Новый год встречали у Люськи Калинкиной, ну и потом, на турбазе, на зимних каникулах. Наверное, тогда и… А что срок четыре месяца, так это мне врач в консультации сказала. Не думайте, я и сама хотела аборт сделать, я пошла к врачу, а она говорит: поздно. Говорит, можно только до трех месяцев. Я потому и тете Лиде сказала, что я… ну про это. А так хотела потихоньку из… избавиться – и все, и никто бы ничего…
Она бормотала, уставясь в пол да еще зажмурясь вдобавок, чтобы не взглянуть ненароком на него, не встретить его испуганного, затравленного взгляда. Как он смотрел на нее раньше, когда встречались на переменках, когда выбегали из классов как угорелые, думая только об одном: вот сейчас увидятся, вот сейчас поглядят друг на друга! Они учились в параллельных классах, и эти несчастные сорок пять минут урока казались бесконечными. А на школьных вечерах, когда они танцевали только вдвоем, сходя с ума от прикосновений тел?.. Вот где была мука! Хотелось запретного, до смерти хотелось, но никто не решался даже словечком обмолвиться, не то чтобы позволить себе что-то. Да и где, когда позволять? У него дома вечно торчали дед с бабкой, у нее – тетя Лида, надомница-машинистка. Провожал он ее редко, потому что после уроков его всегда ждала машина: мать присылала облисполкомовскую, чтобы, не дай бог, не опоздал на секцию. Он уже входил в городскую юношескую сборную по стрельбе из пистолета, имел шансы попасть в школу олимпийского резерва, сдавал норму мастера спорта, и Алла Анатольевна спала и видела республиканские, союзные, а там и мировые победы, славу любимого сына… То же будущее ожидало и его младшую сестру, которая занималась художественной гимнастикой. Мать была уверена, что девчонки есть и останутся в жизни сына лишь какой-то незначащей мелочевкой, мимолетным развлечением… и, в конце концов, она оказалась права! Он первым отдалился от Маши, начал смотреть как на чужую, он первым произнес слово «аборт», когда узнал про ребенка!..
– Погоди-ка, – пробормотала вдруг Алла Анатольевна, уставясь на Машу совсем другим, не ненавидящим, а исполненным какого-то священного ужаса взглядом, словно перед ней была не высоконькая девчонка с русой косой и заплаканными серыми глазами, а какой-нибудь Соловей-разбойник, Одихмантьев сын или чудовище вроде того, про которого Радищев упоминал в своей книжке «Путешествие из Петербурга в Москву», ну которое обло, огромно, стозевно, лайяй и что-то там еще. – Погоди! Ты говоришь, что была у врача? В женской консультации, что ли?
– Ну да, – кивнула Маша. – А где бы я еще врача нашла?
– Го-спо-ди… – прошелестела Алла Анатольевна пересохшими губами. – В женской консультации?! Там же по паспортам принимают! Они твой домашний адрес спросили?
– Да, в карточку записали, – кивнула Маша. – Как положено.
– Положено, положено, – простонала Алла Анатольевна. – А когда спросили, где работаешь или учишься, ты что ответила?
– Сказала, что учусь в школе, в 13-й. В 10-м «Б»…
– Дура! Идиотка! – внезапно заорала Алла Анатольевна, вскакивая с кресла с таким проворством, как если бы ему, этому креслу, вдруг надоело держать на себе тяжелое тело хозяйки и оно мощно выперло ее из себя. Наверное, это выглядело смешно, однако Маше было не до смеха: уж очень жутко закричала Алла Анатольевна, очень уж страшным стало вдруг ее лицо!
– Аллочка, ты что?! – закудахтали доселе безответные дед с бабкой, и даже тихая тетя Лида не выдержала:
– Как вам не стыдно, Алла Анатольевна! Держите себя в руках!
– Держать себя в руках надо было этой проститутке, когда она лезла в штаны к парню, а потом все разболтала в консультации! – рявкнула на нее Алла Анатольевна, а потом вновь обратила ненавидящие глаза на Машу: – Идиотка! Ты что, не понимаешь, что врач обо всем сообщит в школу? Ты когда была в консультации? Вчера? Ну так я не удивлюсь, если в школе уже знают о том, что ты беременна!
– Как сообщат? – пролепетала Маша. – Почему? Они мне не сказали, что сообщат.
– И потом, существует врачебная тайна! – поддержала племянницу тетя Лида, но Алла Анатольевна их словно не слышала: снова рухнула в кресло, закрыла лицо руками и глухо выкрикнула:
– Все пропало! Теперь уж точно все пропало! И звание мастера, и краевые соревнования, и… Все, все пропало! Об этом узнают все!
Странные звуки раздались вдруг. Маша чуть не ахнула: неужели Алла Анатольевна плачет? Нет: хозяйка опустила руки, уничтожающе взглянула сухими глазами на Машу – и удивленно вскинула брови, не обнаружив на ее лице ни следа слез. Понятно, она думала, что это Маша рыдает! Но нет, не дождетесь!
Алла Анатольевна перевела взгляд – и вдруг замерла, испуганно округлив приоткрытый рот, уставившись куда-то в сторону.
Маша повернулась туда – и сама застыла неподвижно. Точно в таких же окаменелых позах пребывали тетя Лида и родители хозяйки. Все они ошарашенно смотрели на парня, скорчившегося в углу дивана, опустившего лицо в колени. Это он издавал приглушенные, жалобные всхлипывания. Это он плакал!
Он… это он… из-за Маши… Нет, из-за сборной! Из-за краевых соревнований! Из-за звания мастера спорта! Из-за пистолетов своих дурацких!
Маша постояла еще немножко, быстро, мелко сглатывая, потому что в горле вдруг пересохло и начало ужасно першить. Потом подошла к тете Лиде, взяла ее за руку и потянула со стула, на котором та сидела:
– Пошли, тетя Лида. Пошли.
– Куда? – покорно поднимаясь, спросила та.
– Домой.
– Как домой? А это… как же это все? – пробормотала тетя Лида, совершенно потерявшись.
Маша тяжело вздохнула, посмотрела на нее и объяснила терпеливо, как маленькой девочке:
– Никак. Мне ничего не нужно… из этого дома. Поняла? Так что пошли!
Никита Дымов
24 октября 2001 года. Нижний Новгород
Что характерно, Никита не сразу оценил опасность. Он был слишком изумлен, он еще успел обернуться и посмотреть, что именно происходит. Происходило много чего, и происходило оно невыносимо медленно – рапидом, как говорят киношники.
Эдик неторопливо, словно в задумчивости, вздымал монтировку вверх, занося ее над головой. Так же неторопливо Никита подумал, что, судя по всему, первый удар тоже нанес Эдик. Это было очень тонкое наблюдение: в самом деле, не с небес же прилетело! И Костя тоже не мог ударить по багажнику – он только сейчас вылез из кабины и разворачивался к Никите с выражением нестерпимого охотничьего азарта на лице, в свою очередь занося монтировку.
И тут вдруг что-то словно щелкнуло в голове. Понимание и страх ударили мгновенно, однако не обессилили, а, наоборот, вызвали к жизни невиданное проворство. Никита отпрянул, упал на спину, ногой поддел ногу Эдика, рывком вынудив его потерять равновесие и свалиться на колени. Эдику повезло меньше – его физиономия вошла-таки в соприкосновение с багажником – как раз рядом с тем местом, где виднелась сверкающая голым железом вмятина со сбившимся крошевом краски в ней. Зримая картина успела еще ожечь воображение Никиты: его собственная голова со вмятиной посередине, а в ней – красное крошево мозгов, костей, волос…
Костя был уже рядом! Никита вскочил, пнул неуклюже раскинувшегося Эдика между ног – ну просто грех было не пнуть эту сволочь! – и с такой скоростью прянул в кусты, что снова едва не упал. Но повезло. Перескочил через канавку – и понесся по осиновому и березовому подлеску, петляя и пригибаясь, словно по нему стреляли.
С дороги несся хриплый, исполненный боли рев Эдика. Никита обернулся – позади мелькнуло что-то черное и тут же замерло, чуть видное за разноцветной листвой. Костя бросился следом! Почему же остановился? Эдик прорычал что-то, напоминающее слово «лай». И тотчас Никита понял, что это было совсем другое слово! Послышался негромкий щелчок, потом свистнуло рядом, опять щелчок, опять свист… И тут Никита на собственном опыте осознал сакраментальное выражение: «Вокруг свистели пули». Не зря он пригибался – по нему и в самом деле стреляли! Вот что кричал Эдик: «Стреляй!»
На миг ноги заплелись от страха, но тут же Никита с удвоенной скоростью ломанул в чащу, выделывая уж вовсе диковинные вензеля, огибая деревья, но иногда все же натыкаясь на них, раздирая сплетение ветвей. Сломанные ветви трещали, чудилось, что звук доносился до самого Нижнего. Никита понимал, что этим треском выдает преследователю направление своего бегства, замер, пытаясь понять, где сейчас Костя, но жутко было превратиться в неподвижную мишень. Снова рванулся вперед. Свиста пуль он теперь не слышал, но это вовсе не значило, что выстрелов больше не было: в ушах звенело, загнанное дыхание оглушало. Пот заливал глаза, и он наконец понял, что больше не может бежать. Нет, надо перевести дух хотя бы на мгновение. Поглядел на часы. Не слабо! Наверное, в самом деле пора устать! Ведь он мечется по лесу уже почти час…
И в эту минуту впереди меж деревьев что-то забрезжило. Дорога? Он снова вышел к дороге?
Никита нахмурился. Вроде бы в окрестностях Мельницы, исхоженных им вдоль и поперек, не было никаких асфальтированных дорог, кроме шоссе и поворота к деревне, а впереди тянулась именно серая асфальтовая лента. Что за черт? Вернее, что за леший, потому что в лесу хозяин именно он? Неужели леший его так поводил, что заставил сделать кругаля и снова вывел на ту же боковую дорогу? И что теперь делать? Если бы попалась попутка, без разницы в каком направлении, можно было бы либо в город вернуться, либо попросить подвезти до станции. Деньги у него есть, если водитель не станет шибко заламывать, можно поладить. Если даже убийцы хотели его потом ограбить, им это не удалось.
И тут Никита первый раз лоб в лоб столкнулся с вопросом, который потом долго будет отравлять его существование, но ответа на который он так и не найдет. Никита впервые – раньше времени не было! – задумался: а что нужно было от него этим двум парням, лихачу Косте и угрюмому Эдику, предположительно – педику?
Что он им сделал? Или чего не сделал? Может, его за кого-то другого приняли?
Издалека послышался шум мотора. Никита отмахнулся от безответного вопроса, как от докучливой ветки, норовившей хлестнуть по глазам, и ринулся к дороге. Сейчас он все равно ни до чего толкового не додумается, а вот случайную попутку жалко будет упустить. Машина идет по направлению к городу, и если удастся тормознуть…
Он сам не знал, почему вдруг замер на месте. Наверное, и впрямь во всех нас неистребимо живет приглушенный, придавленный «благами цивилизации» инстинкт – даже не то чтобы самосохранения, а некое чутье, неосознанное, ничем не объяснимое, дающее необоримый импульс нашим поступкам – или, наоборот, не поступкам, а мгновениям выжидания, промедления, порою спасающим нам жизнь.
Никита остановился, досадуя на себя, но все же не в силах отклеиться, выбраться из-под прикрытия еловых ветвей. В это время мимо неторопливо проехал серый «Форд». Водитель смотрел не столько на дорогу, сколько пристально всматривался в лес, да и пассажир был занят тем же самым. Водителем был Костя, а пассажиром – Эдик…
Никиту они не заметили, очевидно, потому, что его темно-зеленый «бурбур» вполне сливался с хвоей. Он же их узнал мгновенно, однако не поверил глазам. Подумал: мерещится с перепугу, но через миг увидел, как «Форд» свернул к обочине. Вгляделся – там что-то голубело. Мотор замолк, хлопнули дверцы – страшные лесные разбойники вышли из машины, потоптались, снова сели в «Форд», и тот, с места взяв скорость, умчался по направлению к городу.
Никита не скоро заставил ноги сдвинуться с места. Его трясло так, что чахлая елочка, рядом с которой он стоял, ощутимо ходила ходуном. То голубое пятно, понятно, «Волга». Ничего себе, круто же поводил его лесной хозяин! Вывел практически на то самое место, откуда он стреканул чуть не час назад! Правду говорят, что леший кругами водит. Выйди Никита на проселок чуть раньше, и опять встретился бы лицом к лицу со своими заклятыми приятелями. Ишь ты, заранее где-то спрятали «Форд», чтобы убраться с места преступления!
Судя по всему, «волжанка» угнанная – возможно, непосредственно перед самой встречей с Никитой. Робятки попользовались ею и хладнокровно бросили, больше не тратя сил на вытаскивание из канавки, в которую так виртуозно загнали. Очевидно, не распорядись судьба иначе, рядом с «Волгой» через какое-то время нашли бы труп с размозженной головой. Труп Никиты… «Волга» к тому времени уже была бы в розыске, поэтому легко догадаться, по какому пути пошло бы расследование: угнал с каким-нибудь хмырем на пару чужую машину, а потом угонялы чего-то не поделили, и вот вам результат… Круто, конечно, а с другой стороны, сам виноват: не угоняй чужих машин!
Больно, пугающе ударило мыслью: нет, не случайность нападение на него – это заранее спланированное покушение, вон как обставлено, как продумано!
Никита затравленно огляделся. Пуганая ворона куста боится, это понятно: ему теперь за каждым деревом чудились какие-то недобрые тени. То тут, то там мерещились фигуры Кости и Эдика, а главное – этого неизвестного водилы. Неизвестный – самый опасный!
Снова послышался шум мотора. Никита прянул было в чащу, но усилием воли удержал себя на месте: звук раздавался опять же со стороны Семенова. Вряд ли у загадочных злодеев по всей трассе натыканы машины, это элементарная логика подсказывает. Однако логика логикой, а ноги у Никиты ощутимо подкашивались, когда он рванулся к дороге, и рука проголосовать поднималась с трудом.
…Ах, как он потом вспомнил это мгновение и вещий ужас, ледяными пальцами прохаживающийся по спине! Ругал себя за трусость, а на самом деле это было все то же подспудное чутье, тот же инстинкт самосохранения, который подсказывал, кричал: стой на месте, подожди! Кто знает, задержись он тогда под прикрытием ели…
Но никто вперед ничего знать не может, а стало быть, и говорить не о чем.
Никита выскочил на дорогу, взмахнул рукой, и темно-синяя «Ауди», уже скользнувшая было мимо, вдруг взвизгнула тормозами, приостановилась и приблизилась к нему задним ходом.
Павел Малютин
15 августа 2001 года. Нант, Франция
Великий человек оказался прав: дело не должно было представлять никакой трудности. Эти трое даже не замечали тени, неотступно следовавшей за ними, хотя Нант, видит бог, не такой уж большой город. Конечно, имел место большой наплыв туристов, жаждущих побывать, к примеру, в Шато дюков[1] Бретани, построенном аж в двенадцатом веке, в кафедральном соборе или в домике Жюля Верна, но прежде всего привлеченных странной, неторопливой, обворожительной красотой этого города. То есть нынче в Нанте вполне можно было основательно затеряться. И все-таки Павел то и дело, словно по заказу, оказывался лицом к лицу с этой семьей.
Вот именно что по заказу…
В Нанте у него был заказ. Вот эти трое. Высокий седеющий мужчина с сухим, моложавым лицом и ледяными глазами, красиво попыхивающий трубкой с ароматным табаком; его холеная, безмятежная, судя по всему, глуповатая дочь – и тихий, задумчивый мальчишка, внук.
Они жили в «Нов-отеле», как все участники ежегодного Фестиваля фантастики, а Павел – в «Анри» на Рю-де-Ришбор, рядом с площадью Дюкессы Анны. Отельчик был простенький, но очень симпатичный, да и располагался сверхудобно: в самом центре, практически напротив знаменитого Шато. Еще в самолете (Павел и его клиентура летели одним рейсом из Москвы, потом мчались скоростным поездом от Парижа до Нанта, и на него никто не обращал внимания!) он умудрился снабдить сумочку дочери невидимой наклеечкой, которая позволяла быть в курсе всех их планов и передвижений, рассудив, что микрофончик на одежду пришлепывать без толку: ее ведь меняют! К тому же во Франции все обновляют гардероб, так что вообще без толку добро переводить, будет валяться в чемодане.
Конечно, был риск, что дамочка сменит и сумку, однако Павел рассчитывал, что нет: сумка была новехонькая, крокодиловой кожи, привлекала завистливые взгляды так же, как многочисленные бриллианты на пальцах и в ушах этой глупышки, а ведь женщины тщеславны…
Расчеты пока оправдывались, техника не подводила. А почему она должна была подвести? Такая же вот невидимая наклеечка две недели назад спасла ему жизнь в Нижнем… То есть еще должна была спасти. Это в будущем, а в настоящем…
В настоящем Павел таскался практически бок о бок с этой троицей, которая его в упор не видела! Иногда он оказывался с ними и за соседним столиком в кафе, и семейка окидывала его словно бы незрячими, неприветливыми взглядами, как это водится у русских даже за границей. Эта неприветливость вызывала недоумение у очаровательных официантов, сыплющих направо и налево свои пардоны и мерси, – даже выставляя на столик заказанное, они говорили: «Мерси, мсье, мадам!» Нант вообще, как всякий французский провинциальный город, необычайно любезен, гостеприимен, люди охотно улыбаются на улицах друг другу, даже если незнакомы. В Париже таких улыбок не встретишь: там любезность более официальная, купленная, магазинная – в том смысле, что приветливость в глазах видишь только в магазинах да кафе, за свои деньги. Все равно как у нас в зверино-лютой Москве, думал Павел, который столицу на дух не выносил. С другой стороны, провинция наша тоже угрюма, замкнута, а в Нанте Павел и сам ощущал, как по его губам порою скользит совершенно неконтролируемая, непроизвольная ухмылка.
Чудилось, в этом очаровательном городе не могло случиться ничего плохого… и все-таки частенько то в темно-зеленом, затянутом густой ряской рву вокруг Шато, то в одной из средневековых темных и тесных улочек, где дома зловеще смыкались крышами, а под ногами гулко отдавалась стертая брусчатка, или в мрачноватых закутках великолепного кафедрального собора, или в тихих, безлюдных аллеях Ботанического сада перед Павлом возникал некий призрак с выжидательным, требовательным взглядом, словно бы готовый спросить: «Что? Еще не готово? Неужели до сих пор не нашлось случая?»
Конечно, великий человек имел все основания быть недовольным Павлом. Ему уже представлялось по меньшей мере четыре случая совершенно незаметно для посторонних расправиться с объектом, его дочерью и внуком.
И останавливало отнюдь не то, что его засек этот одиннадцатилетний глазастый пацан, какой-то слишком взрослый для своей легкомысленной, слишком молоденькой мамаши. И приметливый! Не раз он встречал стремительный, по-взрослому оценивающий промельк взгляда, не раз подмечал, как мальчик (его называли Кирюшкой, но это смешное имя совершенно не шло к его замкнутому лицу, вот Кирилл – другое дело!) в городской или магазинной толчее старается встать так, чтобы прикрыть от Павла знаменитую сумочку, болтающуюся на плечике его легкомысленной мамаши. Пацан явно принимал Павла за вульгарного карманника. То есть он был встревожен, однако его детского воображения не хватало на то, чтобы просечь настоящую опасность. И наверное, в семье его не больно-то принимали всерьез, потому что он даже не пытался высказать свои тревоги матери или деду.
Уж Павел знал бы, если бы мальчишка хоть словечко вякнул! Во-первых, микрофон доложит, во-вторых, поведение этих людей резко изменилось бы. А так… мужчина был всецело поглощен своими деловыми переговорами на фестивале, где он выискивал среди зарубежных фантастов будущих авторов для своего издательства, желательно таких, чтобы писали получше, а гонорар согласились бы получить поменьше. Иногда его деловые контакты бывали очень смешными.
Например, его откровенно домогалась представительница издательства «Дьяболо», которую звали Мазурик. Имя это или фамилия, Павел не понял, но смеяться не переставал долго. Как-то раз он услышал отзыв о ней: «Эта Мазурик похожа на полуседого чертенка, стриженного настолько коротко, что нечаянно даже рожки состригли!» Это сказал объект своей дочери, но та, похоже, не оценила юмора. Дочь с утра исполняла при отце обязанности переводчицы, а в свободное время была поглощена рысканьем по магазинам. Ребенок занимался самосозерцанием и порою – слежкой за следившим за ними Павлом. Его это не тревожило, а забавляло, мальчишка ему с каждым днем нравился все больше.
Конечно, это ни в коем случае не могло бы помешать сделать дело, исполнить заказ… если бы Павел еще дома, в Нижнем, не решил бы на сей раз не проявить себя безупречным исполнителем, а поступить с точностью до наоборот.
Причина имелась, и весьма существенная. Настолько существенная, что он чуть ли не впервые в жизни чувствовал некую неуверенность и, бродя по Нанту за этой безмятежной троицей, порою очень тщательно проверял, выискивая, не бродит ли кто за ним… Конечно, этого быть не могло, Павел совершенно точно знал, что, пока заказ не исполнен, его здесь не тронут, да и тронут только дома, в Нижнем, по возвращении, а все-таки не мог отделаться от странной тревоги, от ощущения чужого, недоброго взгляда, выцеливающего его затылок.
Наконец, к исходу третьего дня Павел почувствовал, что больше тянуть нельзя. Этак недолго и в сущего невропата превратиться!
Семейство стояло около парапета напротив великолепного Шато и оцепенело таращилось на его серые, изъеденные временем, округленные стены. Чуть левее, за большой башней, медленно клонилось к закату солнце, и весь нижний дворик замка был уже погружен в густую тень, зато флюгера золотились и сияли так, что на них смотреть было больно. Порою набегал ветерок, и тогда радостно начинали шуметь листвой огромные платаны в нижнем дворике. Деревья были такие высокие, что их ветви почти достигали парапета, на который облокотились эти трое.
Павел какое-то время смотрел на их незащищенные спины из-за стеклянной двери маленького магазинчика, где продавались сувениры и всякая антикварная рухлядь. Прямо у двери стояли доспехи средневекового рыцаря – современная подделка, конечно, но очень качественная, их разрешалось трогать и даже примерять, так что, возясь с этим лязгающим сооружением, вполне можно было сделать три стремительных выстрела по трем спинам, и никто бы даже не заметил, откуда, как принято выражаться, «прилетело». А потом он свернул бы за угол и затерялся в лабиринте улочек. Все просто!
Павел вздохнул, снял со своей головы и поставил на место, на плечи рыцаря, его черный шлем с этакой форточкой для проветривания лица (то, что называется «забралом»). Шагнул вперед.
– Добрый вечер, – проговорил он, останавливаясь рядом с мужчиной и непроизвольно опуская руку в карман пиджака, где лежал пистолет. На обочине сознания мелькнула мысль о том, что и сейчас было бы очень удобно выстрелить ему в бок, потом в голову и сразу – в женщину и мальчика. Но в таком случае труднее было бы уйти незамеченным: какие-то люди выходят из лавчонки, где продают глиняные игрушки и краски для их раскрашивания, еще кто-то усаживается за выставленные на улицу столики бистро, вереница туристов бредет вдоль парапета, то и дело приостанавливаясь и щелкая фотоаппаратами, – его непременно засекли бы.
Павел вынул руку из кармана и заставил себя улыбнуться в ответ на вопросительный взгляд обернувшегося мужчины:
– Добрый вечер. Вы русский? Надо же. А мы с дочерью буквально только что говорили, до чего странно, что еще не видели в Нанте ни одного русского. В Париже ступить негде от соотечественников, а здесь – благодать!
Хорошенькая, пухленькая, беленькая, как ванильный зефир, женщина улыбалась с обычной безмятежностью. Мальчик стиснул руку матери и исподлобья уставился на Павла.
Узнал, конечно. Но молчит.
– Вас зовут Николай Александрович Резвун? Могу я с вами перемолвиться парой слов? – сказал Павел, с каким-то мстительным удовольствием увидев, как взлетели вверх брови этого человека.
– Вы меня знаете? Тоже на фестиваль приехали? Видимо, только сегодня, я что-то раньше вас не видел… А из какого издательства? Странно, я думал, что из российских издательств приглашен только «Бук».
Он говорил с легкой улыбкой, вынимая из кармана маленькую трубку и собираясь безмятежно закурить, но глаза его вцепились в глаза Павла, и тот ощутил: мужчина молотит языком только для того, чтобы успокоить дочь и внука, а на самом деле он просек, что у Павла какое-то весьма серьезное дело. Почуял опасность…
Ну наконец-то! Не прошло и полгода!
– Кирюша, погуляй с мамой вон там, по площади, а мы переговорим с господином… – Он вежливо приподнял брови, ожидая, что Павел назовет себя, но тот лишь бегло улыбнулся в ответ, а представиться и предложить тост «За знакомство!» решил отложить на потом.
Мальчик смерил его взглядом исподлобья и потянул за руку свою маманю, которая с кукольной беззаботностью водила по сторонам голубыми глазками.
«Вот клуша! – отчего-то озлился Павел. – Цыплячьи мозги! И это дочь такого человека! Правду говорят, что природа отдыхает на детях великих людей».
Мальчик и его мама со знаменитой крокодиловой сумочкой пошли горбатой улочкой вперед, к площади Дюкессы Анны, а Павел знаком попросил Резвуна повернуть к воротам в верхний двор замка. Ворота были уже заперты, туристы разбрелись, царила приятная тень, можно было спокойно посидеть на парапете, не рискуя быть подслушанным… хотя кого в прелестном, спокойном Нанте могли бы заинтересовать разговоры двух приезжих из варварской России? Наверняка говорят об убийстве!
Совершенно верно.
– Значит, так, Николай Александрович, – сказал Павел, глядя прямо в испытующие глаза собеседника, – чтобы избавить нас от излишних недомолвок и взаимного недоверия, скажу откровенно: я – тот человек, которого ваш старинный друг и компаньон Сироткин последним видел непосредственно перед своей смертью.
Никита Дымов
24 октября 2001 года. Нижний Новгород
– Слушайте, у вас такой вид, будто вас чуть не убили, – сказала она, задумчиво и обстоятельно разглядывая Никиту.
Вот именно – чуть. Вернее, чуть-чуть. Самую чу-точ-ку.
Он рассеянно провел рукавом по лбу, обтирая что-то липкое. Думал – кровь, но то были пот и паутина, которой он немало нацеплял на себя, скитаясь по лесу этим погожим днем запоздалого бабьего лета – таким чудесным, таким ясным днем… самым страшным в его жизни, чуть было не ставшим для него последним.
– Ох, да у вас, кажется… – выдохнула она и умолкла, уставившись большущими серыми глазами на его рукав. Да, без крови не обошлось-таки, но это ничего, это не страшно, просто Никита где-то наткнулся на ветку, скорее всего, там же, при дороге, когда прянул в кусты, как трусливый заяц.
Ничего себе заяц! А что ему оставалось делать – одному против тех двоих, столь весомо, грубо, зримо ворвавшихся в его жизнь и чуть было не оборвавших ее своими монтировками и пистолетом?
Он вынул из кармана платок и тщательно вытер рукав куртки, чтоб ни следа не осталось. Скомкал платок, выбросил в окно. Украдкой сглотнул, полуотвернувшись. Тошнота подкатывала к горлу. Может, эта женщина не заметит, до чего ему худо? Никита ведь совершенно не выносит вида крови, бабская слабость накатывает, в глазах темно, ноги подкашиваются. Сейчас он, правда, сидит, да и крови всего чуть, а все равно – самочувствие на грани обморока. Не дай бог увидеть настоящее ранение или, к примеру, убийство – сам умрет, наверное!
Ни с того ни с сего вдруг вспомнилось, как на монтаже какого-то спектакля на одного из рабочих упала стойка и острым краем рассекла ему плечо, будто бритвой. Кровища как хлестанула! К нему со всех концов сцены бросились люди, а Никита, который стоял совсем рядом, вдруг бросился прочь. Вообще вон из зала! Опомнился только в своей мастерской, и то потому, что девочки-портнихи его начали тормошить. Он был практически без сознания, совершенно не соображал, что делал.
Потом тот работяга на него обиделся, да и остальные начали поглядывать как на труса, а что, интересно, мог Никита поделать? Это у него свойство организма такое. Бывают нормальные, храбрые люди, которые, к примеру, боятся замкнутого пространства, у них в лифте делается натуральная истерика. А у Никиты – кровефобия, или как это там называется? А вот интересно, если бы Костя по нему не промахнулся, он бы чего больше испугался: боли или вида собственной крови?
Что за чушь в голову лезет, однако!
– Поехали, ладно? – попросил он угрюмо.
– Что, так и бросите машину? – поинтересовалась незнакомка, как-то слишком медленно поворачивая ключик в стояке.
– Какую? – чуть не с ужасом спросил он, озираясь, готовый снова увидеть серый «Форд».
– Да «Волгу» же! – воскликнула она, махнув в сторону голубого пятна на краю дороги. – Разве это не ваша «Волга»?
– Н-нет, – сдавленно выговорил Никита. – Нет, не моя.
– А чья же?
– Представления не имею, – произнес он как мог холодно. – Да и вам какое дело? Ну стоит себе «Волга» и стоит. Может, водитель по грибы пошел.
– Оставив дверцы нараспашку? – спросила она, вглядываясь вперед. – Сомнительно.
– Ну, значит, он где-то недалеко. – Никита уже едва сдерживался, чтобы не завопить: «Да езжай ты, в конце концов! Вот болтушка!» – Покурить отошел или там, не знаю, по малой нужде.
– А не он ли вас так качественно повалял по траве? – спросила вдруг «болтушка», округляя глаза. – И часом, не оставили вы его отдыхать в тех зарослях, откуда только что вывалились? В смысле, отдыхать вечным сном? Может быть, это не вас чуть не убили, а вы кого-то… – Она многозначительно замолчала.
Никита только и мог, что жалобно моргнул. Язык присох к гортани, ну натурально присох, и оторвать его удалось с большим трудом.
– Я не… не уби… – прохрипел он, и внезапно на смену ошеломляющей растерянности пришла злость: – А не опасно ли, с вашей стороны, задавать такие вопросы незнакомому человеку? К примеру, я и впрямь могу оказаться душегубом-профессионалом. Киллером! А что? Есть много профессий, хороших и разных!
– Я бы в киллеры пошел, пусть меня научат? – вскинула она брови, но тут же опасно улыбнулась: – Да ну, бросьте, Никита, какой из вас киллер?!
У него снова перехватило дыхание – уже в который раз за этот многотрудный день.
Она его знает?! Откуда?
Понятно откуда: эта дамочка – из той же самой компании, что и Костя с Эдиком. Какой же он был дурак, что сел в эту машину! Интуиция же подсказывала, ну просто криком кричала: останься в лесу! Ох, как крепко они обставились, да у них что, на каждом шагу запасные машины с убийцами? И все на него, все против него?
Да почему, за что, господи?! Какой-то сюрреалистический кошмар, сон, от которого невозможно проснуться.
Тогда, именно тогда, он в первый раз подумал: какое было бы наслаждение – убить ее! Сдавить горло пальцами и держать до тех пор, пока не погаснет свет этих серых глаз. Или подойти этак небрежно, обнять за плечо, может быть, даже поцеловать в теплый висок, а потом приставить к этому виску, к тому самому месту, где еще сохранился влажный след его губ, пистолет. И нажать на курок прежде, чем она успеет отпрянуть. А может быть, она не захочет отпрянуть?..
Потом подобные мысли будут возникать у него не однажды, но тот раз точно был самым первым.
– Господи, я и забыла, какое вы еще дитя! – вдруг тихо, нежно усмехнулась она. – Сейчас у вас ведь совершенно детские глаза…
– Что? – пролепетал он, сам ощущая, как глупо звучит его голос.
– Никита, Никита, ну перестаньте! – Теперь она уже откровенно смеялась. – Ну да, я вас знаю, а вы меня нет. И никакого тут нет чуда или подставки какой-то. Я была на той вечеринке в «Барбарисе», ну в честь открытия, помните? Там же вас всем представляли как одного из дизайнеров, говорили, что вы театральный художник и все такое. Я с тех пор даже стала обращать внимание на театральные афиши, особенно тюзовские – вы ведь в ТЮЗе работаете? Но почему-то ваша фамилия в качестве художника-постановщика упоминается довольно редко. Зажимают, да?
– Бывает, – пробормотал Никита, все еще слабо соображая, что говорит, не в силах вникнуть и в смысл ее слов.
Видела его на вечеринке в «Барбарисе»? Странно, что он ее не видел. А впрочем, может, и видел, да не обратил внимания. Там было море девок и всяких дам. Некоторые сверкали бриллиантами, некоторые – голыми плечами. А уж сколько сверкающих глазок имело место быть! И они еще пуще засверкали после того, как рекой полилось бесплатное шампанское. Никита по опыту знал, что стоит дамам, подобным тем, какие собрались здесь (в большинстве – не бог весть какого высокого пошиба), чуть набраться, как они начинают к нему жутко клеиться.
Он даже собирался смыться чуть пораньше и уже высматривал подступы к гардеробной, но Валера, хозяин, его задержал. Пошли в директорский кабинет и там на четверых, вместе с Валерой, его супружницей Жанной и вторым дизайнером, – вернее, первым, потому что Никита был у него на подхвате, а не наоборот, – неслабо приняли на грудь «Реми Мартен».
Честно говоря, Никита вполне, и даже с большим удовольствием, выпил бы и шустовский или даже (какое кощунство!) «Дербент», не говоря уже о тираспольской «Дойне». Но только самоубийца мог брякнуть при Валере что-либо подобное. А Никита, конечно, не был самоубийцей, поэтому молчал. Молчал и пил. Одно было утешение: смаковать и цокать от восхищения языком не принуждали. Валера, даром что был похож на итальянского мафиози и маркиза де Сада одновременно, с этой его тщательно выбритой бородкой и умопомрачительным кожаным пиджаком, пил коньяк как стопроцентный россиянин, – будто водку, махом, опрокидывал стопарь за стопарем и знай подливал себе и другим, закусывая персиками, виноградом и «Дор-блю», только не с зеленой, а с голубой плесенью. Плесень и «Реми Мартен» великолепно дополняли друг друга, так что Никита был уже хорошенький, когда снова вышел в зал. Разумеется, его тут же облепил какой-то многочисленный баб-с, к гардеробной было не пробиться, но к тому времени он уже забыл про свое намерение уйти пораньше, почувствовал себя привычно-комфортно и принялся играть глазами направо и налево, одновременно болтая что-то приятно-ничего-не-значащее.
Обычно этим удавалось обойтись, потому что, когда дам вокруг много, это все равно, что нет ни одной: никто не даст сопернице и близко подойти к желанному мальчонке, и он потом уходит, отполированный взорами, ну, может, слегка облапанный, не без того, но вполне в целости и сохранности. Порою приходилось ответно тиснуть какую-нибудь особенно напористую особу. Или легонько провести губами по шейке. Но это – все. Баста! Никаких поцелуев взасос, не говоря уже о спринтерском трахен-бахен в укромном закутке или поездках на конспиративную явку, к продавленному дивану. Уходя таким вот девственно-непорочным, Никита доподлинно знал, что вслед ему глядят обиженные, недоумевающие, порою даже слезой подернутые глазки, а в куриных умишках рождается коварный вопросец: «А не голубой ли он?..»
Он был совершенно не голубой и считал, что сущее кретинство – иметь дело с парнями, когда вокруг столько красивых девушек! Ему нравились девушки, он был нормальный, вот только беда – шибко разборчивый. Никите почему-то совершенно необходимо было знать, что женщина, с которой он целуется, которую трогает везде, где можно и нельзя, с которой задыхается в одном ритме, – это только его женщина, что нет у нее в запасе ни бойфренда, ни ревнивого спонсора или, чего доброго, подружки-лесбиянки…
Но как-то не выпадало ему пока что такой карты. Непременно у всех имелся какой-то запасной вариант. Впрочем, немало было и желающих сделаться «абсолютно его», но, как правило, это оказывались девушки, на которых он даже на необитаемом острове не взглянул бы. Ну не нравились они ему, и все тут.
– Напрасно напрягаетесь, пытаясь вспомнить, как меня зовут, – послышался голос рядом. – Нас с вами не знакомили. Некому было, и вообще, к вам в тот вечер было не пробиться даже при желании. А у меня, знаете ли, правило: никогда не навязываться мужчине. Он должен сам, первым руку протянуть. Хотя теперь мои взгляды могли бы считаться устаревшими.
Никита встрепенулся. Бог ты мой, забыл, где находится! «Ауди» летит по шоссе, рядом та женщина, что подобрала его. Она решила, что Никита пытается вспомнить их встречу, а он так расслабился – почти задремал. Это у него от шока, ясное дело. На смену слишком сильному напряжению приходит аналогичное расслабление, и глаза закрываются сами собой, и язык еле шевелится.
Еще не хватало заснуть при своей благодетельнице! Никита резко повернулся к ней, чрезмерно внимательно тараща глаза, и наткнулся на улыбку:
– Ой, извините, вы задремали? Я вас напугала?
Ничего себе – да разве может такая дама напугать? Красивая сероглазая женщина, лет этак за тридцать, может, даже очень за, но это не портит ее в глазах Никиты, скорее наоборот. Как говорил герой какого-то романа, «из-за этого он не выгнал бы ее из своей постели». Вот именно! Никите вообще нравились взрослые, зрелые женщины. Нравились, но в то же время заставляли его робеть. Особенно такие вот – интересные, ухоженные, хорошо одетые, глядящие на него снисходительно-оценивающе, как бы с высоты своих лет, и в то же время с явным женским интересом. Именно этот их нескрываемый интерес помогал ему преодолеть робость и держаться в меру насмешливо, в меру игриво, где-то даже развязно, порою слегка похотливо – словом, куртуазно. Он чувствовал, что именно этого от него и ждут.
Таким образом, он жил в атмосфере легкого флирта, которая была для него не только привычкой, но и насущной необходимостью. Но он всегда мгновенно просекал, при ком можно себе, так сказать, позволить, а при ком – нет. Всех просекал, а эту незнакомую даму – нет. Вроде бы смотрела она, как на него всегда смотрят женщины, – с огоньком в глазах, но как-то отстраненно. Будто бы смотрит она на Никиту, а думает о ком-то другом, и не поймешь, кому светят ее глаза, кому предназначена улыбка – ему или другому?
Он насупился, но тотчас одернул себя, чувствуя, что ревнует совершенно незнакомую женщину к мужчине вообще – гипотетическому, воображаемому. Глупее ситуации не придумаешь!
Вдруг ее ласковая улыбка сделалась напряженной, в глазах появилась озабоченность.
– Нет, ну все-таки, Никита, – спросила она вкрадчиво, – что там произошло, в лесу? Вы кого-то прикончили – или кто-то чуть не прикончил вас?
Павел Малютин
15 августа 2001 года. Нант, Франция
Серые холодноватые глаза распахнулись, в них что-то вспыхнуло, Резвун отшатнулся.
– Спокойно, – досадливо нахмурился Павел. – Сироткин – это Сироткин. Что сделано, то сделано. Если б у меня были те же намерения относительно вас, я бы их давно осуществил. Который день шатаюсь бок о бок с вами по Нанту, да мы и из Москвы до Парижа вместе летели, и в скоростном ехали вместе – правда, в разных вагонах. Масса была возможностей, вы уж поверьте!
– А от Нижнего до Москвы мы тоже в одном поезде добирались? – спросил Николай Александрович, и Павел восхищенно покачал головой:
– Быстро соображаете! Да, я из Нижнего. Там же и распоряжения получил. Относительно вас и вашей семьи.
– В первую минуту я решил, что тут замешаны москвичи. Вспомнил, как в «Дельте» компаньоны отстреливали конкурентов, а потом и друг на друга перешли. А здесь, значит, сразу… – Резвун запнулся, сунул трубку в рот, но тотчас выхватил, стиснул в кулаке: – Значит, Григорий?
– Давайте без имен, ладно? – попросил Павел.
– Почему без имен? – сощурился Резвун. – Напротив, давайте с именами – если хотите, чтобы я вам поверил.
– Да и не верьте, – пожал плечами Павел. – Это ваше личное дело. Но я бы на вашем месте выслушал все, что я вам собираюсь сказать, а уж потом решал, верить или не верить.
– Вы уж сказали, – пробормотал Резвун, и Павел впервые понял, что значит расхожее выражение: «Человек постарел на глазах». – Вы уже практически все сказали. Бронников заказал вам Сироткина, теперь меня. И мою семью, так ведь? Потому что только в этом случае он получает все, все без остатка! Хотя нет! У меня ведь останется еще племянник, сын покойной сестры, он станет наследником в случае, если больше никого нет. Так что, выходит, он тоже приговорен?
– Вообще-то да, – кивнул Павел. – Но пока что он поживет. Скажем, где-то до октября-ноября, чтобы времени побольше прошло.
– После чего? – не понял было Резвун, но тотчас сообразил: – А, ясно. После нашей…
– Ну да, – не стал спорить Павел. – Вот именно.
– Ага… – Резвун внезапно усмехнулся. – Ну бедняга Никитка, не повезло ему! Сестра меня пилила всю жизнь, что я племянничку никак не помогаю, не беру под свое крылышко, а меня кто брал? Я всю жизнь сам карабкался как мог, сам пробился и выбился. У меня своя семья, свои проблемы, дочь… не совсем здорова, к тому же проблемы в личной жизни, мне надо внука поднимать, у меня бизнес, дел выше крыши, а Никита – парень здоровый, талантливый, не без дури, конечно, но это по молодости, это пройдет. Одна беда – Казанова такой, что я уже устал слушать россказни о его похождениях, честное слово. Хотя подозреваю, все это больше треп, для форсу такого мужского: если он в мою сестрицу уродился, однолюбку несчастную, то должен быть…
Он вдруг осекся, провел рукой по лицу. Умолк; присел на каменный парапет, свесил плечи так, как будто вся усталость, накопленная за полсотни лет жизни, вдруг разом навалилась на него и придавила. Вроде бы самое время было ему закурить, но нет – просто сжимал трубку в кулаке.
Павел чуть усмехнулся. Ему и прежде случалось – чисто ради спортивного интереса – сообщать жертвам об их грядущей судьбе. В смысле, о том, кто он такой, Павел Малютин, и чего с ними намерен сотворить. Разумеется, он делал это, если время позволяло и если была твердая уверенность, что приговоренный не сумеет оказать сопротивления. И сколько уже раз приходилось наблюдать одну и ту же реакцию: на смену недоверию, ужасу приходила неконтролируемая болтливость, а потом наступала апатия, воистину смертельная апатия. Человек как бы заживо умирал на глазах, он был уже неживой, и Павел своим выстрелом всего-навсего прекращал течение каких-то физических процессов: биение сердца, кроветок, работу мозга в уже неживом организме. Ну вроде как выключить свет, щелкнув тумблером. Не более того.
Конечно, могло статься так, что приговоренный все-таки преодолеет эту свою апатию, вновь исполнится воли к жизни и набросится на убийцу, но Павел старался не дать ему шанса. Однако сейчас ему впервые захотелось, чтобы потенциальная жертва оклемалась от первого шока как можно скорее. Ему было интересно посмотреть, как поведет себя именно этот человек, от которого он ждал столь многого, которому предстояло спасти не только себя, но и своего убийцу!
Резвун вдруг поднял голову. Лицо его было по-прежнему пепельно-серым, потрясенным, постаревшим, однако глаза уже не смотрели так уныло и обреченно. И голос не дрожал:
– Сколько вы хотите взамен?
Павел медленно улыбнулся и вздохнул с облегчением. Недаром он с самого начала чувствовал к этому объекту такую симпатию!
– А давайте прикинем, – сказал он дружелюбно. – За вашу голову мне обещано сорок тысяч. Не рублей, сами понимаете. За дочь – двадцать, за внука – десять. Ну а я хочу ровно вдвое. Надеюсь, вас это не разорит?