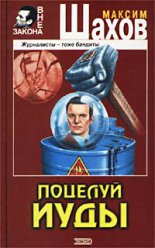Барыня уходит в табор Дробина Анастасия

Пролог
Вечер 6 июля 1878 года был теплым и тихим. Красное солнце опускалось за Серпуховскую заставу, и последние лучи гасли один за другим на далеких куполах Данилова монастыря. Шумные толпы людей и скота, заполнявшие Серпуховку днем, сильно поредели, и в Москву тянулся лишь припозднившийся соляной обоз и цепочка богомольцев, а из Москвы катилась, подпрыгивая на ухабах, одинокая пролетка. Она миновала разбитые телеги с солью, оборванную и загорелую толпу «божьих людей» и остановилась посреди пустой дороги. Извозчик обернулся к седоку:
– Глянь, Трофимыч, вон они – ваши. Приехали, вылазь.
В полуверсте от дороги, над скошенным полем, поднимались дымки костров, виднелись цыганские кибитки, полотна шатров. Оттуда доносились гортанные голоса, ржание, лай собак.
– Нашли где встать, голоштанники, – кивнул извозчик на полосатый придорожный столб. – Им тут и горка, и речка – ночуй не хочу. А завтра всем шалманом на Конную заявятся. Не ходил бы, Трофимыч… Загуляешь – ищи тебя потом, мучайся. Поехали лучше до дому, Трофимыч, а?
«Трофимыч», которому на вид было не больше тридцати, отмахнулся и легко, по-мальчишески выпрыгнул из пролетки. Он был невысок, широк в плечах, одет в новую черную пару, из-под которой виднелась голубая шелковая рубашка и тянущаяся по животу золотая цепочка часов. Котелок был лихо сбит на затылок, из-под него буйно лохматились густые черные волосы.
Не сводя глаз с табора, пассажир протянул извозчику два гривенника.
– Держи. Завтра за мной приедешь. К нашим заскочи, скажи – в табор уехал. И того… нашим-то скажи, а Яков Васильичу – молчи. Понял?
– Чего не понять… – буркнул извозчик. – Не впервой. Ох, прости господи, вот гулящая душа… Не запей смотри!
– Не беспокойся, – донеслось уже с середины поля. Извозчик некоторое время не трогался с места, провожая глазами черный котелок, затем, кряхтя и поглядывая на темнеющее небо, принялся разворачивать лошадей.
На пути пассажиру пролетки попалась девушка лет двадцати в красном, прорванном на локтях платье. Она ползала на коленях по скошенному жнивью, собирая в подол рассыпавшуюся картошку. Ее небрежно заплетенные волосы падали вниз, и было видно, как под тканью платья по-птичьи двигаются худые лопатки. Услышав шаги, она быстро, как зверек, повернулась всем телом. С некрасивого лица блеснули настороженные глаза. Пришедший остановился, улыбнулся.
– Митро?.. – Девушка, вскочив, всплеснула руками. Картошка посыпалась на землю. – Дмитрий Трофимыч! Ты? Ты?!
– Я, девочка. Т’явес бахталы [1]. Как ваши, все здоровы?
– А что им будет? Ай, да я побегу скажу! Вот радость-то! Радость какая! – последние слова девушка выпалила уже на бегу, и вскоре ее красное платье мелькало у кибиток.
– Ромалэ, ромалэ! – зазвенело над полем. – Митро явья! [2]
Усмехнувшись, Трофимыч-Митро подобрал со жнивья несколько картофелин и пошел следом.
У стоящих полукругом шатров его встретила толпа: собрался чуть ли не весь табор. Цыгане сдержанно улыбались, шевелили кнутовищами скошенную траву, из-за их спин выглядывали босоногие женщины. Чумазые дети бесцеремонно рассматривали гостя.
– Т’явэн бахталэ, ромалэ, – обращаясь ко всем сразу, степенно сказал Митро, замедляя шаг. – О Ваня, Петька – здорово! Дядя Паша! Чтоб ваши кони сто лет сыты были!
Цыгане весело зашумели. К Митро протянулось сразу несколько рук, кто-то сунулся обнять, кто-то без обиняков пощупал золотую цепочку, одобрительно хмыкнув, кто-то во весь голос принялся распоряжаться:
– Эй, воды принесите, самовар, живо! Скорее вы, сороки! Что там с ужином? Перед гостем не позорьтесь, проклятые!
Женщины бросились к шатрам. Загалдевшим детям Митро сунул горсть конфет, пряники, дал несколько мелких монет, улыбнулся на благодарные слова матерей. Обернувшись на негромкий оклик, зашагал к крайнему шатру.
Дед Корча не встал навстречу гостю – лишь протянул морщинистую коричневую руку и жестом пригласил сесть рядом. Густые волосы с сильной проседью падали старику на плечи, усы и борода возле губ были желтыми от табака. В вырезе широко распахнутой рубахи мелькала загорелая грудь. Темно-карие, блестящие, по-молодому живые глаза улыбались гостю.
– Будь здоров, морэ. Снова к нам? Варька из-за тебя на весь табор раскричалась. Сейчас ужинать будем. Эй, Симка, трубку!
У огня суетилось несколько женщин. На окрик старика метнулась самая молодая из них, влетела в шатер, чинно вынесла из него длинную трубку, подала, перекидывая из ладони в ладонь, уголек из костра.
– Видишь – сына женил, – объяснил дед Корча, прижимая большим пальцем – сплошной мозолью – уголек в трубке. – Хоть и не принято невестку хвалить, но – чистое золото.
Молодуха вспыхнула, торопливо отошла к костру. Старик проводил ее довольным взглядом. Весь табор был семьей деда Корчи, и если число своих детей он помнил твердо – двенадцать, а подсчитывая внуков, колебался между четырьмя и пятью десятками, то невесток, зятьев, племянников и правнуков не пытался даже перечислить. Упомнишь их всех разве? Здоровы – и слава богу.
Митро опустился на вытертый до основы, покрывшийся росой ковер. Из уважения помолчал, дожидаясь, пока старик раскурит трубку, отыскал глазами Варьку. Та возилась над котелком у соседнего шатра. Поймав взгляд Митро, несмело улыбнулась и тут же, спохватившись, сжала губы, прикрывая некрасивые, выпирающие вперед зубы. Митро бросил ей подобранную картошку. Варька ловко поймала ее в фартук, высыпала в помятое ведро, понесла к огню.
Дед Корча выпустил изо рта клуб дыма. Покосившись на Митро, чуть заметно усмехнулся.
– Вижу, опять за тем же приехал.
– За тем же, – не стал отпираться Митро. – Голос… Голос ее жалко, понимаешь, морэ? Не в обиду будь сказано, только кому он тут нужен?
– Что, в хоре своих голосов не стало?
– Почему, есть… – Митро не мигая смотрел в бьющееся пламя. – Что Смоляко говорит?
– Илья-то? А что он скажет… Не знаешь его? Одни кони в голове. Весной на Кубани стояли, так он целый косяк откуда-то пригнал. Тем же месяцем на ярмарке сбыли, большие деньги взяли. Меняет, продает – настоящий цыган! Зачем ему в город?
– Кофарить [3] и в Москве можно.
– А как же, слышали… – в сощурившихся глазах старика пряталась насмешка. – Как понаедут в табор хоровые, в золоте все, носы до небес задирают – господа! А сами такие же кофари, как наши. Еще и не знаешь, кто на ярмарках громче орет. У ваших-то голоса покрепче!
Митро пожал плечами, промолчал. Над полем спускались сумерки. С недалекой речушки потянуло туманом, в небе робко, по одной зажигались первые звезды. Мимо шатра, смеясь и болтая, пробежала стайка девушек – рваные юбки, босые ноги, увядшие ромашки и васильки в спутанных косах. Одна из них окликнула Варьку, и та, вскочив, кинулась следом. В посвежевшем воздухе отчетливо слышалось стрекотание кузнечиков.
Со стороны реки донесся нарастающий конский топот. Дед Корча подмигнул Митро:
– Вон скачут. Поговори с ним сам, может, послушает.
Из тумана, ворвавшись в очерченный костром круг света, галопом вылетели всадники. С десяток молодых цыган, еще мокрых, взлохмаченных, на ходу попрыгали с лошадей, и тишина разбилась смехом, криком и ржанием.
– О, Митро! Арапо! [4] Чтоб тебе золоту счет потерять, здравствуй!
– Будьте здоровы, чавалэ. Чтоб ваши… – начал Митро обычное приветствие и, перебивая самого себя, вдруг со страстным стоном выдохнул: – О, дэвлалэ, дэвлалэ, дэвлалэ-э-э…
Одним могучим прыжком он вскочил с ковра. С расширившимися глазами сделал несколько шагов к лошади, которую сдерживал под уздцы один из парней. Зажмурившись, схватился за грудь, словно ему не хватало воздуха. Цыгане вокруг понимающе усмехнулись, отошли, давая посмотреть.
Это был красивый чагравый жеребец с тонкими, сильными ногами, крутой шеей и густой нестриженой гривой. Еще разгоряченный после скачки, он не желал униматься, перебирал копытами, просился на волю, умоляюще кося на хозяина фиолетовым блестящим глазом. Жадный, опытный взгляд бывалого кофаря мгновенно определил: порода! Митро проворно залез под брюхо коня, завертелся там, восхищенно вздыхая. Дрожащим от нежности голосом запросил:
– Но-о-ожку, дай, ножку, ножку… Ах ты, душа моя, красавец, солнышко… Ах ты, маленький, серебряный мой… Всех бы баб за тебя, сестер всех отдал бы… Ни одна, дурища, не стоит… Илья! Смоляко! Где взял?!!
Цыгане негромко рассмеялись, но Смоляко [5] даже не улыбнулся. Лишь пожал плечами и любовно отер круп коня рукавом рубахи. Он, как и сестра его Варька, не был красив. Крутые скулы, жесткий подбородок, большой нос с горбинкой, мохнатые брови, сросшиеся на переносице, делали Илью старше его двадцати лет. В черных чуть раскосых глазах никогда не мелькало улыбки. Темная, редкая даже для цыган смуглота лица полностью оправдывала прозвище. В курчавых волосах парня еще блестела вода, на груди, чуть ниже худых, сильных ключиц, светился крестик на истлевшем шнуре. С минуту он молча наблюдал за копошащимся под брюхом жеребца Митро. Затем спросил:
– Заночуешь там, брат? Скажи, Варька подушку принесет…
Цыгане грохнули хохотом. Взлохмаченный Митро выбрался на траву, встал, не сводя с коня глаз.
– Меняешь?! Душу положу! На колени встану!
Илья мотнул головой, но Митро не унимался:
– Двух донских трехлеток за него дам! Завтра на Конную приходи, поглядишь! Золото, а не кобылки, не пожалеешь! Дорогой ты мой, все, что хочешь, отдам! Ну – по рукам?
Илья отвернулся. Митро подозрительно сощурился, прикидывая – не пытается ли тот набить цену. Но некрасивое лицо парня не выражало ничего. Митро, разом сгорбившись, опустился на траву, огорченно вздохнул. Долго молчал. Наконец, собравшись с силами, выговорил:
– И черт с тобой. Сам катайся… Менял или так взял?
– Взяли под Орлом, у гаджо из усадьбы, – в голосе Ильи проскользнула чуть заметная хвастливая нотка. – Остальных продал. А этого… Ну не могу его менять!
– Еще бы… – Митро, не выдержав, снова встал, ласково погладил большую голову жеребца, бережно выпутал из гривы комок репейника. – Только таких лучше сразу сбывать, а то мало ль что…
– Месяц прошел. Не найдут.
С лошадей разговор сам собой перешел на московскую конную торговлю; в него охотно вступили и другие цыгане, кружком рассевшиеся у шатра деда Корчи. Над табором совсем стемнело, перед каждой кибиткой легли дрожащие круги света. Костры догорали, обращались в угли. По лицам цыган прыгали красные блики. Варька сидела у котелка, задумчиво мешала в нем ложкой. Поглядывая на шевелящиеся у полога шатра тени, запела:
- Ай да, мири доля, мири бедная…
- Пропадаю мэ, ромалэ, боже мой…
Сильный низкий голос поплыл по табору. Разговор у шатра деда Корчи прекратился. Митро оторвался от чагравого жеребца, обернулся, пристально посмотрел на Варьку. Вполголоса подтянул:
- Пропадаю ни за что, хорошая моя…
Варька просияла и забрала вдруг так высоко и щемяще, что Митро, смущенно осекшись, умолк. Кто-то другой, от соседнего шатра, подхватил песню, затем вступили еще несколько голосов. Цыгане один за другим подходили к углям. Песня поплыла в черное поле, высоко над которым стояла луна. Митро слушал, закрыв глаза, силясь проглотить вставший в горле комок. «Ах, черт… Ах, черт…» – повторял он про себя. По спине бежали мурашки.
– Что, в Москве не так поют?
Митро вздрогнул, очнулся, повернулся на голос. Стоящий рядом Илья не пел. В темноте его лицо казалось совсем черным, ярко блестели белки глаз.
– Знаешь, чаво [6], кто ты? – помолчав, спросил Митро.
– Ну?
– Пень безголовый. Не обижайся. Сто раз я тебя просил! Сам знаешь, сколько наших на конных барышничают. Без лошадей не останешься, не бойся. А то, что Варька в хоре большие деньги будет получать, – забожиться могу.
– Опять? – сердито спросил Илья. – Я тебя тоже прошу – хватит с этим! Варьку – в город? Перед пьянью в кабаке кривляться? За деньги?!
– Да ты рехнулся?! – взорвался Митро. – Кто ее кривляться заставит, голова дубовая! Мозгами-то пораскинь, чаво, я дело говорю, а ты!.. Ну и сиди здесь, лошадям хвосты крути! Что ты здесь имеешь, сам скажи… Бричку эту? Шатер драный? Две клячи на трех ногах?!
– Клячи?! – взвился Илья. – У меня – клячи?! Сам ты на трех ногах!
Митро вскочил. Они стояли грудь к груди у догорающих углей, уже готовые вот-вот сцепиться. Но дед Корча негромко покряхтел, не поднимая головы, и Митро сразу пришел в себя.
– Молодой еще грозить мне, – сказал он спокойно. Отвернулся, заговорил о чем-то с подбежавшими цыганами и пошел с ними прочь.
Илья, сжав кулаки, смотрел ему вслед. У его ног на огне бешено бурлил котелок.
– Варька, ослепла?
– Вижу, – сдавленно сказала сестра, наклоняясь над варевом.
Илья сумрачно смотрел в огонь. Сквозь зубы спросил:
– Чего ревешь, дура?
– Ничего, – не поднимая головы, прошептала Варька. – Сейчас готово будет. Садись.
– Не хочу, – зло сказал он. Шагнул через угли, через котелок с шипящим и чадящим содержимым. И исчез в темноте.
От табора Илья ушел к реке. Здесь, на излучине, туман рассеивался, и серебристая лунная дорожка бежала по черной воде к заросшему камышом берегу. Тоскливо кричали лягушки. Над головками камышей бесшумной тенью пролетел лунь. Внезапный порыв ветра донес от табора отзвуки голосов, лошадиного ржания, а через минуту все стихло. Илья отошел к копне сена, сметанной кем-то у самого берега. Сел в сырую от росы траву, обхватил колени руками. Задумался.
За спиной послышались медленные шаги. Илья обернулся. Увидев приближающегося деда Корчу, растерянно вскочил.
– Сиди, – махнул рукой тот, с кряхтением опускаясь в траву. Но Илья не решался сесть, и старику пришлось потянуть его за рукав. – Садись, говорят тебе. Ну и роса сегодня! Завтра жарко будет…
Илья настороженно молчал.
– Что Арапо? Обиделся? – наконец спросил он.
– Много чести – обижаться на тебя. Совсем совесть потерял?
Илья опустил голову. Сорвал головку репейника, повертел ее в пальцах.
– Не хочу в город.
– Не хочет он… – хмыкнул старик. – Привяжут тебя там, что ли? Не понравится – вернешься. Мы зимовать все равно под Смоленск поедем. Тебе какая разница, где на печи лежать – там или в Москве? О сестре подумал бы…
– А что, я не думаю? – буркнул Илья. Отвернулся, уставился в темноту.
Они с Варькой родились в один день, в крестьянской избе. Мать зашла туда погадать и, внезапно почувствовав схватки, попросила разрешения прилечь на лавку. Стояла осень, ледяная, промозглая. Сжатые поля поливал дождь. Ганга мучилась родами двое суток, и табор ждал ее на околице села, умирая от нетерпения и споря: на кого будет похож новорожденный? Ганга была красавицей, но при одном взгляде на ее мужа нестерпимо хотелось перекреститься. На третьи сутки измученная Ганга разрешилась двойней. Цыганки долго рассматривали орущие коричневые комочки и разочарованно вздыхали, глядя на девочку: «Вот горе-то – точный отец! Гришка, как девку выдавать будешь?»
«Выдам, ничего», – невозмутимо отвечал муж Ганги.
Ганга так и не оправилась после родов. Два месяца она еще как-то держалась на ногах – высохшая, бледная, утратившая красоту, – а зимой, возвращаясь с цыганками с базара, вдруг без единого слова рухнула на снег. Кое-как ее дотащили до деревни, но Ганга больше не пришла в себя и к ночи умерла. Григорий остался один с двумя детьми.
Он не женился во второй раз. Детей воспитывали сестры жены, а позже подросший Илья стал увязываться за отцом на конные базары. Там он научился всему – менять, продавать, до хрипоты орать и размахивать кнутом, вертясь между продавцом и покупателем, выискивать в лошади мельчайшие недостатки и искусно прятать бьющие в глаза изъяны, набивать или сбрасывать цену, требовать магарыч и хребтом чуять, в какой момент пора уносить ноги. Он до сих пор помнил скупую похвалу отца: «Настоящий цыган, чаворо». Большего Илье не нужно было.
Им с Варькой было по четырнадцать, когда отец попал в тюрьму в Ярославле. Во время кабацкой драки, где сцепились ямщики и цыгане, кто-то убил человека. Прибежавшие квартальные сумели задержать только мертвецки пьяного Григория. Он не помнил ничего, упорно не признавал своей вины, но кто сумел бы оправдать похожего на черта цыгана, пойманного на месте преступления с ножом за голенищем? На лезвии нашли стертые следы крови, но Григорию так и не удалось доказать, что накануне он помогал соседке разделывать поросенка. Его угнали на каторгу. А спустя месяц незнакомые цыгане рассказали притихшему табору о том, как при первой же остановке этапа Григорий попытался бежать и был застрелен конвоиром. Илье остались кибитка, шатер, четыре подушки, пара гнедых «краснобежек» и некрасивая сестрица, которую уже пора было пристраивать замуж.
Илья не мог не сознаваться сам себе: никого страшнее Варьки свет не видел. С каждым годом они оба все больше становились похожими на отца. Большой нос, крупные зубы, резкие скулы, темная, словно сожженная, кожа не очень портили Илью, но лицо пятнадцатилетней девочки делали просто отталкивающим. Немного выручали ее глаза, доставшиеся от матери, – огромные, влажные, с длинными ресницами, от взмаха которых на щеки Варьки ложилась густая тень. Илья понимал: с рук ее не сбыть. Можно было бы поправить дело, дав за сестрой баснословное приданое. Однажды, после удачной ярмарочной недели, Илья намекнул ей на это. И каялся до сих пор. Варька спокойно сказала: «Делай как знаешь», а ночью Илья слушал ее глухие рыдания в подушку и, стиснув зубы, клялся про себя: больше ни слова о замужестве, о приданом, – пусть, сколько хочет, сидит вековушей.
Но чего было у Варьки не отнять – это голос. Он прорезался у нее годам к двенадцати – низкий, сильный, хватающий за душу. Даже привыкший к нему Илья временами чувствовал, как замирает его сердце от Варькиного «Ай, доля мири…» Стоило табору остановиться в каком-нибудь городе – и к Илье являлись хореводы, узнававшие от цыган о сказочном голосе некрасивой девочки. Дольше остальных упорствовал Митро – дальний родственник из Москвы, племянник известного хоревода из Грузин. Но Илья всем отказывал наотрез – представить себе сестру, свою Варьку, распевающей в трактире для пьяных купцов он не мог. Варька не спорила с братом. Просто продолжала петь – русские песни, подслушанные в деревнях, романсы, перенятые у городских цыган, протяжные долевые… До сегодняшнего дня Илье и в голову не приходило, что она хочет в город.
– Ну, не знаю, – растерянно протянул Илья на упрек деда Корчи. Выронив репейник, запустил обе руки в волосы. – Арапо в хоре не хозяин. Может, Яков Васильич ее послушает и скажет – своих таких немерено. Что тогда? Кому она там нужна?
– Кому? – дед Корча шлепнул комара на щеке. – Не знаю. Здесь-то, в таборе, – всамделе никому. Жаль будет, если пропадет. Девочка хорошая.
Илья молчал.
– Я тебя не заставляю, спаси бог. Сам думай. Ты ей хозяин. Как решишь, так и будет.
Старик выколотил трубку, сунул ее за пояс, ушел. Илья остался у стога. Лежал на спине, чувствуя сквозь рубашку колкие стебли, смотрел в черное, полное звезд небо. Незаметно уснул.
Его разбудила пробравшая до костей роса. Светало, река и ракитник утонули в молочном тумане, звезды таяли, бледная краюха луны спускалась к дальним холмам. Дрожа от холода, Илья вскочил, передернул плечами. Поеживаясь, направился к табору.
Варька уже была на ногах – из-за кибитки доносилось негромкое пение и звон посуды. Из шатра слышался раскатистый храп. Илья откинул заплатанный полог.
Митро спал на спине, разметавшись по старой перине. В его волосах запуталась солома и подушечные перья, шелковая рубашка была испачкана травой, черными пятнами от угля, но золотая цепочка сияла на своем месте. Илья вполголоса позвал:
– Морэ, вставай.
– Что – рая [7] приехали? – сквозь сон пробормотал тот. Сел, встревоженно огляделся. Увидев Илью, помотал головой, зевнул: – Что будишь-то, черт?..
– Дело есть.
Вдвоем они вышли из шатра. Митро сердито тер кулаком глаза, бурчал о своей несчастной жизни, в которой нет ни капли покоя, и не сразу понял, о чем говорит Илья. Тому пришлось повторить. Сообразив, о чем речь, Митро вытаращил глаза:
– Отдаешь? Отдаешь чагравого?
– Угу.
– Вправду?! – Митро подпрыгнул на месте, с радостным воплем вцепился в Илью, взмахнул руками: – Ну, братец мой, в Москве вот такую свечу за твое здоровье в церкви воткну! Говори цену! Все отдам и торговаться не буду! Двух донских, как обещал, и еще…
– Так бери.
Митро осекся на полуслове.
– Шутишь?
– Нет. – Илья боялся, что передумает, и говорил быстро, косясь в сторону. – Забирай, чего уж. До осени так похожу. А после Спаса Варьку в Москву привезу. Поможешь устроиться?
Митро недоверчиво разглядывал его. Изо всех сил соображая, что за стих нашел на парня за ночь, сумел только спросить:
– А сам-то?.. Останешься в Москве?
– И сам, – мрачно ответил Илья. Развернулся и пошел к лошадям.
Митро растерянно смотрел ему вслед.
Глава 1
Сентябрь был теплым и тихим. Неяркое солнце сеялось сквозь поредевшие кроны кленов на московских бульварах, зайчиками скакало по пыльным стеклам купеческих особняков в Замоскворечье, тонуло в палых листьях, устилавших мостовые. По небу ползли облака, но дождь не собирался – к великому облегчению Варьки, опасавшейся за свой новый наряд. Ей, привыкшей до первого снега бегать босиком да в рваном платье, было неудобно и жарко в длинной сборчатой юбке, плюшевой кофте и высоких ботинках со шнуровкой, и она то и дело украдкой покряхтывала. Илья искоса взглядывал на нее, молчал. Сам он выряжаться не стал. Сапоги новые, пряжка на поясе блестит – что еще надо?
Миновали Тишинскую площадь, Грузины, трактир «Молдавия». Впереди была видна грязноватая, шумная, почти сплошь заселенная цыганами Живодерка. Илья уже собрался было остановить первого встречного цыгана и справиться, где проживает Митро по прозвищу Арапо, когда из-за ближнего забора до него донесся трубный голос:
– А ну, слазь! А ну, слезай, чертова морда! Нечисть лохматая! Все равно не уйду, пока не свалишься! Я-а-а тебя!..
Илья заглянул через забор. Его взгляду открылся небольшой поросший травой дворик с желтой лужей посередине, в которой лежал сонный поросенок. По двору бродили тощие куры. У калитки, опершись на трухлявую перекладину, стоял Митро. Ильи он не замечал: его внимание было поглощено дородной старухой, которая, задрав голову, стояла под развесистой ветлой у забора и надрывно орала:
– Слезешь или нет, каторжник?! Али мне за будошником идтить?
– Ходи, ходи за ним! – с хохотом издевался кто-то, сидящий в развилке дерева. – Вдвоем за мной и полезете! Подпою, чтоб не скучно было!
– Все едино доберусь! Узнаешь у меня, хитрованец, как по котлам шарить! Узнаешь!
Наблюдавший за сценой Митро что-то пробурчал, шагнул было к ветле, но тут Илья тронул его за плечо:
– Будь здоров.
– О Смоляко! – обернувшись, обрадовался тот. – А я уж боялся – не явитесь! Ну, слава богу! Как в таборе, все здоровы?
– Угу… Это что?
– Что, что… Наказание мое! – буркнул Митро. – Макарьевна, что там у вас опять?
– Вот, Трофимыч, полюбуйся! – повернулась к нему бабка. – Это как же называется? Я его зачем в дом впустила? Чтобы он, образина нечесаная, мясо из котла таскал? Ни днем, ни ночью покою от него нету. Давеча опять околоточный приходил искать!
Митро подошел к ветле. Коротко приказал:
– Слезай.
После минутного молчания неизвестный выдвинул условие:
– Пускай Макарьевна уйдет.
– Тьфу, пропади ты пропадом! – плюнула бабка и размашисто зашагала к дому. Уже с порога погрозила кулаком: – У-у, облизьяна хитрованская!
«Облизьяна», ловко цепляясь за сучья, спустилась с дерева и оказалась цыганским мальчишкой лет пятнадцати. Спрыгнув на землю, он юркнул было к калитке, но Митро поймал его за ухо:
– Куда?
– Ну, Трофимыч же, ну, дела же у меня, ей-богу! – заверещал тот. – Люди ждут, цыгане! Да пусти, больно ведь!
– Дела?! Сколько тебе говорить, чтоб по Тишинке не шлялся? Выдрать тебя, что ли, еще раз? Зачем околоточный приходил?
– Почем мне знать? Пусти – сбегаю, спрошу… Да что ж такое, морэ! Пусти ухо, мне же выходить, может быть, вечером!
Последний довод, видимо, убедил Митро, и он выпустил мальчишку. Тот обиженно отпрыгнул, потер ухо, одернул задравшуюся на животе рубашку и как ни в чем не бывало улыбнулся Илье с Варькой. Черные и живые, как у белки, глаза смотрели со смуглой физиономии с веселым любопытством. В курчавых, взъерошенных волосах запутался лист ветлы. Митро протянул руку, чтобы снять его. Мальчишка, углядев в этом прелюдию подзатыльника, шарахнулся в сторону.
– Да не трону я тебя, обалдуй! – рявкнул Митро. – Цыган видишь? Отец с матерью тебя здороваться учили?
– Будьте здоровы, ромалэ, – спохватился мальчишка.
– Чей будешь, чаворо? – с трудом сдерживая усмешку, спросил Илья.
– Кузьма, ярославский, – охотно пояснил мальчишка. – Третий месяц здесь. В тамошнем хоре плясал, а потом сбежал.
– Платили мало? – удивился Илья.
– Жениться не хотел, – насмешливо пояснил Митро. – За него там девочка была просватана, все гулянки ждали, а он за день до свадьбы – в окошко. Явился ко мне, сюда. А нам-то он не чужой, моя сестра за его дядькой замужем… Что скалишься, проклятие мое? Подождут твои дела, зови в дом.
Домик Макарьевны был небольшим, чистым, с выскобленными полами, домоткаными половиками и недавно вымытыми маленькими оконцами. Хозяйка уже выставила вторые рамы, и в просветах между стеклами лежали красные и желтые кленовые листья. У окна стоял большой некрашеный стол и пара табуреток, вдоль стены тянулись широкие деревянные нары, застланные периной и лоскутным одеялом, поверх которого были брошены две подушки – зеленая и красная. В углу висело несколько икон с теплящейся перед ними лампадкой, на стене – маленькая семиструнка. Кузьма сбегал на хозяйскую половину и велел подобревшей Макарьевне ставить самовар.
– Где остановиться решил? – садясь на подоконник, спросил Митро.
Илья вздохнул. В глубине души он надеялся, что в хор Варьку все равно не примут и через день-два они вернутся в табор. Он даже не стал продавать лошадей, и две пегие кобылки дожидались в конюшнях на Серпуховской заставе, у знакомых цыган-барышников. Там Илья и рассчитывал прожить несколько дней.
Услышав про Серпуховку, Митро покачал головой:
– Не годится. Вам надо фатеру здесь, поближе искать. К нам господа ездят, иногда и среди ночи хор поднимают, – что же, каждый раз извозчика за Варькой слать? Наши все тут селятся – в переулках, в доходных домах…
– У меня оставайтесь, коли хотите, – весело предложил Кузьма. – Макарьевна недорого берет… Эй, Макарьевна! Макарьевна! Макарьевна!
– Чего тебе? – с кухни появилась хозяйка. – Не голоси, будет сейчас самовар…
– Еще двоих наших возьмешь? Беспокойства не будет, платить станут вовремя, девочка, если надо, по хозяйству поможет… Ну, выручай! Вот и Дмитрий Трофимыч просит… Дмитрий Трофимыч! Арапо!
Митро, спохватившись, закивал. Старуха мрачно задумалась. С ног до головы рассмотрела Илью и испуганную Варьку, скрестила руки на груди, поджала губы в оборочку и подытожила:
– Так тебе и надо, старая дура! Полна хата цыганёв насовалась – радуйся теперь!
Когда ее тяжелые шаги стихли на кухне, Илья озадаченно взглянул на Митро.
– Не беспокойся, – усмехнулся он, вставая. – Она тетка добрая, всегда нашим полдома сдавала. Песни цыганские слушать любит, романсы всякие. Пусть ей Варька споет как-нибудь – и хоть до Страшного суда живите… Ну, морэ, если что – я в Большом доме живу, заходите. А вечером, наверно, наши к тебе набегут. Надо, чтоб все как положено было.
Когда за Митро закрылась дверь, Илья выглянул в окно. На другой стороне улицы в зарослях густой сирени стоял старый, потемневший от дождей дом с мезонином. Сучья большой ветлы, нависая над Живодеркой, почти касались его окон. Илья отошел от окна, вздохнул, прикидывая, во что обойдется вечернее «как положено», и позвал сестру:
– Держи пятерку. Беги на базар.
Цыгане начали сходиться к вечеру. Первыми явились два известных на всю Москву барышника – дядя Вася Грач, прозванный так за черноту и чрезмерную носатость, и его племянник Мишка. Илья давно был знаком с ними по московским конным ярмаркам. Едва усевшись за стол, дядя Вася принялся расспрашивать Илью о «том чагравеньком», про которого Арапо врал на каждом перекрестке, что получил его «ни за что». Последний факт Илья с большой неохотой подтвердил и был вынужден в течение получаса выслушивать мнение бывалых кофарей о своих мозгах. Его спасло появление Митро, пришедшего с целым выводком сестер – молодых, широкоскулых, узкоглазых. Комната наполнилась шуршанием платьев, шушуканьем, смешками, цыганки начали чинно рассаживаться вдоль стола.
Илья украдкой осматривал их наряды. Шелковые и атласные платья, скроенные на господский манер, с талиями и стоячими воротничками, тяжелые шали, шагреневые ботиночки повергли его в уныние. Рядом с этими городскими барышнями его Варька выглядела почти оборванкой. Илья отчаянно пожалел, что сестра не надела тяжелые золотые серьги до плеч и два перстня, оставшиеся от матери. Ведь говорил же ей, сто раз повторил! А она, дура, забыла, теперь позорит его перед этими… Делая вид, что поглощен разговором с мужчинами, Илья искоса посматривал на молодых цыганок. В их взглядах и словах, обращенных к Варьке, ему то и дело чудилась насмешка. К тому же Варька стеснялась, отвечала коротко, почти шепотом, то и дело краснела. «Вот бестолковая, – мучился Илья, – вот дура таборная… Куда захотела влезть, к кому сунулась? Сидела бы под кибиткой, дым глотала. Певица, черти ее раздери…» Как раз в это время одна из сестер Митро манерно понюхала вино в граненом стаканчике, чихнула, сморщив нос, и, достав из рукава кружевной платочек, изящно помахала им в воздухе. Илья чуть не поперхнулся водкой, отвернулся, скрывая изумление и досаду. Дэвлалэ, да цыганки ли это?
Хлопнула, чуть не сорвавшись с петель, входная дверь. В комнату с радостными воплями ворвалась ватага братьев Конаковых, известных среди цыган как «Жареные черти», и благопристойная тишина взорвалась восторженными воплями и объятиями.
– Илья! Отцы мои – Илья!
– Смоляко! У нас! Да чтоб тебя всю жизнь целовали – Илья!
– Иди, обниму! Будь здоров, мой дорогой, а мы тебя еще к Спасу ждали!
У Ильи немного отлегло от сердца: уж эти-то тряпкой в кружевах перед носом махать не будут. С «чертями» он был знаком давно, и его слегка удивило то, что ребята пришли с гитарами. Неужто тоже поют в хоре?
Варька суетилась вокруг стола. За полдня они с Макарьевной успели наготовить целую гору еды, напечь пирогов, притащили из лавки уйму вина, и все же по лицу сестры Илья видел: волнуется. Но стол был полон, все было вкусно, и цыгане должны остаться довольны.
Митро снял со стены гитару. Потрогав струны, поморщился, как от зубной боли, грозно посмотрел на Кузьму.
– Сто раз говорил – не держи у печи. Отберу к лешему!
– Трофи-имыч… – Кузьма виновато захлопал ресницами, – что я-то сразу… Она ж на аршин от печи-то…
– Молчи. Стешка, где ты там? Иди пой.
Из-за стола поднялась одна из сестер Митро – та самая обладательница батистового с кружевами платка. Свет лампы упал на ее грубоватое лицо с густыми бровями и огромным вороньим носом. Илья, в душе уверенный, что страхолюднее его Варьки в хоре не будет, немного успокоился.
– С уважением к дорогим хозяевам… – поклонилась она, но в ее гортанном голосе Илье снова почудилась усмешка.
Митро, перестав настраивать гитару, посмотрел на сестру с неприязнью:
– Вам бы не ее, а Настьку послушать… Вот голос, так голос! Обещала прийти. Ну, нет ее пока, можно и эту. Давай.
Стешка фыркнула, поправила на плече складку шали, запела. У нее оказался густой, почти мужской голос, очень не понравившийся Илье. Романса, который пела Стешка, он не знал. Слова были непонятными:
- За чудный миг, за жгучее лобзанье
- Я отдала душевный свой покой,
- Сон миновал, и лишь одно страданье
- Царит в душе моей больной.
Через стол Илья поймал тревожный взгляд Варьки, понял, что она думает о том же. По спине побежали мурашки. «Как им петь? Что? Варька, кажется, тоже какой-то романс учила – „Дышала ночь и сахаром, и счастьем…“ Вдруг не то будет… Тьфу, опозоримся! Сидели бы лучше в таборе…»
– Эй, Илья! Морэ! – донеслось до него.
Он обернулся. Наткнулся на взгляд Митро.
– Нехорошо выходит – гости поют, а хозяева молчат… – заговорил Трофимыч и добавил вполголоса: – Давай, морэ, ничего… Мы ведь не Яков Васильич.
За столом наступила тишина – смолк даже женский смех и перешептывания. С подступающим страхом Илья понял – все, кто пришел, ждали именно этого. Даже Митро. Даже братья Конаковы. Он сделал знак Варьке. Та подошла, мелко ступая. Ее некрасивое личико заострилось от испуга.
– Ну, пой… Прошу – пой, – прошептал он. – Хоть эту свою, что ли, «ночь с сахаром»…
Варька не смогла даже кивнуть в ответ. На ее лбу выступили бисеринки пота. Стоя у стола и потупившись, она теребила край кофты. Илья недоумевал – почему сестра медлит? И чуть не упал с табуретки, когда Варька внезапно тряхнула головой и взяла отчаянно и звонко:
– Ай, доля мири-и-и!..
Господи! Она же совсем не это хотела!.. Илья со страхом уставился на сестру. У той дрожали губы. Голос, обычно красивый и чистый, звучал сдавленно и в конце концов на самом высоком «пропадаю мэ» – сорвался. Тишина в комнате стала звенящей. Варька замерла, закусив губы. Илья почувствовал, как кровь ударила в лицо. По спине побежала теплая струйка пота. Он понял, что через мгновение сестра повернется и выбежит из комнаты. Но допустить этого нельзя было, и Илья подхватил песню. Громко, в полный голос, как никогда не пел даже в таборе:
– Ай, пропадаю я, хорошая моя!..
Варька вздрогнула, открыла глаза. Улыбнулась посеревшими губами, и дальше они пели вместе.
Песня кончилась, но в тесной комнате по-прежнему стояла тишина. Ни шороха, ни звука. Илье было уже все равно. Он смотрел в окно, за которым метались от ветра ветви ветлы, думал: «Завтра же в табор уедем… Ну их!»
– Кто пел? Ромалэ? Митро, кто это пел? Да скажите вы мне!
Звонкий, тревожный голос раздался с порога. Илья обернулся – и едва успел шагнуть в сторону. Мимо него словно вихрь пронесся – Илья успел заметить белое платье, шаль, две черные косы. Не взглянув на него, цыганка бросилась к Митро:
– Кто пел?! Там под забором целая толпа стоит! Мы с отцом еще с улицы услыхали, я по Живодерке бегом бежала, летела! Это ведь не ты, не Мишка! Не дядя Вася же? Кто пел, кто?!
– Настька, уймись! – Митро со смехом взял девушку за плечи, развернул. – Это Илья, Смоляко, я тебе рассказывал. А это, ромалэ, Настасья Яковлевна. Моя сестра двоюродная.
Илья поднял голову. На него жадно и взволнованно взглянули большие блестящие глаза. Лицо девушки было светлым, тонким, строгим и совсем юным: ей было не больше шестнадцати. На скулах еще горел румянец, мягкие губы были изумленно приоткрыты, по виску бежала выбившаяся из косы вьющаяся прядь волос. Цыганка смотрела на него в упор, а он не мог даже улыбнуться в ответ и поздороваться.
– Н-да… Хорошо спели, ромалэ.
От негромкого голоса, донесшегося от двери, Илья вздрогнул. Яков Васильев стоял у порога, опершись рукой о дверной косяк. Знаменитому хореводу из Грузин было около пятидесяти лет. Его голова и усы лишь слегка были тронуты сединой, невысокая фигура, затянутая в синий суконный казакин, была по-молодому стройной. Темное горбоносое лицо казалось равнодушным. Небольшие острые глаза внимательно рассматривали Илью.
– Чей будешь, парень?
Невольно передернув плечами, Илья назвал себя, Варьку, родителей.
– Что скажешь, Яков Васильич? – весело спросил Митро, беря на гитаре звонкий аккорд.
– То скажу, что у тебя третья врет, подтяни, – не глядя на него, сказал хоревод. Митро смущенно схватился за гитару, а Яков Васильев скользнул неприязненным взглядом по бледному личику Варьки, осмотрел восхищенные лица цыган и коротко сказал Илье: – Оставляй сестру. Голоса нужны.