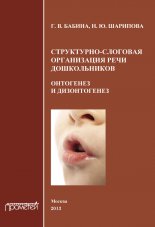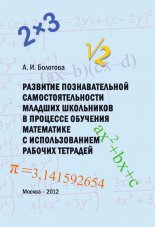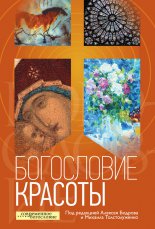Тайная любовь княгини Сухов Евгений

Через минуту раздался медвежий рык и треск поломанных сучьев.
– Вот что я вам скажу, – князь Шуйский строго оглядел зевак, – ежели вы надумаете в поединок встревать, то медведя на вас напущу, а он уж сумеет вас разогнать. Понятно ли глаголю?
– Как же не понять, боярин, – мрачно отозвался за всех московитов бородач, с опаской поглядывая на огромного зверюгу.
Медведь заинтересованным зрителем уселся неподалеку от поединщиков и принялся терпеливо дожидаться боя.
– А теперь сходитесь!
Молодцы медленно двинулись навстречу друг другу. Своим осторожным приближением они напоминали бойцовских петухов, которые пристально выбирали место, чтобы клюнуть супротивника пошибче. Петушиной была даже поступь: грудь крута, ноги врастопырку, движения кругами.
Андрей Батурлин ударил первым, и, если бы Овчина замешкался хоть на мгновение и не отстранился назад, кулак нападавшего встретил бы грудь конюшего.
– Что же это ты, окольничий, так неловок? – надсмехался Иван. – Или я так мал, что ты в меня даже попасть не можешь?
Зыркнул сердито Батурлин и повыше закатал сползший с локтя рукав.
– А ты, я вижу, пересмешник, князь. Да недолго тебе шутковать.
Окольничий с силой выбросил руку вперед, стараясь угодить Оболенскому в корпус, но князь опять умело уклонился, пропустив кулак Батурлина над самым плечом.
– Ты все бахвалился, что знатный кулачный боец, так где же твоя удаль, окольничий? Может, ты ее всю в корчме поразменял?
Об Андрее Батурлине и вправду ходила молва о том, что он удалой боец и за два стакана красного вина готов принять участие в любой драке. Не однажды ему приходилось на божьем суде отстаивать правду истца. И не однажды после божьего судилища его противника сносили сразу в церковь.
Предстоящий спор многим виделся неинтересным – слишком несоразмерными казались силы. Ясно было, что против такого искусного драчуна, как Батурлин, князю Оболенскому, который привык больше распоряжаться, чем размахивать кулаками, не устоять. Впрочем, некоторые вспоминали о том, что рос Иван Федорович бедовым детиной и в юности шага не делал без того, чтобы не стукнуть кому-нибудь в ухо.
А тем временем князь уверенно уходил от ударов, то пригибаясь, то отклоняя корпус в сторону, и постепенно такими действиями выматывал противника. Он постоянно оказывался в самом неудобном для окольничего месте: то заходил сбоку, то вдруг отскакивал далеко назад, а то забегал за спину.
Московиты боялись пропустить даже мгновение поединка. Теперь всем стало понятно, что Батурлин повстречал куда более умелого поединщика, чем он сам, который забавляется с ним, как молодая лисица с пойманной полевкой.
Совсем немногие подозревали о таком исходе боя с самого начала. Это были люди, которые знали, что князь Оболенский в отрочестве два года воспитывался в монастыре у суровых схимников. А среди них оказалось немало бывших ратников, которые чтили кулачные бои так же свято, как ежедневные молитвы. И, выйдя из обители, юноша научился не только правильно вытягивать «Отче наш», но еще и крепко раздавать оплеухи обидчикам. Это мастерство, приобретенное за стенами божественной твердыни, не однажды выручало его в немилосердных схватках.
Андрей Батурлин изрядно подустал; теперь он старался бить наверняка, чтобы точным ударом сокрушить своего удалого соперника. Окольничий подошел на расстояние вытянутой руки и, когда борода Овчины почти упиралась в его грудь, сделал решительный замах. Батурлин метил Ивану Федоровичу прямо в подбородок. Он подался вперед всем корпусом, встав на носки, чтобы удар получился как можно более внушительный, как вдруг Овчина-Оболенский поднырнул под руку и двинул окольничего локтем в лицо. Батурлин опешил только на мгновение, но этого оказалось достаточно. Кулаки князя работали так же скоро, как лопасти мельницы, стоявшей на быстрой реке. И огромная фигура окольничего подгнившим столбом рухнула на землю, разворотив под собой комья ссохшейся грязи.
Некоторое время Овчина-Оболенский стоял над Батурлиным, как богатырь над поверженным Соловьем-Разбойником, а потом повернулся к Шуйскому:
– Так на чьей стороне господь, князь?
– На твоей, боярин, – охотно согласился судья. И тут московиты услышали голос Михаила Глинского:
– Никак ли помер окольничий?
Нагнулся Оболенский над поверженным ворогом и отозвался участливо:
– Дышит едва. Через минуту отойти должен. – И, когда окольничий закатил глаза, объявил: – Все, отошел его дух к небу.
– С кого же мне теперь десять алтын взять? Со вдовы аль, может, с отца Батурлина? – зачесал рыжеватую бороду Андрей Шуйский.
– Со вдовы, – посоветовал Глинский.
– Нет, лучше взять с отца, – сказал свое слово Оболенский, – ему не так горше, как вдове, будет. Мужи-то покрепче баб будут.
– Бабы, они существа семижильные, любую беду вытянут, – заспорил Глинский. – Да и не так бедна вдова, чтобы с нее десять алтын не взять.
– Я так, бояре, думаю, – со значением произнес Шуйский. – Деньги за суд надо взять и со вдовы, и с отца покойного. Пускай платят по пять алтын.
Вдруг на небе жутко загрохотало, а потом разом все смолкло, и, если бы не затихающее в лесу эхо, можно было бы подумать, что удар грома примерещился.
– Что за напасть такая? – подивился Овчина-Оболенский.
– Это покойник тебе знак подает, – возник из толпы мельник Филипп. – Ежели ты его крестовым братом не станешь, так он твою душу с собой заберет.
– Вот оно как. – Иван Федорович глянул на небо, откуда на него должна была смотреть душа почившего Андрея Батурлина, и размашисто перекрестился, отгоняя лихие силы.
Окольничий лежал в сосновой домовине, где в трещинах свежеструганых досок проступала прозрачная пахучая смола. Смиренный, тихий, он совсем не походил на себя прежнего – забияку и квасника.
– Успокоился, Иисусе, – вместо приветствия хмуро произнес Иван Овчина-Оболенский, перешагивая порог.
Перекрестился князь троекратно, а потом маленькими шажками, не озираясь по сторонам, приблизился ко гробу.
– Господи, – выдохнул кто-то за спиной, жалеючи.
Поклонился князь Иван Федорович низенько, а потом заговорил тихонько:
– Ты уж не обессудь на меня, Андрей Пантелеймонович, так уж вышло. Кто бы мог подумать. Э-эй! Теперь уже не воротить прежнего. Братом я твоим хочу стать… крестовым. Не пожертвуешь ли ты мне свой крестик, а я свой тебе отдам… золотой и с каменьями изумрудными.
Медленно склонился Иван Федорович над покойником и едва не загасил дыханием свечу у изголовья. Князь поцеловал окольничего в холодные неподвижные губы, а потом снял у него с шеи медный крестик.
– Спасибо тебе, Андрей Пантелеймонович, за подарок. Теперь меня ни одна вражья сила тронуть не посмеет. А ты мой крестик возьми, сердешный, тебя с ним хорошо встретят. Это распятие сам митрополит освящал.
И, нацепив на шею «подарок», конюший покинул дом.
ХРАМ ГОСПОДЕНЬ
Храм Вознесения в селе Коломенском был возведен в честь долгожданного наследника.
Поначалу Василий Иванович хотел призвать в столицу итальянских мастеров, которые особенно были искусны в каменном ремесле, однако, подумав, решил не опустошать казну напрасными тратами. И скоро в Москву прибыли новгородские и псковские каменщики, которые пообещали, что собор будет возведен ко дню ангела юного наследника.
Государь пожелал, чтобы сей храм напоминал церковь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи в селе Дьякове и был так же вместителен для молящихся.
Мастеровые, успевшие построить за свою жизнь не менее двух десятков мурованных соборов, твердо возразили, что храм не будет похож ни на один виденный, а вот молиться в нем смогут зараз до тысячи христиан.
Государь улыбнулся на хвастливые слова, но отметил каждого из каменщиков, наделив кого рублем, а кого обувкой, прочим подмастерьям повелел выставить по стакану рейнского вина и отпустил с миром.
Но когда через полгода явились от каменщиков скороходы и сообщили, что храм почти возведен и следовало бы государю не поскупиться на шатровую крышу, Василий Иванович едва не повелел отхлестать лжецов розгами за напрасные речи.
Закладка мурованного собора для Руси – такое же важное событие, как начало военного похода или заключение мира с давним супостатом. А когда освящались стены, то колокола всех соборов Руси захлебывались в ликовании.
Место для храма отбиралось всегда особо тщательно, землицу кропили святой водой, воздух очищали благовонным ладаном и вдоль предполагаемых стен устраивали крестный ход, где впереди несли чудотворные иконы и хоругви.
Строительство мурованных соборов всегда шло трудно и могло затянуться на годы, а тут едва минуло шесть месяцев, как явились посланцы с благой вестью.
– Как же это вы так скоро? – подивился государь.
– Пили мало, Василий Иванович, – откровенно отвечал скороход. – Только по воскресеньям и отводили душу в хмельной радости. А еще каждое утро в святой воде умывались, вот это и подтолкнуло нас на доброе дело. Может, взглянуть, государь, желаешь?
– Желаю! Эй, рында, вели запрягать коней. В село Коломенское едем.
То, что увидел государь в Коломенском, и вправду не походило ни на что, встреченное им ранее. С Василия Ивановича едва ли не слетела шапка, когда он, задрав голову, решил оглядеть дощатый шатер. А главный мастеровой, выстроивший более дюжины соборов византийского вида, бахвалился:
– Этот храм ни на один виденный не похож. Крестом он строенный, так при Владимире Мономахе деревянные церквушки воздвигали, а мы вот камни отважились ставить.
– Храм-то не напоминает Дьяковскую церковь.
– Не напоминает, государь, ох не напоминает, – охотно согласился мастеровой, – только собор оттого хуже не сделался.
– Верно глаголишь, – примирительно кивнул головой Василий Иванович.
– Денег на шатер отсыплешь, государь?
Собор был строен широко, стоял в центре луга и напоминал потушенную свечу. Рядом с взметнувшимся ввысь сооружением государь почувствовал себя младенцем. Он как будто сразу порастерял свое самодержавное величие. Не удержался Василий Иванович от соблазна и низенько поклонился чуду.
– Как строена! Добрая память обо мне останется. Дам денег, сколько потребуется, а еще сверх того по десяти алтын получите.
– Спасибо, государь, – в благодарность тряхнул седоватой бороденкой мастеровой. – Знали мы, что собор в честь наследника строится, вот потому и старались как никогда. Только одних яиц двадцать пудов ушло.
– Ишь ты!
– А без того нельзя, – развел руками каменщик, – иначе кирпич сыпаться начнет. Золотишком бы купола поддобрить, тогда храм за двадцать верст виден будет. А в солнечную погоду так он огромным костром полыхать станет.
– Дам я тебе злата, – неожиданно согласился Василий Иванович. – Пускай оно на славу наследника пойдет.
Отошел государь подалее и глянул на возведенный собор. «Удался храм на славу!» – подумал он и решил, что на следующее воскресенье привезет с собой бочку пива.
Храм Вознесения был отстроен к самому листопаду.
Поначалу Василий Иванович хотел перенести освящение и торжественное открытие на более позднее время – на месяц грудень,[28] или на долгий студень[29] но, поразмыслив, решил поторопиться с праздником.
Уже все было готово к выезду, как вдруг великому князю занедужилось. Спину заломило так, будто сам лихой взобрался к нему на плечи, дабы погонять его. Попробовал было государь разогнуться, но в пояснице так затрещало, что ему не оставалось ничего лучшего, как призвать на подмогу рынд и велеть отнести его к стольному месту. Тут болезнь будет не так заметна, и отсюда он сумеет управлять вельможами, не наклонив шею, а гордо распрямив спину.
– Позвать ко мне Овчину Ивана! – распорядился самодержец, а когда боярин незамедлительно явился, поведал: – Занедужилось мне что-то, Иван Федорович. Ежели к храму Вознесения поеду, то боюсь, что моя душа по дороге сама к небу вознесется. Вот что я хочу сказать тебе, конюший.
– Слушаю тебя, государь.
– Всегда подле великой княгини будь и помощь ей всякую оказывай. Не прогневай меня отказом – знаю, что не в обычаях русских постороннему подле государыни быть. Только ведь Елена Васильевна после рождения дитяти слабенькой стала, и мужнина рука здесь нужна, чтобы поддержать ее вовремя. Чести такой рынды удостоиться не могут, а мамкам, нянькам да боярыням не всякий раз довериться можно. Не откажешь, Иван Федорович? Ведь подмечал я, как ты на нее во время моления смотришь. Этот взгляд о многом может поведать.
Смутила такая речь князя Оболенского. Уж не прознал ли государь о его запретной любви – вот и желает проверить своего холопа отказом. А согласись Овчина на просьбу самодержца, так окликнет верных рынд и повелит набросить на его руки железо.
Но великий князь смотрел спокойно, без ехидства, и Иван Федорович твердо произнес:
– Ты – мой государь, Василий Иванович, я же – твой холоп. Как накажешь, так тому и быть.
ОСВЯЩЕНИЕ
Всю дорогу Овчина-Оболенский ехал подле каптаны великой княгини.
Небольшие оконца были зашторены, лишь в самой середке оставалась светлая полоса, через которую пробивался дребезжащий свет фонаря. Только однажды занавеска сдвинулась и князь увидел бледное лицо государыни.
У храма Вознесения собрался весь церковный чин. С соседних митрополий съехались архиереи и игумены. Священники без конца кадили, и благовонный ладан, словно дым от костра, поднимался к небу.
Митрополит Даниил стоял в окружении архиереев. Его огромная фигура, облаченная в схимную рясу, была видна издалека. Румяное лицо иерарха как никогда прежде напоминало наливное яблоко, поскольку митрополит с утра не успел подышать серным дымом.
Даниил ждал приезда государя. При его появлении надо будет запалить свечи и на все стороны, обеими руками, отдать благословение подоспевшей пастве.
Однако вместо Василия Ивановича к собору подкатила каптана государыни, запряженная тройкой гнедых меринов. Крякнул с досады митрополит, но свое неудовольствие выказывать не посмел.
– А теперь, братья мои, освятим стены, и чтобы не сумела проникнуть в них нечистая сила, и чтобы молилось в этом православном соборе так же кротко и сердечно, как и в тех обителях, что были строены нашими боголюбивыми прадедами.
И, взяв в руки зажженные свечи, возглавил крестный ход.
Дверца каптаны отворилась, и московиты как по команде нагнули головы, опасаясь порочными взглядами замарать святой образ великой государыни.
Елена Васильевна мгновение созерцала согнутые спины, а потом, рассмотрев среди бояр Оболенского, прикрикнула:
– Что же ты, Иван Федорович, застыл? Или московской государыне тебе руки гадко протянуть?!
– Помилуй меня, матушка. – Конюший стал пробираться через затихшую толпу, наступая московитам на ноги.
– Или наказ Василия Ивановича не про тебя? А может, ты его плохо слушал?
– Старательно внимал, государыня.
– Так что же тебе повелел великий государь?
– Быть подле тебя и оберегать всяко.
– Вот и оберегай всяко московскую государыню! – произнесла Елена Васильевна сердито и сунула тонкие длинные пальцы в жесткую ладонь князя.
Иван Федорович взял руку осторожно, как головешку с полыхающего костра. Его вдруг затрясло, как от лихоманки.
А торжество между тем началось. Дьяки затянули псалом, а миряне, пристроившись в хвост крестного хода, неистово орали.
Свершив обряд, Даниил остаток святой водицы плеснул себе под ноги. Он уже не скрывал, что разочарован отсутствием государя, и нарочно старался не смотреть в сторону Елены, которая, по его умыслию, была не в меру вольна. Появление же конюшего рядом с государыней митрополит воспринимал едва ли не как совокупление при честном народе.
А великая княгиня и Овчина-Оболенский, словно не замечая недобрых взглядов, с улыбками счастливых суженых перешагнули порог храма. И тотчас с амвона раздались дружные и слаженные голоса певчих.
– Господи, как же красиво! – не скрывая восторга, глазела по сторонам государыня. Ее взору предстали сочные радужные фрески. – В Архангельском соборе того не увидишь.
Она подняла вверх голову. Оттуда на нее взирали спокойные и слегка строгие глаза Спасителя.
– В таком соборе даже государю не стыдно колени преклонить. Господи, – перекрестилась великая княгиня, и хрупкие ноги ее надломились в коленях.
Следом за государыней пала на пол и челядь, и только Иван Федорович остался торчать неприбитым гвоздем, но потом смирился и он.
Чадили свечи, душисто тлел ладан. Замутило благовониями голову Ивану Федоровичу, и он посмел наклониться к самому уху государыни и прошептал:
– Боже, как же ты хороша, Елена Васильевна!
У самого виска великой княгини блестели жемчужные подвески, которые слегка покачивались в такт ее дыханию. И Овчина увидел, что после его слов серебряные нити дрогнули сильнее.
– Ты хочешь сказать, что любишь меня по-прежнему, так же сильно?
– Государыня, а разве возможно любить тебя иначе? А полюбить тебя неспособен разве что слепой, который никогда не видел твоего лица.
– Господи, если бы ты мог знать всю правду, Иван!
– О какой правде ты глаголешь, государыня?
Голос певчих набрал такую силу, что затухли свечи и задребезжало стекло.
– Сына я назвала Иваном в твою честь.
В хор певчих влился сочный голос митрополита, грудь которого, словно меха под умелой рукой кузнеца, то расправлялась, то сжималась, и на каждом выдохе владыки паства успевала класть несметное множество поклонов, в усердии набивая шишки и царапая лбы.
Иван Федорович наклонился вместе со всеми, но больше для того, чтобы спрятаться от пристального взгляда московского настоятеля.
– Не знал я об этом, – распрямился наконец конюший.
– А ты много о чем не знаешь, боярин. Ведаешь ли ты, что Иван Васильевич твой сын?
– Господи, – прошептал едва слышно Овчина-Оболенский, усерднее обычного отбивая очередной поклон. – Неужно правда?
– Правда, Иванушка, истинный бог, правда. Муж – то мой бессилен был в то время. Но я ему внушила-таки, что это его чадо. Спорить со мной он не смеет.
Иван Федорович Овчина знал, что государь велик в своем гневе и может обрушить его даже на первейшего слугу, но, помимо своей воли, заглянул в зев смерти:
– Сына хочу увидеть, государыня.
– Сегодня ночью приходи ко мне, Иванушка, ждать тебя буду с нетерпением.
– Господи, Елена Васильевна, только не в твоих хоромах. Неужно думаешь, что все слепые!
– Ежели ты боишься государя, так я его околдую! – почти вскричала великая княгиня, и если бы не песнопение, раздававшееся с амвона, то возглас Елены донесся бы даже до ушей отроков, стоявших за дверьми. – Опою его зельем, наговорю на его следы, только будь моим!
– Уймись, государыня, – совершил очередной поклон конюший, заприметив, что мамки и боярышни с интересом посматривают в их сторону. – Церковь – не место для такого разговора.
– Найду управу на государя – будешь моим? – гнула свое великая княгиня.
– Вот как найдешь управу, тогда мы и поговорим, – поспешил закончить опасную беседу конюший и увидел, как в тот же миг лицо государыни просветлело.
КОЛДОВСКАЯ СИЛА
– В каждой бабе бес сидит, – жалился Филипп Крутов, – а меня все бранить не устают, что, дескать, я с водяными дружбу завел. Так моя любовь с нечистью дорогого стоит. Я за нее на всякого Купалу водяному черту свинью скармливаю, а на прочие праздники караваем хлеба угощаю. А вы как свой грех перед нечистой силой замаливаете? Свечи в церкви ставите? Так они и полкопейки не стоят. Вот вы самые грешники и есть. Ну чего ты от меня на сей раз желаешь, Соломонида Юрьевна?
– Государя желаю погубить, – твердо ответила старица.
– Ишь ты, куда хватила! – ахнул мельник. – Даже монашеский куколь тебя не успокоил. Гляжу на тебя, Соломония, и чудится мне, что из-под платка дьявольские рога торчат.
– Господь с тобой, Филипп Егорович, что ж ты такое говоришь! Неужно не ведаешь, что муж мой мне лихо желает? От безысходности своей порчу на него надумала навести.
– Слыхал я об этом, – отмахнулся мельник. – Только с тобой бог должен быть, а темные силы за меня стоят.
– Грешен ты, Филипп Егорович, – перекрестилась Соломония.
– Грешен, – спокойно согласился Филипп. – А я того не скрываю и прегрешение свое под схимным одеянием не прячу.
– Вот что, Филипп Егорович, наведешь порчу на государя или нет? – теряла понемногу терпение старица. – Думаешь, ты единственный колдун в Москве будешь?
– Ладно, уважу я тебя, Соломонида Юрьевна. Сколько ты мне за мое добро заплатишь?
– А чего хошь бери, колдун, – обрадовалась инокиня. – Ежели пожелаешь, так могу и крестик нательный отдать. Он у меня с каменьями изумрудными.
– Ишь ты… с изумрудами! Да ладно – великой княгине я и за так могу поколдовать. При себе оставь нательник, государыня.
Филипп Егорович Крутов был не только колдун, славился он еще и как известный колодезник, который мог сыскать водицу даже там, где быть ей не положено. Порой казалось, стоит только ковырнуть ведуну ногтем сухую землю, как источник начинает брызгать из-под ладоней смачной струей. И конечно, никто не сомневался, что на ухо мельнику нашептывает братец-водяной.
За свое природное умение колодезник плату брал небольшую, чаще всего обходилось уговором, что хозяин прибудет по первому же зову колдуна и исполнит какое-либо неприхотливое его желание.
Находить воду – такое же искусство, как лить колокола или писать иконы. Чаще это ремесло было наследственным, семейные хитрости передавались от отца к сыну и оберегались свято.
В этот раз Филипп Егорович обещал помочь с водицей самому Михаилу Глинскому. Боярин жаловался, что прежний его колодец безнадежно иссох, а скотный двор без источника так запаскудел, что зловоние чувствовалось едва ли не за версту. Вот потому Михаил Львович, преломив гордыню, поклонился колдуну и просил пособить, обещая за услугу доброго жеребца.
Покопавшись в чулане, Филипп Егорович выудил на божий свет две большущие медные сковороды, которые всегда были его непременными спутниками в поиске воды. Мельник отряхнул их от пыли, отер подолом кафтана гладкое дно и приступил к заговору:
– Отойди жара и приди вода, отворись недра и забей ключ! – И уже совсем затаенно зашептал: – Это я тебя прошу, мать сыра земля, сын твой, Филипп. Дай воды Михаилу Глинскому, напои его, как поишь и потчуешь всякого зверя и разную птицу. – А затем, стукнув трижды по дну сковороды, произнес: – Кажись, все. Теперь Михаил Львович обопьется.
Глинский встретил колдуна с должным почетом – согнулся малым поклоном, бросил под ноги овчину, а когда Филипп Егорович подмял сапогами коврик, повел его на скотный двор. Рядом с ведуном крутились дворовые девки – совками загребали его следы, а метлами разглаживали дорогу, опасаясь, что ворожей принесет на боярский двор какую-либо хворобу. Колдун, глядя на девиц, только ухмылялся.