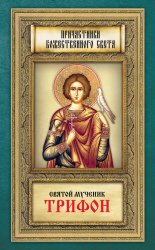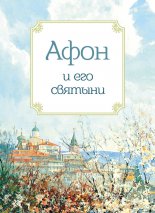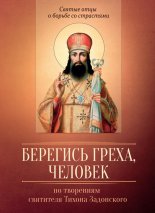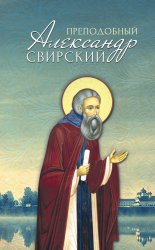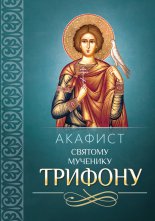Софиология Сборник статей

Вместо предисловия
Новая актуальность русской софиологии
Русская софиология продолжает привлекать внимание исследователей. Но интерес к ней – не любопытство, с каким разглядывают экспонаты историко-культурной кунсткамеры. Она пережила свое время и явилась в наше, обретя новый смысл, новую культурную роль. Дискуссии о ней вобрали в себя трагический опыт двадцатого века и напряженные предчувствия новых трагедий века двадцать первого. При этом, как видится мне, уходят на второй план темы, когда-то более других волновавшие как самих софиологов, так и их оппонентов и критиков. Была ли русская софиология не более чем инфантильным порывом русской мировоззренческой рефлексии соединить в одном дискурсе богословские, философские и поэтические размышления, придавая им очаровательную свободу, но поступаясь логикой и определенностью? Звала ли она к ревизии основ христианства, к покушению на догматы и символы веры? Не увидеть ли в ней свидетельство против самой возможности «религиозной философии» – этого якобы оксюморона, порожденного смешением различных духовных и интеллектуальных традиций? Сегодня такие вопросы больше занимают историков русской культуры первой половины двадцатого века, хотя интерес к ним иногда возрождается и среди богословов и философов, как это бывает, если в прошлом ищут истоки сегодняшних идейных и концептуальных разногласий. Однако в начале двадцать первого века перекличка с русской софиологией обретает иную – смысложизненную – актуальность.
По-видимому, история человечества входит в фазу, когда вопрос о разумности человечества обретает новый смысл, охватываемый гамлетовским «Быть или не быть?». Чтобы быть, человечество должно обрести новый разум, ибо сила безумия, скрывающегося под рациональными оболочками, быстро возрастает до способности разрушить и уничтожить природные и духовные основания человеческой жизни, низвергнуть их в небытие. Культура, обрамленная цивилизацией, уже не выглядит гарантией будущего, она поражена изнутри болезнью самоотрицания. Под сомнение поставлена сама возможность единого человечества, единого в своих целях и жизненных смыслах, в своем отношении к природе и собственной истории. Процессы «глобализации», которыми определяются мировая экономика и геополитика, несут в себе противоречия, нарастающие быстрее, чем появляются способы их разрешения. Уже ближайшее будущее часто вырисовывается как некий проект, осуществляемый не человечеством, а отдельными его фрагментами, ищущими выхода из тупиков глобального развития за счет использования своих технологических и военных преимуществ над «остальным человечеством». Всерьез говорят о насильственном удержании status quo, при котором «золотой миллиард» подчинит своим интересам большинство населения Земли. Эта идея, как бы вошедшая в реальность со страниц фантастических антиутопий-блокбастеров, звучит саркастической пародией на идею «всеединства», которая в русской философии была источником и коррелятом софиологии. Именно поэтому последняя нуждается в новом, современном прочтении и осмыслении,
Русская софиология с самого начала осознавала себя как мысль и чувство, соединяющие разъединенное – религиозные конфессии, страны и народы, индивидуальное и общественное, свободу и разум, истину и благо, Создателя и Тварь, судьбу и жизнь. Таков был замысел В.С. Соловьева, переданный им своим последователям и оппонентам. В софиологических категориях они схватывали проблему единства мирового христианства, пытались установить связь с рационалистической традицией, но преодолеть «отвлеченность ее начал», соединяя ее с нравственностью и одухотворенным стремлением к красоте и гармонии. Но главное – тем самым они искали выход из культурного кризиса Европы, неизбежно захватывавшего и Россию. Само направление этого поиска было предметом идейной борьбы, разделившей «новаторов» и «ортодоксов», но вместе с тем оказавшей серьезное стимулирующее влияние на процессы обновления и творчества внутри русской православной традиции. Вместе с тем софиологи осознавали тщетность попыток преодолеть кризис культуры, если эти попытки не сближают, а еще больше разделяют части последней, каждая из которых усматривает причины кризиса в других, утрачивая покаянную самокритичность по отношению к себе.
Если выразить главную устремленность русской софиологии как «практической философии» в короткой формуле, она – в «наведении мостов» между распавшимися частями культурного бытия человечества. Мостов через трещины, расселины. А иногда и через пропасти.
Премудрость Божия – этот богословский термин-символ служит укорененной в человеческой душе надежде на спасительную силу благого и нравственного разума. Без такой надежды духовное существование если и мыслимо, то лишь как безнадежная борьба с отчаянием, надрывом. София – врачевательница души, утешительница в скорби, заслон перед ужасом смерти. Она – нежная и любящая красота, та самая, что должна спасти мир, спасти от погибельной капитуляции перед впечатляющей мощью зла и распада. И потому женственная София – символ спокойного и верного мужества: не страшиться чудовищ, порождаемых сном человеческого разума. Божественный разум не спит, напоминали софиологи, и, может быть, высшая мудрость человека – в уповании на это бодрствование. Так образ Софии стал для них связующим звеном между верующим человеческим и Божественным разумом.
Наше время актуализирует искания, по сути своей тесно связанные с наиболее важными аспектами софиологии: обновление веры, отвечающее современным вызовам, поиски новой рациональности как культурной ценности, поиски разумных оснований диалога между западным и восточным христианством, между христианством и другими мировыми и национальными религиями, между различными культурами; поиски рациональных решений, какие могли бы обеспечить выход из культурного кризиса, лежащего в основе всех иных – экономических, финансовых, политических, технологических и экологических. Эти искания могут вести к появлению «точек роста», из которых возьмут начало новые объединительные тенденции.
* * *
Эта книга составлена из докладов участников международной конференции «Русская софиология в европейской культуре» (Москва, 1–5 октября 2008 года), организованной Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея и Институтом восточных церквей (Регенсбург, Германия) при поддержке Католического комитета по культурному сотрудничеству (Рим, Италия). Она адресована широкому кругу читателей, независимо от их религиозных верований или политических убеждений, интересующихся историей русской культуры, русской философской и богословской мысли, кому близки идеи великого синтеза, заложенные христианством в основания европейской культуры, способные стать принципами духовного единения всемирного человечества.
В.Н. Порус
Находки и противоречия русской софиологии
Альберт Раух
Образ Софии, Премудрости Божией, у св. Кирилла, просветителя славян, и в русской религиозной философии
Из жития святого Кирилла-Константина, просветителя славян, также называемого философом, известно, что в детстве ему было видение: в кругу друзей он заметил девочку, которую он, найдя особенно красивой и достойной любви, выбрал себе невестой. Она назвала ему свое имя – София. Ей он посвятил свою жизнь и был назван «Любителем Мудрости», «-». Не потому ли у обращенных в христианство славян особое отношение к Софии – Премудрости Божией, которой посвящены церкви в Киеве, Новгороде, Полоцке и других городах и чьи иконы загадочно отличаются от греческих образов Софии?
Русские мыслители, например Владимир Соловьев, задаются вопросом, который Гете сформулировал в начале «Фауста»: «Что это, содержащее мир в глубине души?» Только они спрашивают иначе: «Кто это, содержащий мир в глубине души?» Они спрашивают не о безличной силе, не о платоновской идее, но о «Душе Всего», о том, что Гете назвал «Вечной Женственностью». Что же это за образ: Anima mundi – Душа мира?
Чтобы ответить, надо понять, что вселенная – не просто скопление тел, включая молекулы и атомы, подчиненных законам, возможно, еще не до конца известным, но ано или поздно откроющимся гордому человеческому Разуму
Творение имеет душу. Эта душа жизнерадостна, она одухотворяет все мироздание в целом и его отдельные части, соединяет все в едином живом естестве, достойном любви. Она бесконечно любима Богом как невеста, как дева и как матерь. Владимир Соловьев, которому трижды в его жизни являлся этот образ, называет ее «вечной подругой», «красотой, что спасает нас», «прекрасной девой» или же просто древним русским выражением «Премудрость Божия», (по-гречески) -.
То, что греческие миссионеры идентифицировали со Христом, Логосом, «Силою Божией и Мудростью», приобрело у славян новый аспект: они больше сосредоточены на человеческой (тварной) природе Христа, которая у Него с Его Пречистой Матерью одна (соединосущен Отцу по Божеству, соединосущен Матери по человечеству, по словам папы Льва Великого). От древнего культа «Матери Земли» и многих других дохристианских верований Она унаследовала женские черты. Перевод слова «София» на старославянский язык звучит не просто как «Мудрость», но как «Премудрость». В Ее же честь были построены тогда знаменитейшие церкви-Софии, престольный праздник которых приходится соответственно на дни празднования Богородицы (Рождество Богородицы – 8 сентября или же Успение – 15 августа).
Соловьев видит Премудрость и в индуизме, и в иудаизме, и в гностической каббале, а также в образах эллинизма, таких как Афродита и юная дева Парфена, девственная покровительница Афин, «Великая Мать» ефесская, однако больше всего в известной и глубоко почитаемой в России «Матери Земле».
Следуя христианской традиции, он видит ее в «Женщине-Мудрости», так часто упоминаемой в последних книгах Ветхого Завета и встречающейся в «Книгах Премудрости», что были в употреблении в литургических текстах Богородичных праздников в восточной и западной церквах.
В этих последних книгах Ветхого Завета «Женщина-Мудрость» проявляет себя как «Начало» (), как возлюбленная небесная Невеста, Устроительница вселенной, Радость Господа и людей, Амон, , Шатер присутствия Божия среди людей, как та, что в других местах Ветхого Завета названа «Девою, дочерью Сиона», как образ Невесты из гимнов. Она – вечная небесная Спутница и одновременно Матерь и Первопричина, Начало и Венец творения. Сама по себе она не вечна, однако же в большой любви, в чистой первоначальной неомраченной любви участвует в сущности Бога, никогда не согрешила и поэтому никогда не была отделена от Бога (бл. Августин, Исповедь, книга XII).
Свой прекрасный человеческий земной облик она обрела в Деве Марии, которая также сияет в облике церкви: поэтому русские мыслители спрашивают не «Что есть церковь», а «Кто есть церковь?». Для них она не только человеческая организация, но живой, Богом любимый и Им же соединяемый организм.
Идея и образ Софии – в центре философии, поэзии и жизни Владимира Соловьева. Его софиология открывает новую светлую страницу в этом новоправославном учении, продолженном о. Павлом Флоренским и о. Сергием Булгаковым.
Софийные интуиции возникли у Соловьева еще в детстве, постепенно они проникли в его художественно-философские концепции, венчали его философию Всеединства и воплотились в религиозном искании единой универсальной Церкви всего человечества.
«Океан жизни» Соловьева был наполнен этой «таинственной красотой» Софии, молодой человек был в нее влюблен, как некогда молодой Константин-философ (святой Кирилл) посвятил ей свою короткую жизнь. С первых же лет видения в Египте и до самого конца жизни он непрерывно размышлял о ней в своих теоретических трудах, воспевал ее как божественную Царицу, как возлюбленную в своих стихах.
Надо помнить, что за сложной космогонией и метафизикой русских теоретиков, за их философско-богословскими принципами всегда стоял этот трудноописуемый и чарующий женский образ. Соловьев был убежден, что именно в этом образе просвечивают черты Софии, которая являет свое внутреннее божественное состояние. Премудрость Божия проявляет себя в сфере Слова и Святого Духа, а сама Она есть настоящая причина и цель мироздания.
До творения человека, до появления человечества как венца творения у Софии не было возможности полного самоосуществления. Именно в человеке, в его сакральной сущности находит она полноту своего воплощения. София является тройственной и в то же время единой божественно-человеческой сущностью, в которой реализовано мистическое единство человечества с Богом. Как писал Соловьев, человечество, объединенное с Богом в Пресвятой Деве, во Христе и Церкви, есть сознательная форма и воплощение абсолютной субстанции Бога. П. Флоренский в своих рассуждениях о «столпе Истины» ставил Софию рядом со Светом Фаворским, Духом Святым, Пречистой Девой и Церковью[1], видел в ней символ целомудрия, чистоты, любви и дружбы, единства творения с Богом, божественную память, хранящую все сущее, кроме смерти, безумия и безрассудства. С. Булгаков представлял Софию как антиномическую, т. е. неподвластную рассудку, но раскрывающуюся перед религиозным сознанием сущность бытия. «Софийность мира, – писал он, – имеет для твари различную степень и глубину: в высшем своем аспекте это – Церковь, Богоматерь, Небесный Иерусалим, Новое Небо и Новая Земля»[2]. София – это творческая основа мира, предстающая в образе чистой женской красоты, но исполненная мощи, соединенной с любовью.
Образ Софии, занимающий столь важное место в религиозных исканиях русских мыслителей, связывает их с идеями других религий с присущими им символикой и образами. Это и есть почва для современного межрелигиозного диалога.
Игумен Вениамин (Новик)
Софиологическое понимание Богородицы в русской религиозно-философской мысли
Православная церковь чтит Деву Марию как «честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим», превысшую всей твари. Она видит в Ней Матерь Божию и Ходатаицу пред Сыном за весь человеческий род и непрестанно молится Ей об этом предстательстве. Любовь и почитание Богоматери есть душа православного благочестия, сердце его, согревающее и оживляющее все тело[3].
«Божия Матерь есть высшее существо из всех сотворенных разумных существ, несравненно высшее самих высших Ангелов, Херувимов и Серафимов, несравненно высшее всех святых человеков»[4]. Количество Богородичных икон (с Богомладенцем) превышает количество икон с изображением только Христа.
Таково почитание Пресвятой Богородицы в традиционном православии.
В русской религиозно-философской мысли существует также интересная тенденция ассоциирования библейской Премудрости и Богородицы. Таинственна эта связь между Божественной Софией (Премудростью) и Богоматерью, и она отражает именно русскую специфику. П. Флоренский и С. Булгаков находили также, кроме философских, некоторые основания для этого отождествления и в литургической жизни православия. Важно заметить, что в ортодоксальных руководствах по догматике эта тенденция не упоминается.
Учение о Софии дано в ряде библейских текстов и раскрыто в предании о Хокме (евр.) – Премудрости. Премудрость представлена в Библии в двух аспектах:
1) как свойство Бога (Ис 28:29: «…велика премудрость Его»; Лк 2:52: «Иисус же преуспевал в премудрости.»),
2) как некая персонифицированная сущность (Притч 9:1: «Премудрость построила себе дом.»; Притч 8:12: «Я, премудрость, обитаю с разумом»; Лк 11:49: «Поэтому и премудрость Божия сказала…»). В Ветхом Завете персонифицированная премудрость произносит целую речь (Притч 8). Человеческая же мудрость – от Бога (Притч 2:6: «Господь дает мудрость»). Слово «софия» (греч.) встречается десятки раз в Ветхом Завете (Септуагинте) и оригинальном (греческом) тексте Нового Завета.
В византийской традиции София стала постепенно отождествляться с Новозаветным Логосом. Здесь, можно преположить, сказалось и влияние греческой философии (любви к мудрости). Вспомним, что главный православный храм Византии был посвящен Софии.
В русском же православии возникла тенденция отождествления Святой Софии и Пресвятой Девы. Это получило первоначальное выражение в литургических текстах, в православной иконографии, и только к началу XX века была предпринята попытка богословского осмысления этого феномена. София, согласно С.Н. Булгакову, есть «предвечное самооткровение Пресвятой Троицы»[5], основа одухотворяющегося космоса и его же предельная цель. Воцерковление всего творения (космоса) промыслительно предопределено, оно «призвано» к осознанному, свободному пронизанию себя Божественной Софией.
В Богоматери впервые в истории человечества Божественная София предельно просветила человеческое существо. Литургически это выражено знаменательным образом, ибо течение церковного года связано с Богородичными праздниками таким образом, что события жизни Пресвятой Девы – это и ступени развития церковного организма в его мистической целостности, и ступени развития каждого члена Церкви, органически пребывающего в ней. Начало церковного года освящается празднованием Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября) и заканчивается празднованием Ее Успения (15 августа), которое приводит Церковь к переживанию премирного, Божественного, трансцендентного бытия; смерть переживается как рождение в этом бытии.
Православие, как известно, находится под значительным влиянием платонизма, для которого характерны представление о мире как иерархически структурированном целом, дуализм небесного и земного, мира идеального и материального. Можно сказать, что это черта общая для многих древних религиозно-философских систем. (Различается лишь степень напряженности этого дуализма.) Платонизм имеет также еще одну трудно уловимую для современного позитивистского технизированного сознания черту – это акцентуация жизненного связующего целостного начала. В платонизме, как известно, носителем этого общего связующего и животворящего начала является «душа мира». Мифологема мудрой царственной устроительницы бытия (праматери бытия) также присутствует во многих культурах. Важно отметить, что этот жизненный принцип ассоциируется именно с женским производящим (родящим) началом, с неким душевным теплом.
Православное христианство к этому добавляет очень важный аспект – вектор, указывающий направление дальнейшего развития: тварный мир призван Богом к благодатному устроению и преображению. Библейскую Еву можно понимать не только как единичную личность, но и как некий универсальный жизненный принцип. Ириней Лионский вслед за Иустином Философом назвал Богородицу «Второй Евой», поступок которой – рождение Сына – по своей онтологической значимости сравним с грехопадением Евы, но с обратным знаком. Упрощенно говоря, Логос – это идея, а София – ее актуализация, некая онтологическая женственность. Церковная ортодоксия из нежелания впадать в какие-либо новые ереси ассоциировала Софию – Премудрость Божию со Вторым лицом Троицы – Сыном Божиим – Логосом.
В целом же библейская традиция не восприняла платоновского учения о «душе мира», признав наличие души только у человека и в какой-то степени у животных. Софиология как бы пытается вернуть утраченное, ввести животворящую энергетику в христианский дискурс. Энергетика Св. Духа, который именуется в православии Животворящим, как бы восполняется женственным началом Софии, что дает какую-то особую конкретизацию, до конца не разгаданный метафизический смысл[6].
Получается, таким образом, некое сочетание платонизма и христианства, характерное для восточного христианства. В этом случае возникает сложная проблема «увязки», согласования ортодоксальной триадологии с не совсем библейской софиологией.
Почитание Софии было воспринято Русью вместе с христианством из Византии. Киевский князь Ярослав Мудрый (1016–1054) воздвигает «дом Премудрости» – Софийский собор в Киеве. В русской традиции большое значение приобрела художественно-эстетическая интерпретация образа Премудрости, которая олицетворяется, кроме Христа, Богородицей и Церковью. Можно сказать, что аскетический эстетизм – это третий аспект платонического наследия, повлиявшего на православное мироощущение. Софийно-Богородичный аспект отражает одну из важнейших идей православия: преображение тварно-материального мира, его обожение, которое начинается уже здесь, на земле, через естество Богородицы и святых.
Софиология, периферийная по отношению к ортодоксальному богословию, является созидательной по отношению к живому организму культуры и свободной религиозно-философской мысли. Софиология особенно важна для понимания специфики русской религиозной философии, особенностей ее онтологизма и космизма, реалистического символизма и мистического реализма, избегающей жесткой догматизации и рационализма, тяготеющей к образной, эмоционально окрашенной, художественно-пластичной эстетической манере философствования. философ и правовед Е.Н. Трубецкой (1863–1920) понимал Софию как творческую Божественную силу, определил иконопись как «умозрение в красках» (в противоположность западной спекулятивной теологии), отразив, таким образом, эстетический аспект софиологии. Важно отметить, что в русской недогматизированной традиции София ассоциируется с Богородицей.
Согласно В.С. Соловьеву (1853–1900), София – это универсальная и индивидуальная Первопричина всего бытия, великая Мать всех людей и существ. В этом смысле София – основа всякого единства и развития как космоса, так и рода человеческого; и это развитие может и должно быть достигнуто через познание, почитание и следование Софии. В гностическом трактате Соловьева «София» (1876) София предстает как онтологический и гносеологический принцип универсального и личностного единства в многообразии форм жизни. По Соловьеву, София – это интеллигибельная (интеллектуальная) Душа человечества. Соловьев вспоминает о знаменитой иконе Божественной Премудрости в новгородском Софийском соборе времен Ярослава Мудрого: «Кого же изображает это главное, срединное и царственное лицо, явно отличное и от Христа, и от Богородицы, и от ангелов? Образ называется образом Софии Премудрости Божией. Кто же она, как не само истинное, чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во временном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая с Ним все, что есть. Несомненно, что в этом полный смысл Великого Существа, в целом почувствованный, но вовсе не осознанный нашими предками, благочестивыми строителями Софийских храмов»[7].
У В.С. Соловьева, таким образом, явно прослеживается влияние платонизма. Соловьев видит в красоте земной природы божественный отблеск Софии. Мистическое восприятие земли как матери – также характерная черта в русском сознании. В этом можно увидеть отголосок древнего язычества, но это же можно понимать как возможность преображения природы энергией софийной благодати. Исключение природы из полноты христианства было бы неправомерным ограничением самого христианства. В результате и получается христианизированный платонизм, характерный для многих русских религиозных философов.
В своем понимании Софии, Премудрости Божией священномученик Павел Флоренский пытался осмыслить культовые памятники – софий-ные храмы, иконы и гимнографию. Опираясь главным образом на учение св. Афанасия Великого, он не противопоставлял свои взгляды официальному учению Церкви о том, что София есть Христос. Отец Павел выразил свои софиологические взгляды в главе «София» своей главной работы «Столп и утверждение Истины» (М., Путь, 1914). Флоренский перечисляет свойства Софии, имеющие экклезиологическое и мариологическое значения. Он пишет: «София есть Великий Корень целокупной твари… которым тварь уходит во внутритроичную жизнь и через который она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни; София есть первозданное естество твари, творческая Любовь Божия»[8]. «София есть начаток и центр искупленной твари, – Тело Господа Иисуса Христа, т. е. тварное естество, воспринятое Божественным Словом. Только соучаствуя в Нем, т. е. имея свое естество включенным в Тело Господа, мы получаем от Духа Святого свободу и таинственное очищение. В этом смысле София есть предсуществующее, очищенное во Христе Естество твари, или Церковь в ея небесном аспекте. Но поскольку от Духа Святого происходит освящение и земной стороны твари, эмпирического ея содержания, то София постольку есть Церковь в ея земном аспекте. А т. к. очищение происходит Духом Святым, являющим Себя твари, то София есть Дух, поскольку Он обожил тварь. Но Дух Святой являет Себя в твари, как девство, как внутреннее целомудрие и смиренная непорочность. В этом смысле София есть Девство, как горняя сила, дающая девственность. Носительница же Девства, Дева в собственном и исключительном смысле слова есть Мариам, Дева Благодатная, Облагодатствованная Духом Святым, Исполненная Его дарами, и, как таковая, Истинная Церковь Божия, Истинное Тело Христово: из Нея ведь произошло Тело Христово»[9].
Флоренский приводит богослужебные литургические тексты, в которых София отождествляется с Богородицей[10]. Он также обратил внимание на то, что служба Св. Софии Премудрости Божией там, где она совершается по местному обычаю, совершается или в день Рождества Богородицы, или в день Успения. Флоренский также отмечает, что в Византии София – Премудрость Бога ассоциировалась с Сыном и Словом Божиим. Эта двойственность понимания Софии имеется и в службе Св. Софии. В сознании русских, отмечает Флоренский, София более ассоциировалась с целомудрием и девственностью.
Протоирей Сергий Булгаков (1871–1944) выразил свою софийную мариологию во многих работах, в том числе и в работе «Купина Неопалимая» (1927). Все богословское творчество С. Булгакова проходило под знаком Софии, которая была для него живой реальностью, актуализирующей на материальном и даже социальном уровнях Божественное начало. Он вслед за Флоренским отмечает, что в отличие от Византии, где София отождествлялась с Логосным началом Христа, а храмы Св. Софии понимались христологически, на Руси почитание Софии имело мариологический характер. Булгаков также иллюстрирует эту особенность русской духовности примерами из богослужебных текстов и русской иконографии. Согласно С. Булгакову, «в Богородице исполнился замысел Премудрости Божией в творении мира, Она есть тварная Премудрость, в которой "оправдалась" Премудрость Божественная, и, в этом смысле, почитание Богоматери сливается с почитанием самой Божественной Софии. В Богоматери соединились Премудрость небесная и тварная, Св. Дух, живущий в Ней, с тварной человеческой ипостасью. Она освящает природный мир, в ней и через Нее приходит он к своему преображению»[11]. Богородица – это как бы София, ипостазированная в тварном мире. Булгаков понимает Богородицу в свете Боговоплощения как начала преображения твари, видит в Ней космологическое значение: «Сердце мира», «Матерь рода человеческого», «Универсальную человечность», «Сердце и Мать Церкви», «Царицу Небесную». Через Богоматеринство Пресвятая Дева приобретает особую онтологическую значимость. Она начаток и благодатное средоточие новой твари[12].
Булгаков видит вселенско-универсальную сторону Софии: «Софийность мира имеет для твари различную степень и глубину: в высшем своем аспекте это – Церковь, Богоматерь, Небесный Иерусалим, Новое Небо и Новая Земля; во внешнем, периферическом действии в космосе она есть универсальная связь мира, одновременно идеальная и реальная, живое единство идеальности и реальности, мыслимости и бытия, которого ищет новейшая спекулятивная философия (Фихте, Шеллинг, Гегель, неокантианство). Этим же живым софийным единством мысли и бытия обосновывается человеческая телеология в науке, технике, хозяйстве, равно как и возможность внешнего овладения миром»[13].
Из такого понимания Богородицы в русской религиозно-философской мысли хорошо видно, что ключевым понятием в православии является «обожение» твари, и именно в свете обожения понимается Богородица, достигшая наивысшей степени обожения в тварном мире. Под «обожением» в православии понимается благодатное преображение (или начало преображения) всего тварного мира; прежде всего, всей полноты человеческой природы: телесный и духовный ее аспекты.
Не все, конечно, русские философы разделяли софиологические взгляды. Николай Бердяев (1874–1948), например, видел в софиологии угрозу человеческой свободе. В чем-то Бердяев соглашается с русскими софиологами: «Женственная стихия есть стихия космическая, основа творения, лишь через женственность человек приобщается к жизни космоса»[14]. Но в своей знаменитой «Русской идее» (1946) он пишет: «Булгаков остается верен основной русской идее Богочеловечества. Богочеловечество есть обожение твари. Богочеловечество осуществляется через Св. Духа. Софиологическая тема есть тема о Божественном и тварном мире. Это есть тема, прежде всего, космологическая, которая интересовала русскую религиозную мысль более, чем западную. Нет абсолютного разделения между Творцом и творением. Есть предвечная нетварная София в Боге (мир платоновских идей), через которую наш мир сотворен, – и есть София тварная, проникающая в творение. Булгаков называет свою точку зрения панентеизмом[15], в отличие от пантеизма. Можно было бы это назвать также панпневматизмом. Происходит как бы сошествие Св. Духа в космос. Панпневматизм вообще характерен для русской религиозной мысли. Наибольшее затруднение для софиологии связано с проблемой зла, которая недостаточно здесь поставлена и не разрешена. Это – система оптимистическая. Основной оказывается не идея свободы, а идея Софии. София есть Вечная женственность
Божия, что вызывает наибольшие нарекания (у ортодоксальных богословов. – В.Н.). Действительно, существует неясность в определении Софии. Софией оказывается и Св. Троица, и каждая из Ипостасей Св. Троицы, и космос, и человечество, и Божия Матерь. Возникает вопрос, не происходит ли слишком большое умножение посредников. Булгаков решительно возражает против отождествления Софии с Логосом. Неясно, что должно быть отнесено к откровению, что – к богословию и что – к философии. Неясно также, какую философию нужно считать обязательно связанной с православным богословием»[16].
Бердяев здесь, как и во многих других случаях, четко ставит вопрос. Но убедительность вопрошаний Бердяева не стоит преувеличивать. Тайну Божию невозможно разложить по полочкам.
В целом ассоциирование Софии и Богородицы носит в русской богословской мысли характер частного богословского мнения. Если говорить совсем кратко, то это была попытка восстановить платоновскую Душу мiра в христианском дискурсе.
А.А. Гапоненков
Рецепция русской софиологии в первой половине XX века: С.Л. Франк[17]
Рецепция русской софиологии – тема, затронутая в публикациях историков религиозной философии первой половины XX века (И.И. Евлампиев, П.П. Гайденко, А.Е. Климов и др.). С.Л. Франк был одним из первых, кто представил многоцветную палитру имен и течений русского духовного ренессанса в антологии «Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века», составленной им в 1946 году и изданной позднее его сыном Виктором Семеновичем. Во вступительных заметках к публикациям отрывков из трудов В.С. Соловьева, П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова Франк обозначил свое отношение к учению о Св. Софии. Он дал ему обобщенную характеристику в статье «Духовное наследие Владимира Соловьева» и предисловии к «A Solovyov Anthology» (London, 1950), в других работах по истории философии. Представляют исследовательский интерес отклики Франка на публикации, в которых развивается софиологическое учение. В эмиграции Франк был членом Братства Св. Софии, принял участие в сборнике (журнале) «София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии» (вышел только первый выпуск: Берлин: Обелиск, 1923). Оценка софиологии звучит в письмах Франка к прот. С.Н. Булгакову, М.И. Лот-Бородиной и др. Заслуживает внимания попытка представить «софиологическую концепцию» философии Франка (о. В.В. Зеньковский, В.Н. Ильин).
Прот. В. Зеньковский в «Истории русской философии» настаивал, что «в своих философских исканиях он (Франк. – А.Г.) чрезвычайно, интимно близок к тому, что мы находим у русских софиологов. Идея единства космоса и некой трансрациональности в нем, внутренней связанности «тайны» человека с космосом сближает Франка с другими софиологами»[18]. Это то, что несет положительный религиозно-философский смысл. «Но сближают его (Франка. – А.Г.) и отрицательные черты – через идею всеединства Франк близок к "теокосмизму", к такому сближению космоса с Богом, при котором идея творения оказывается по существу ненужной и неприменимой.»[19] Так ли это на самом деле? Прот. Зеньковский говорит как православный религиозный мыслитель, историк, который видит лишь «софиологические изыскания философа», о религиозном мире Франка он «не берется судить»: «"Всеединство" не отличает Франк в этом контексте (софиологическом! – А.Г.) от Абсолюта»[20].
Творец и творение, их единство и противоположность – все эти вопросы знала мысль Франка. Весьма показательно, что в «Сборнике памяти Семена Людвиговича Франка» (Мюнхен, 1954), редактором которого, а также автором статьи «Учение С.Л. Франка о человеке» был прот. В. Зеньковский, нет ни слова о «софиологической концепции». Вероятно, причина такого несовпадения оценок – дань памяти философа в случае со сборником, при жизни Франк не разделил бы такую аттестацию собственной философии. И это знала составитель Т.С. Франк, другие авторы книги (Г. Флоровский, Н.О. Лосский, Н.С. Арсеньев, М.И. Лот-Бородина). Несмотря на все сказанное в «Истории русской философии», в статье сборника прот. Зеньковский, фактически не называя софиологии, развивает тезис о «божественной» стороне в мире.
Автор обращается к мотивам имперсонализма в философии Франка, что есть следствие «погруженности в систему всеединства»[21]. Источник подобных мотивов – «роковые влияния» Плотина, Скотта Эриугены, Николая Кузанского. В центре учения о человеке – проблема греха. Она решается у Франка, как считает Зеньковский, в отрыве от понятий личности и свободы (стихия греха в человеке лишает его свободы), «переносится в самую глубину реальности»[22]. Ее амбивалентным характером объясняется «двойственность» человека: «Светлое начало в человеке – это сияние и действие в нем его абсолютной основы; греховное в нем – прорыв демонической стихии, присущей самой реальности… В сущности в человеке нет ничего от него самого»[23].
Как будто вопреки высказываниям прот. В. Зеньковского звучат слова М.И. Лот-Бородиной[24]: «Однако во всей метафизической концепции Семена Людвиговича примат безусловно принадлежит не макро-, а микрокосму – человеку, "образу и подобию Божьему", царю вселенной, наделенному и разумом, и волей, и творческой свободой. Он один – "носитель непосредственного единичного бытия", через которое осуществляется желанное всеединство»[25]. Укорененность личности в бытии в философии Франка означает «бытие в Боге», Бог – источник бытия.
Рассмотрим и особую позицию В.Н. Ильина, перекликающуюся с тезисами прот. В. Зеньковского. В некрологической статье 1951 года «С.Л. Франк и его место в русской философии и русской культуре» Ильин провозгласил: «Поэтому можно и должно отнести С.Л. Франка к очень характерной и даже центральной, первоосновной идее русской философии новейшего времени – к идее софиологической метафизики всеединства»[26]. Если полемику с прот. Зеньковским М.И. Лот-Бородина специально не вела, то Ильину она возразила непосредственно: «Франк остался, благодаря тонкому чутью и обращенности внутрь, совершенно чужд всем видам религиозного блуда, не впадая при этом и в так называемый онтологический монизм с обычно доминирующим в нем космоцентризмом. Только по недоразумению можно принимать Франка за представителя современной софиологической школы, как это делает В.Н. Ильин в своем некрологе»[27]. Связывать же идеи Франка с интуицией панентеизма возможно, не злоупотребляя этим термином: «Не обожествляя природы, он зрел в ней божественное, что вполне согласно и с новозаветным учением о преображении всей твари, и с теми нотами, которые так внятно звучат во многих псалмах»[28].
Одна из основных трудностей рецепции русской религиозной философии – заметное противоречие между, говоря словами Г. Флоровского о Франке и С. Булгакове, «философским оформлением» веры и «религиозной глубиной. верования»[29].
В отличие от Г. Флоровского Франк не относился к «софиаборцам», но и не разделял веру Соловьева в Божественную Премудрость: «Единственное, что здесь существенно и ценно, есть общий дух и смысл установки, который состоит в религиозной любви, в благоговейном отношении к миру и человечеству в его священной первооснове»[30]. В философской системе В.С. Соловьева главным для Франка было учение о «всеединстве», «об органическом единстве бытия ввиду его утвержденности в Боге, и о гибельности, во всех областях жизни, распадения бытия на обособленные части или элементы»[31]. Веру Соловьева в открывшийся ему образ Софии Франк считал не более чем иллюзией, художественным прозрением, не соглашаясь признать его для своей философии как неотъемлемую часть учения о «всеединстве». Антиномистический монодуализм Франка наводит мосты между бытием мира и Творцом. Женственный образ идеального мира в Боге он не мог признать основой тварного мира: «Признание священной, производно-божественной основы мира совсем не требует его гипостазирования в особое божественное существо»[32].
У В.С. Соловьева было особое понимание предназначения искусства, много последователей как в философии, так и в поэзии. Отголосок верования Соловьева в женственное начало – «душу мира» находим у Блока в символе Прекрасной Дамы. Божественной софийностью, присущей художнику, наполнялась в русской софиологической критике формула Достоевского «красота спасет мир». С. Булгаков подчеркивал: отнюдь не значит, что это сделает искусство[33]. Русские философы трезво оценивали замысел художников-теургов «создать жизнь в красоте».
Богословско-философский труд о. П. Флоренского «Столп и утверждение истины» (1913) стал заметным событием в духовной жизни философов Серебряного века, знаковым выражением кризисного состояния религиозной мысли. В журнале «Русская мысль» рецензии на эту книгу написали Н. Бердяев – «Стилизованное православие» (1914. Кн. 1) – и кн. Евгений Трубецкой – «Свет Фаворский и преображение ума» (1914. Кн. 5). Она упоминалась и в более поздних статьях других авторов. Журнальный контекст «Русской мысли» важен для рецепции русской софиологии. Франк был редактором научных и философских материалов в журнале П. Струве. Н. Бердяев подверг о. Флоренского острой критике за приверженность «математически точным» догматическим формулам церкви. Кн. Евгений Трубецкой писал: «Помню, как покойный В.С. Соловьев в устных беседах любил указывать на поразительную отсталость православного богословия от православного богослужения и иконописи, в особенности в том, что касается почитания св. Богородицы и "Софии"»[34].
Франк осознавал, что в книге Флоренского вера в Св. Софию образует ядро веры в Богоматерь, и это «есть женственный восприимчивый момент в понятии Бога, которому соответствует Божественное в творении, чистота, святость, Боговоспринимающая невестность человечества и всего космоса»[35]. Ученый-богослов пытался логически вывести догмат Троицы. Философский рационализм книги сочетается с «принципиальным иррационализмом, с неким эстетическим "фидеизмом", – отмечал Франк в 1946 году, – построение Флоренского производит впечатление какой-то искусственности.»[36].
С. Булгаков, испытав особенно сильное влияние П. Флоренского, становится главным провозвестником и защитником учения о Св. Софии. Он отражает полемические удары в эмиграции, и он же подвергается гонению за распространение своего учения со стороны консервативного духовенства и местоблюстителя московского патриархата Сергия (Старгородского). Франк очень ценил убежденность о. Сергия Булгакова, но «никогда не мог понять, какой смысл имеет, и на что понадобилась софиология о. Булгакову»[37] (из письма М.И. Лот-Бородиной, 1949). Среди членов Братства Св. Софии Франк – искренне лояльный к о. Сергию, хотя и расходившийся с ним в самом толковании учения. Франк определил «религиозную тенденцию» софиологии, воспользовавшись термином немецкого философа Карла-Христиана-Фридриха Краузе (1781–1832), – панентеизм. Святая София – промежуточная инстанция между Творцом и творением. Прот. Булгаков идет против традиционного понимания «сурового мироотрицания», выступая за христианизацию земной жизни. Тринитарный мотив Флоренского сменяется у Булгакова христологическим: «Мир есть, таким образом, обнаружение или воплощение Бога (на основе которого только и возможно боговоплощение в лице Иисуса Христа) и в этом смысле требует положительного религиозного отношения к себе»[38]. В итоге Франк видит в софиологии о. Сергия эволюцию, преодолевающую абстрактный теизм и философский рационализм. В этом направлении движется и рецепция Франком русской софиологии. В письме к прот. С. Булгакову он признал, что учение о Св. Софии «касается проблемы, еще никак не решенной православным сознанием»[39] (30 октября 1935 года). Панентеизм же в философии самого Франка заключал до конца не решенную проблему имманентности Бога в творении и трансцендентности Бога миру.
Рецепция русской софиологии в первой половине XX века, соотнесенность идей Франка и русских софиологов показывают их общее стремление философски постичь идеальный образ мира, данный Творцом.
Тереза Оболевич
Проблема софии в творчестве А.Ф. Лосева
Константину-Кириллу-Философу – одному из святых покровителей Лосева – являлась София;
Владимиру Соловьеву – духовному Учителю и любимому Философу Лосева – являлась София;
Алексею Федоровичу Лосеву – подвижнику и последнему русскому Философу XX века – являлась София!
Ее космосу посвятил он все свое творчество.
В.В. Бычков[40]
Принято считать, что Алексей Федорович Лосев (1893–1988) является последним философом, который «внес свою лепту в разработку софиологии в русской классической философии»[41]. В самом деле, проблема софии в творчестве А. Лосева занимает хотя не центральное, но все же весьма важное место. Можно выделить два направления, в которых философ разрабатывал тему софии. Во-первых, Лосев часто обращался к понятию софии как историк философии. Во-вторых, у Лосева можно встретить оригинальные софиологические построения, связанные с проблематикой имяславия. В настоящей статье мы попытаемся дать обзор основных аспектов софиологии Лосева.
1. Исследования Лосева в области софиологии
Без преувеличения можно сказать, что «Лосева как историка философии можно сравнить только с Гегелем»[42]. В так называемом «раннем восьмикнижии» сам Лосев представил свой историко-философский метод следующим образом: «…история философии, как и вообще всякая история, не может заниматься только избранными вопросами, отвечающими какому-нибудь специфическому вкусу. На этом основании нельзя отвергать при историческом изучении хотя бы даже и фантастику, ибо фантастика – тоже принадлежит истории и тоже есть ее закономерное явление. Во-вторых, во всякой фантастике есть своя внутренняя логика, которую надо вскрыть и точно проанализировать. (…) Как историку философии, мне любы все мировоззрения, какие только есть в истории»[43]. В 20-е годы минувшего века – во времена, когда автор писал эти слова, – в русской философии активно разрабатывалась проблематика софии. Хотя тема Софии как Премудрости Божией присутствовала в русской мысли уже в Киевской Руси (в сочинениях Климента Смолятича), а в XVIII веке – в творениях Григория Сковороды[44], тем не менее, начало софиологическим исследованиям (и оригинальным построениям) положил Владимир Соловьев, который, как известно, специально изучал эту проблематику в библиотеке Британского музея в Лондоне[45]. И все же отечественная литература не могла похвастаться систематическим трудом, в котором была бы широко представлена тема софии в историко-философском изложении. Этот пробел в значительной степени восполнил, среди прочих, А. Лосев, который проанализировал мотив софии как в античности (в монументальной работе «История античной эстетики»), так и в творчестве «отца» русской философии и софиологии – В. Соловьева (в своем раннем эссе «Русская философия», а также в статье «Философско-поэтический образ Софии у Вл. Соловьева», воспроизведенной в книге «Владимир Соловьев и его время»[46]). В одной из работ Лосев пытается объяснить причину долгого отсутствия специальных исследований по софиологии. Приведем же его слова: «В дни ранней молодости автора настоящей работы вопрос о Софии с жаром обсуждался в известных философских и литературных кругах, причем в этих прениях меньше всего участвовали профессиональные философы, считавшие для себя эту тему слишком модернистской, а обсуждалась она больше дилетантами и разного рода любителями. В результате этих прений в данном вопросе водворилась огромная путаница, которую в те времена было трудно ликвидировать уже из-за модности самой темы. В настоящее время тема о Софии уже давно стала историей; и современный исследователь имеет все данные и все условия, чтобы изучить этот вопрос спокойно и систематически»[47]. Можно, конечно, сомневаться в правоте лосевской оценки спора о Софии (в который в известной степени был вовлечен сам философ) как «непрофессионального», тем не менее, Лосев верно подметил, что всесторонний, углубленный анализ этого вопроса мог быть дан только после угасания накала полемических страстей.
1.1. Взгляд на софию в античной философии
Вклад Лосева в исследование и развитие учения о софии состоит прежде всего в том, что он проанализировал античные источники этой концепции и в то же время показал связь древнегреческого понимания софии с русской софиологией. В «Истории античной эстетики» Лосев анализирует понятие «софия» как с философской, так и с филологической точки зрения, поскольку – отмечает автор – «строго философское значение этого термина в истории реального греческого языка окружено множеством разного рода бытовых и вообще нефилософских значений»[48]. Основное значение понятия «софия» – это, конечно, «мудрость», причем мудрость не только в теоретическом аспекте (как познание, ученость и т. п.), но и в практическом плане («техническая мудрость», относящаяся к ремеслам, художественному творчеству, поэзии, музыке и пению, а также государственной деятельности). Теоретический и практический характер мудрости запечатлен в мысли Аристотеля, который, с одной стороны, обозначал термином «софия» главный раздел теоретической (умозрительной) философии – метафизику, а, с другой стороны, в «Никомаховой этике» писал о мудрости в искусстве, рассматриваемой как добродетель (арете), то есть совершенство.
Лосев отмечает, что точное определение софии было подготовлено Сократом и впервые развито Платоном[49]. Чем является софия в зрелой и поздней классике? Согласно Лосеву, не утрачивая своего обыденного значения как «мудрости» (в теоретическом и практическом отношении), «софия» в текстах Платона указывает на смысловую сферу. В этом месте следует задержаться на лосевском понимании смысла. Философ неоднократно подчеркивал, что смысл есть выразительная, то есть эстетическая категория, касающаяся выражаемой предметности и выражаемого осмысления. София – это смысловая структура, которая может проявляться во внешней сфере с помощью самых разнообразных средств. В то же время «платоновскую (да и вообще античную) софию никак нельзя понимать только формалистически, то есть только структурно, вне всякого реального содержания этой софии; пульсирующий смысловой скелет софии, пронизывая собою содержание любой предметности, всегда несет на себе следы также и этого содержания. В этом смысле всякая добродетель, будучи целостным осуществлением определенной идеи, обязательно софийна, так что отрицание добродетели софии всегда сводится к отрицанию значимости самой софии»[50]. Иными словами, софия – это не только само проявление смысла, но проявление конкретного содержания: нравственного (как в приведенном примере софийности добродетели), эстетического (например, софийность скульптуры), а прежде всего – софийности-мудрости космоса, выражающейся в гармонии, упорядоченности. По словам Лосева, «Платон начинает кое-где подмечать более широкое, более глубокое значение термина (софия), чем это имело место в бытовой разговорной речи или в поэзии. (…) Платон с большим трудом и в результате больших усилий мысли приходит, наконец, и к философскому пониманию мудрости. (…) Но и эта философская мудрость у Платона является не чем иным, как водворением в душе человека числовым образом размеренных и практически-художественно осуществленных движений небесного свода. Следовательно, и "мудрость" Платона есть категория математическая, то есть арифметически-геометрическая, музыкально-астрономическая»[51].
Окончательное определение софии в античности дал Плотин. В лосевском переводе фрагмента «Эннеад» (V, 8, 4–5) характеристика софии представлена следующим образом: «Жизнь же есть мудрость, и мудрость, не доставляемая умозаключениями, так как она всегда целостна (pasa) и ни в чем не ущерблена, чтобы нуждаться в мыслительном искании. Но она существует как первичная и не от другой (мудрости). (…) Итак, все происходящее, будь то произведения искусства или природы, создает некая мудрость (sophia), и творчеством везде водительствует мудрость, и если кто творит согласно самой мудрости, то таковыми же (софийными) надо считать, очевидно, и искусства. (…) Следовательно, истинная мудрость есть бытие (oysia), и истинное бытие есть мудрость. При этом достоинство для бытия – от мудрости, и, поскольку от мудрости, оно есть бытие истинное. Потому и те (бытийные) сущности, которые не содержат мудрости, тем самым, что хотя они и произошли через мудрость, но мудрости в них не содержится, – не суть истинные сущности»[52]. Итак, у Плотина софия есть не только творческий принцип бытия, но и его воплощение (в природе, произведениях искусства и т. д.). Также здесь Лосев трактует софию как эстетическую категорию, обосновывающую тождество бытия и его становления, замысла и воплощения. Не случайно реализацией софийности по преимуществу являлся космос как органическое единство идеи и материи.
Согласно Лосеву, софия-мудрость в античности – это основное понятие, которое указывает на тесную связь (вплоть до отождествления) сферы идеального и реального (осуществленного). Сам Лосев предпочитал в данном контексте говорить о символе, который философ определял как «тождество, взаимопронизанность означаемой вещи и ее идейной образности»[53]. Хотя лосевский символ не равнозначен античной софии, тем не менее, можно провести параллели между этими понятиями. На сходство данных терминов указывает сам автор. В «Истории античной эстетики» можно прочесть: «Поскольку софийность вещи есть такая идея вещи, которая заражена самыми разнообразными типами осуществления идеи в материально-вещественной области, постольку идея всегда есть тот или иной знак вещи»[54] (далее Лосев уточняет, что этот знак может быть чисто фактологическим, то есть указывать на сам факт вещи; иконическим – означать внешнюю сторону вещи, а также являться метафорой и даже мифом). В обоих случаях – как в софийности, так и в символе – речь идет о проявлении смысла, выражении внутреннего содержания в различных сферах бытия, а также человеческой деятельности.
Очередным, весьма важным этапом развития концепции софии был гностицизм. В текстах Лосева о гностической софии можно найти много любопытных деталей, однако мы ограничимся указанием основных черт, которые представляют наибольшую значимость. Прежде всего, в гностицизме происходит персонализация Софии. Во-вторых, София рассматривается здесь как причина материи и зла, возникающего в результате ее отпадения от божества. В-третьих, гностики (например, Валентин) предлагают своеобразную теорию спасения мира, которое осуществляется посредством возвращения софии в плерому. Словом, софиология гностиков есть персоналистически-мифологический аллегоризм[55]. Лосевская оценка этого явления крайне отрицательная. По его словам, «более глубокого и более яркого образа безнадежных исканий совместить язычество и христианство, чем образ гностической Софии, невозможно себе и представить. Умирающее язычество здесь буквально испытывало последние судороги перед лицом восходящего христианства, и судороги эти, занявшие собою не меньше трех столетий, могли закончиться только гибелью всей языческой культуры»[56].
Тем не менее, несмотря на наступившую гибель язычества, Лосев не скрывал своего восхищения античной культурой, которую он по-своему пытался совместить с христианской религией[57]. В частности, философу была близка неоплатоновская трактовка софии как категории выражения, принципа всевозможных субстанциальных оформлений: в природе, в человеке и во всем космосе как целом. Далее мы увидим, что именно эта концепция, лишенная гностических мотивов персонализма и дуализма, оказала влияние на оригинальные софиологические построения самого Лосева. Однако прежде мы обратимся к анализу понятия софии в мысли учителя Лосева – В. Соловьева.
1.2. Анализ соловьевской софиологии
Лосев отмечает, что «София у Вл. Соловьева – это основной и центральный образ, или идея его философствования»[58]. Анализ соловьевской софиологии был проведен на основании практически всех имеющихся материалов по этой теме: юношеской рукописи, озаглавленной «Sophie», и других работ, к которым относятся: «Философские начала цельного знания», «Чтения о Богочеловечестве», «Россия и Вселенская церковь», «Смысл любви», «Три разговора», доклад «Основная идея
О. Конта», стихотворения (особенно «Три свидания», «Июньская ночь на Сайме», «Вся в лазури сегодня явилась…», «Близко, далеко, не здесь и не там…», «Песня офитов», «Das Ewig-Weibliche»), а также вышеупомянутые статьи из Энциклопедического словаря.
Ранний диалог Соловьева «Sophie» Лосев расценивает как «жуткий философско-мистический набросок», полный «чудачества, фантастики и непродуманных бредовых идей»[59]. Однако, следуя своему методу, Лосев тотчас же добавляет, что «для историка философии это бредовое бурление очень ценно»[60], поскольку позволяет выявить источники софиологии Соловьева, а именно: библейские, каббалистические и гностические мотивы.
Ключевым для соловьевской софиологии является убеждение о взаимопроникновении идеи и материи. По его мнению, всякая идея, не исключая идеи Бога, непременно выражается в материи, а материя всегда связана с идеей. Софию Соловьев мыслил как «нераздельное тождество идеального и материального, то есть как материально осуществленную идею или как идеально преображенную материю»[61]. Этот взгляд, как мы видели, уходит корнями в глубь античности; разделял его также сам автор работы о Соловьеве – Лосев.
Как известно, Лосев выделяет десять аспектов софиологии своего учителя, которые, тем не менее, перекрещиваются между собой. Представляется возможным дать некую типологию предлагаемых Лосевым аспектов. В трех первых моментах Софии речь идет о синтезе, органической связи двух противопоставляемых сторон – идеального и материального в онтологическом плане. Первый, абсолютный аспект представляет Софию нетварную, то есть умную материю, или тело Бога, отличное от абсолюта и в то же время неотделимое от него. Аспект богочеловеческий (второй) – это София тварная, то есть воплощение Божественной Премудрости в чувственной материи, а аспект космологический (третий) в свою очередь выражает воплощение абсолюта в космосе. Очередные три аспекта имеют антропологический (в широком смысле этого слова) характер и подчеркивают то единство идеи и материи, которое осуществляется в человеке: взятом в целом (четвертый, общечеловеческий аспект); рассматриваемом как Вечная Женственность (пятый, универсально-феминистический) и как предмет любви философа (шестой, интимно-романтический момент[62]). Остальные аспекты выражают конкретные черты, то есть специфицируют Софию как женское начало: в эстетическом и в эсхатологическом отношении – как красоту, которая спасет мир (седьмой и восьмой моменты), Софию как предмет молитвы (девятый, магический аспект) и, наконец, Премудрость Божию как исконно русскую концепцию (десятый, национально-русский аспект).
Выделенные Лосевым (и сгруппированные нами) аспекты соловь-евской софиологии имеют весьма условный характер. Автор отмечает, что «логически тут полная путаница. Но ведь, кроме логики, еще есть психология. Психологически же Вл. Соловьев был буквально одержим пафосом софийности, а это и заставляло его находить ее решительно во всех центральных пунктах своего мировоззрения»[63]. Поэтому с полной определенностью можно сказать, что София как всесторонний синтез идеи и материи является аналогом соловьевской концепции всеединства.
2. Концепция Софии А.Ф. Лосева
Как уже отмечалось, тема Софии появляется в творчестве Лосева не только в его историко-философских исследованиях поздних лет, но уже в так называемом «раннем восьмикнижии» и других материалах 20-30-х годов XX века, в которых мыслитель пытался философски обосновать позицию имяславцев. Хотя в своих ранних работах Лосев почти не упоминает имени своего учителя, нетрудно заметить, что его определение Софии во многом зависит от концепции Соловьева. Оба философа рассматривают Софию как принцип осуществления Божества. В «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев пишет: «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство Христос, как цельный божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе, – есть и Логос, и София»[64]. Также Лосев был убежден в том, что Бог имеет присущую Ему умную материю, благодаря которой реализуется Его субстанциальность. Рассуждения о Софии появляются у Лосева в контексте его диалектики Единого, то есть единства Трех Божественных Ипостасей. В работе «Античный космос и современная наука» философ применяет свой диалектический метод по отношению к Богу (так называемая тетрактида А) и к космосу (тетрактида В). Лосев, ссылаясь на Платона, утверждает, что во всякой сущности можно выделить диалектически взаимосвязанные начала, или категории: нечто (сущее как таковое, находящееся в покое), иное (принцип различия, подвижность) и становление (синтез сущего и несущего, то есть иного). Применительно к Богу эти начала выражают Лица Святой Троицы, понимаемые как «ум», «воля» и «чувство». Кроме того, сущность имеет четвертое начало – наличность, факт, тело, носитель смысла, «материал оформления, субстрат осмысления, воплощение сущности»[65]. В тетрактиде А (то есть Едином, вернее, Триедином) четвертое начало есть София, которая есть «как бы тело Божие, престол Божий, храм Божий, вместилище, носительница Бога»[66]. Наконец, Лосев пишет о пятом, ономатическом начале, или имени, которое «.выявляет и изображает софийно субстанциально утвержденную триипостасность»[67]. В результате «первые три начала в аспекте четвертого суть осуществленные три начала, а в аспекте пятого суть выраженные три начала»[68].
Несмотря на то что София является четвертым самостоятельным началом в Боге, она не «четвертит Троицу», а «осуществляет первые три» категории[69]. На упрек в том, что в традиционном богословии (в частности, в патристической традиции) отсутствует концепция Софии, Лосев отвечает следующим образом: «Дело в том, что учение о трех Лицах Божества сформулировано в догмате так, что оно решительно захватывает и всю софийную сферу. Достаточно указать хотя бы на одно то, что первое Лицо мыслится рождающим, второе же рожденным. Тут яснее дня выступает софийная характеристика, ибо понятие "рождения" отнюдь не есть чисто смысловое понятие, ибо оно предполагает некую вещественную, телесную, жизненную осуществленность этого смысла»; отсюда «кто отрицает софийность в Божестве, тот вообще отрицает Божество как субстанцию, как реальность; и тот признает в Боге наличие только идеально-мысленного бытия, без всякого осуществления и без всякой субстанциальной самостоятельности»[70]. Лица Святой Троицы различаются реально, а не только мысленно, а это возможно именно благодаря Софии – началу, реализующему ипостасность.
В то время как В. Соловьев (а также С. Булгаков) учил о нетварной и тварной Софии, Лосев категорически отрицал тварный характер четвертого начала. София, согласно Лосеву, – это «не тварь, не мир, не мировая душа», поскольку «она до всего этого,,», «.не Бог, но – в ней нет ничего, кроме Бога. Это – осуществленный и реально живущий Бог»[71]. София целиком принадлежит тетрактиде А, то есть Триединому Сущему. У Соловьева связь между Богом и миром (вернее, само происхождение эмпирической действительности) обеспечивается как следствие отпадения Софии от первоначального единства, самоутверждения идей, находящихся в лоне абсолюта, «в душу живу». В «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев поясняет свою мысль следующим образом: «Представляя собою реализацию Божественного начала, будучи его образом и подобием, первобразное человечество, или душа мира (София. – Т.О.), есть вместе и единое, и всё; она занимает посредствующее место между множественностью живых существ, составляющих реальное содержание ее жизни, и безусловным единством Божества, представляющим идеальное начало и норму этой жизни. (…) С обособлением же мировой души, когда она, возбуждая в себе свою собственную волю, тем самым отделяется ото всего – частные элементы всемирного организма теряют в ней свою общую связь»[72]. Итак, по мнению Соловьева, София, изначально находясь в Боге, отделяется от него и является как живой организм космоса, стремящийся, однако, к возвращению к Богу. По вопросу об онтологическом статусе Софии Лосев занимает радикально противоположную позицию. Здесь София, будучи вместилищем Святой Троицы, по определению неотделима от Бога. В свою очередь, связь между Богом и миром осуществляется благодаря пятому началу – имени, или божественным энергиям. Между Богом и эмпирической действительностью нет quasi-субстанциального единства, как у Соловьева, а только энергийное.
Следует отметить, что София в оригинальных работах Лосева выступает прежде всего как онтологическая категория, конституирующая Единое в его фактичности, осуществленности. В то же время София, подобно тому как это было в античности и мысли Соловьева, исполняет также выразительную, то есть эстетическую функцию. В очерке «Абсолютная диалектика – абсолютная мифология» Лосев пишет, что София, будучи телом (храмом) Триединого, проявляется в сфере чистого смысла (то есть в умно-выражающем моменте энергии-имени) как Сила, Свет и Благодать. Во внешне-выражающем (субстанциальном) моменте энергии им соответствуют Царство Небесное, Слава Божия и Церковь. «Всю эту субстанциально-выразительную сферу триединства Царства, Славы и Церкви я считаю необходимым именовать софийной сферой. Софийная выраженность и выразительность окутывает триединство со всех сторон и является умным храмом пресв. Троицы и престолом величия Ее. Царство Небесное, Слава Божия и Церковь Небесная есть общее софийное Тело, в котором в бесконечной степени полноты воплотилась и осуществилась вся смысловая стихия Троицы. И это есть воплощенность объективная»[73]. Развивая диалектику выражения Пресвятой Троицы, Лосев утверждает, что Сила проявляется в Царстве Небесном как Знамение, Свет в Славе Божией – как Икона, а Благодать в Церкви – как Обряд. Таким образом, благодаря софийной сфере, одновременно выразительной (являющейся вовне) и выражающей (являющей Пресвятую Троицу), возможна молитва, христианские таинства, культ, то есть общение с Богом, обожествление, спасение. Подводя итог всему вышесказанному, позволительно утверждать, что Лосев, будучи продолжателем неоплатонической традиции и мысли Соловьева, развивал как эстетический, так и онтологический аспекты софиологии.
Ю.Б. Мелих
Стилизация софиологии у Л.П. Карсавина
Софиология в России – случайность или чаяние?
Можно сказать, что моду на изучение Софии в России ввел Вл. Соловьев. Была ли тема Софии, как это отмечает о. П. Флоренский и его поддерживает В.В. Зеньковский, для Соловьева темой, на которую он «набрел» случайно в МДА, или же он искал адекватное выражение своей интуиции в метафизике и религии? Однозначного ответа здесь быть не может. Поиск Соловьева был устремлен ни много ни мало к продолжению христианского вероучения, к приведению в движение христианской идеи. Стать основателем «Вечного Завета» – это амбиция Соловьева. С этой целью пересматриваются существующие понятия и категории, именно так в Германии во время Реформации центральной темой стала христология, а в России конца XIX века – софиология. Именно реформаторский, обновленческий, более радикально авангардистский потенциал несла в себе идея Софии, вечной женственности, совершенного человечества, свободы и вместе с тем падения, тварности, печали, «разврата».