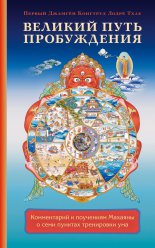Мечты посуточно. Истории обыкновенного безумия Сирази Арслан

© Арслан Сирази, 2015
© Pasquale Vitiello, иллюстрации, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Шубка
– Ну что же ты, Ковалев?! Нечего жене ответить? Нечего? Конечно, нечего, если за 10 лет брака от тебя ничего не получила! – жена продолжала накручивать себя, а Ковалев, склонив голову над ужином, привычно не поднимал взгляда.
Разговор этот, точнее, монолог, повторялся в их семье раз в три месяца.
«После того как она с подругами пообщается», – вздохнул Ковалев.
– Да, Ковалев, нечего сказать! Потому что у других жены в золоте, два раза в год – за границу! Уж про шубы молчу! На работе сикушки двадцатилетние – и те в шубах! И заметь – им мужья подарили! А ты что? Скажи – ЧТО-ТЫ-МНЕ-ПО-ДА-РИЛ?! Где моя шуба?! – жены провизжала последние слова, и Ковалев с облегчением подумал – все, кончено, разрядка, погодя можно уже будет переключиться на успехи сына в школе и ужин.
– Я порой сама не знаю – почему с тобой живу все это время, – выдохнула жена. Ковалев оторвался от вермишельных переплетений в тарелке.
Голос Кати был спокойный, и тихий, и такой … грустный. Именно так – голос жены был печален, и Ковалев предугадывал, предвидел в вермишельных гексаграммах, что за всем этим последует плач, а он будет чувствовать себя виноватым. Не только за отсутствие шубы, но и за ранние морщины, и за много других, не менее плохих вещей в жизни жены…
– Послушай, Катенька, я…
– Нет, Ковалев! Нет! – взвизгнула жена и лупанула по столу полотенцем, сорванным с крючка. – Не буду я слушать! Десять лет слушала, ничего не услышала! Ничего, кроме лапши вот этой, – жена махнула рукой, и суп, а потом и тарелка слетели на брюки Ковалева.
В потемневших полосках ткани разлеглись вермишелинки, морковные кружочки и кубики. Жена испуганно и виновато смотрела на Ковалева, ожидая реакции. Такое у них случилось впервые. Бывали и скандалы, и плач, и долгие вымученные беседы, но вот броски посуды вместе с содержимым…
Ковалев сначала не знал, что сделать. Медленно, не торопясь, встал. Тарелка с коленей слетела на кухонный коврик («в икее брали, 1490 рублей» – вспомнил Ковалев). Кружочки, кубики и гексаграммы из вермишелин разлеглись на ворсе ковра.
– Ты, Катя, охренела, – прочеканил Ковалев. – Больше… слов… нет.
Жена и сама, видимо, понимала, что перешла некую грань, после которой – тьма и неизвестность. Одними глазами, так и не двигаясь с места, она следила за движениями мужа. Ковалев повернулся и пошел к шкафу в комнате, по пути снимая рубашку.
Через пару минут Ковалев переоделся. Жена сидела у кухонного стола с пустыми глазами. Кося на нее взглядом, Ковалев обулся, открыл дверь и вышел в подъезд.
На улице он не разбирал пути. Катя, Катенька, его девочка, которую он десять лет назад встретил в кафе «Веселый Борджиа», превратилась… В кого же?
– В грымзу! – Ковалев вложил в свой рык все, что хотел высказать «виновнице торжества». Встречная парочка шарахнулась. Парень глянул исподлобья, а девушка что-то пробормотала.
Ковалев проводил парочку взглядом. «Конечно, сейчас липнет. А годик пройдет и начнется – куда пошел, где был, зачем, почему. И самое противное – вечное «сделай то, сделай так, помоги сыну с уроками, где шуба, ты совсем неромантичный, как же это…»
Перебирая упреки, Ковалев оказался под вывеской «Суши-бар «Дракон». Вспомнил, что не ужинал. Неплохо бы и выпить заодно.
В глубине зала, слева от входа, громко хохотали две женщины. «Над мужьями ржут, сучки», – вздрогнул Ковалев. За стойкой девушка с красной лентой в черных крашеных волосах пялилась в телевизор, подвешенный в высоте.
«Чертов брак – начинаешь понимать, кто крашен, давно ли и где вообще это происходило», подумал Ковалев, а вслух спросил:
– Водка есть?
– Есть. Хортица, Акдов, Ханская… – затараторила девушка, не отрываясь от телека над головой. Голос звучал устало и тускло, как и корни не прокрашенных волос.
– Самую простую. Сто… Нет… Двести, – сказал Ковалев. – Суши еще… Калифорния, что ли? Сок. Томатный.
– Напитки сразу?
Ковалев, в тон ее усталому голосу, так же устало кивнул – одними глазами. Давай, давай уже все. И сразу. И водку – в первую очередь, видишь же…
Напитки пошли легко. В тело ударила свинцовая волна, голова зашумела. Звуки из телевизора приятно струились по бару. И чего он раньше сюда не заходил?
Понятное дело – почему. Еще и спрашивает. Дома он сидел, Катеньку слушал, вот и не заходил.
Соседки по бару развязно начали требовать караоке. Девушка из-за стойки поморщилась, ответила, что караоке нет, а потом вновь уставилась в жидкокристаллическую панель.
– Девушки, а давайте… споем, – внезапно для себя предложил захмелевший Ковалев. – Просто так споем. Без всяких там караоке.
Дамы переглянулись, хихикнули. Одна, постарше, с карими, чуть мутными глазками гортанно произнесла:
– А присаживайтесь лучше к нам. Поближе познакомимся!
Ковалев опешил сперва, потом подумал, что, видно, за десять лет в браке на рынке знакомств произошли перемены, и так оно, похоже, и нужно. К тому же – дама приглашает, чего же отказываться.
– Тебя как зовут? – спросила женщина с карими глазами.
На вид ей было лет сорок. Пальцы с бледными ногтями сжимали ножку бокала с красным вином. Направление взгляда чуть плыло, но все же включало в себя фигуру Ковалева.
– Ка… Ко… Ковалев, – выдохнул он, – А вас?
– Фу какой, – в притворной обиде затрепетала кареглазая, – на «вы» обзывается. Что я тебе – мама? Давай уж на брудершафт выпьем. И на ты перейдем!
Ковалев пошарил глазами по столику, не сразу, но обнаружил рюмку и приподнял.
– А давай! Давай выпьем за знакомство! – и отчеканил, добавив улыбку, – Ковалев! Приятно познакомиться!
– О, другое дело, – смягчилась дамочка. – А я – Регина. Надеюсь, мне тоже… будет приятно.
Регина бросила взгляд в сторону подружки. Та сидела рядом, в беседе участия не принимала. Ковалев запомнил, что телефон у нее был пожарно-красного цвета, в тон ногтей.
Еще в памяти Ковалева отпечатались два тоста. Один был за прекрасных женщин. Другой… нет, только один тост отпечатался. Потом он расплачивался по счету, порываясь вначале закрыть свой счет и счет «новых прекрасных подруг, которые так украсили…» Потом, увидев цифры, посерьезнел и предложил помочь с оплатой, что дамы и сделали.
Регина жила неподалеку. Подружка (Ковалев так и не узнал имени) вызвала такси еще из бара. Машина удалялась, а Ковалев смотрел вслед, пережидая на островке тротуара алкогольный шторм.
Где-то между волнами тело Регины прильнуло к нему. Как давно Ковалев не ощущал ничего подобного. Конечно, время от времени и жена тоже, но вот этого ощущения, осознания другой женщины рядом – не было очень давно. Регина касалась бедром, обтянутым узкой юбкой. Грудь, чуть прикрытая шубкой, угадывалась под блузкой. Никаких шарфов и свитеров с горловинами, столь любимых Катенькой…
В голове шумело – от алкоголя и податливого чужого тела. Катька сама виновата – не может быть благодарной за то, что я… За вечера, полные покоя и обожания. Я люблю ее… Люблю Катеньку. И эту… Регину… тоже люблю. Как же приятно она целуется. Мы, оказывается, уже в квартире. О, вот оно что, и такие блузки бывают, не знал… Ковалев плыл между предметами одеждой, между поцелуями и объятиями, между ног и грудей…
Очнулся поздней ночью, ближе к утру. В раскрытую форточку белым похмельным лучом бил фонарь. В квартире было морозно и накурено. От гадкого вкуса во рту Ковалев моментально ощутил тяжесть вины.
Он изменил Кате. И сейчас придется как-то идти домой, что-то говорить, дышать перегаром, спутанным во рту с запахом и вкусом чужого тела.
Рядом, разметавшись под одеялом, лежала женщина. В темноте лицо ее казалось покрытым облупившимся лаком. Лак местами блестел, но где-то уже трескался. Пальцы спящей хищно цеплялись за край одеяла. Одинокая баба, которая затащила в койку мужика.
Ковалев сел на краю кровати. Надо уходить. Не ждать же утра! Просто уйти. А как? Как дверь закрыть? Ковалев проследовал в коридор. Ну, хоть тут проблем не будет – замок защелкнется сам. А что, может, оставить записку?..
Черт, вали уже! Трахнулись и трахнулись! Кстати, что насчет презервативов? Ковалев смутно припоминал, что вчера они искали резинки по всей квартире. Нашли? Или все-таки?.. Холодом полоснуло ему горло, низ живота и член.
Он вернулся к кровати, поискал растопыренной пятерней. Шорох растерзанной фольги в изножье обрадовал его больше всего на свете. Пора одеваться. Все, пора домой.
Катенька, наверное, встретит его у дверей. Или на диване, в слезах, уснувшая прямо в одежде. И потом будет болеть – неделю или даже две от этих переживаний, которые доставил он.
С тяжелым сердцем Ковалев наощупь разыскивал вещи – трусы, брюки, рубашка, носок, еще один где-то, ах да, вот валяется.
Все вроде бы, готов. Пора. Ковалев бросил последний взгляд на Регину. Даже не шевельнулась. Из-под одеяла соблазнительно виднеется голая ляжка. Член привстал. Нет, надо уходить.
Развернулся и вышел в коридор. В темноте попались ботинки, ноги уже сунулись в их горла, да не удержали. Левую ногу куда-то повело, Ковалев рухнул на пол. Попытался сдержать дыхание, прислушался. Ни звука из комнаты.
Регина спит. А он, Ковалев, лежит здесь на чем-то мягком и таком приятном. И волоски этой мягкости едва-едва колышутся от дыхания. Поднимаясь, Ковалев приподнял шубку хозяйки квартиры.
Левая рука скользнула по меху. Легкий. Пушистый. Мягкий. Мягкий, что не оторваться.
Машинально, Ковалев нашарил в коридоре пакет, скомкал в него мех, судорожно пихнул отставший рукав. Дверь щелкнула и открылась. Подъезд встретил гулкой тишиной и ярким светом. Ковалев прищурился, вновь прислушался к звукам за спиной. И шагнул к лестнице.
На колючем морозе ночной улицы полегчало. Ковалев сориентировался и заскрипел по лежалому снегу. Домой.
В квартиру вошел решительно. Ни мало не заботясь, разбудит Катеньку или нет, скорее – даже стараясь разбудить, открыл дверь. Не разуваясь, прошел в комнату. Катенька, в самом деле, спала на диване. Глаза жены по краям были словно обведены красным. Плакала.
От шагов Катя проснулась, приподнялась. Испугалась, со злобным удовлетворением, подумал Ковалев. Рывком вывернул содержимое пакета ей под ноги.
– Что это, Ковальчик? – прошептала Катенька, переводя взгляд с шубы на него и обратно.
– Это? Шуба! Ты же хотела шубу?! Вот – твоя шуба! Хотела? Получи! – последние несколько слов Ковалев злобно выкрикнул в жену, в диван, на котором она полулежала, в стену, покрытую желтыми обоями.
Стараясь не терять настроя, Ковалев проследовал в ванную, где первым делом сунул два пальца в рот. После душа, прочищенный и выжатый, голым дошел до кровати и упал в изнеможении.
Катенька так и продолжала сидела на диване. Шуба лежала у нее на коленях и жена мягко, одними пальцами, поглаживала мех. Губы Кати чуть шевелились.
– Что говоришь? – не расслышал Ковалев, почти провалившись в сон.
– А? Нет, ничего. Просто показалось… Потертость тут, что ли?
Запах
Жена ходила по комнатам и собирала вещи, а Ковалев понуро сидел в зале и комкал край скатерти. Вчера жена заявила, что уходит от Ковалева, а поутру начала паковаться, придирчиво отбирая платья и юбки.
Внутри Ковалева все было мятым и несвежим. Ночью, выслушивая ее, он внутри себя орал, умолял, грозил, божился, – словом, перебирал нужные и никчемные слова, и вроде уже готов был высказаться, но к утру все обмякло, как вещи, которые она решила «пока оставить».
– Так будет лучше для всех, – в который раз повторила жена.
– Кроме меня, – уныло отвечал Ковалев, а в животе его все перекручивалось и жгло, и взрывалось, а затем взлетало в голову, пробуждая кутерьму издерганных за ночь мыслей.
От этих взрывов Ковалев даже будто перестал узнавать жену – за ночь она вдруг стала другой, развеивая вокруг приторный аромат незнакомых духов, и весьма деловито для незнакомки перемещалась по квартире, лезла в чужие шкафы и вытаскивала очередную стопку одежды.
Это было эротическое белье, которое она надевала по особым случаям. За последний год такие дни бывали все реже и реже, а вот сейчас эта чужая женщина всё забирает…
– Нет! – Ковалев дернулся к чемоданной пасти и выхватил из нутра кружева, перепутанные атласом лент. – Не отдам! Никуда! Ты моя жена, а это… Это наше!
Он застыл, полный решимости не отдавать ни белья, ни жены какому-то мутному типу из её ночного монолога. Ковалев прижимал черное, белое и розовое к груди, а в животе и груди уже всё рвалось и набатно, с оттяжкой било в голову.
Жена посмотрела на Ковалева как учитель на паиньку-ученика, который внезапно на урок бухим и блеванул на ее стол.
– Ковалев, ну тебе не идет совершенно, – протянула она. – Отелло – не твой стиль, ты же понимаешь, – она попыталась улыбнуться, но Ковалев состроил яростную рожу, и жена отпрянула.
– Похер! Идет-не идет – плевать! Мне вот зато не плевать, что от меня жена уходит! Хер этому мудаку, а не белье эротическое!
Будто закрепляя свою тираду, Ковалев вцепился зубами в ткань, прижатую к груди, и рванул вверх. Что-то затрещало, поехало, скрипнуло. В нос ударил запах ее прежнего тела и прежних духов, до предела напитавший бельё.
– Мда, вот уж не ожидала от тебя. Думала, мы адекватные люди, которые могут решить… – жена не договорила, потому что Ковалев рванул еще раз, и что-то в белье жалобно стрекотнуло.
– Это ж Виктория Сикрет! Ковалев, скотина, ты что творишь?! – жена потянула руки к охапке, но он держал крепко, не переставая хватать зубами торчащие чулки, лифчики и трусы, и дергать головой изо всех сил, в ритм бьющего внутри набата.
Жена пыталась спасти хоть что-нибудь, но наманикюренные ногти делали только хуже, и в пару минут все мягкое, нежное, гладкое было разодрано, продырявлено или растянуто до невозможности.
Жена свирепо оглядела белые, черные, красные лохмотья в руках Ковалева, схватила чемодан и выбежала в коридор. Хлопнула дверь, по ступеням подъезда знакомо зацокали каблуки.
Ковалев стоял посреди разора. В голове еще шумело, но это был уже не набат, а волны, которые бьют в ржавый борт баржи, гниющей на берегу. Руки его опустились. Белье, шурша, пало на пол.
Поверх разодранных тряпок лежала темно-бордовая подвязка с кокетливыми оборками. Ковалев смутно помнил, как жена, блядовито глядя на него, с тихим шелестом продевала сквозь подвязку длинную, гладкую, пахнущую кремом, ножку, а он приникал к бедру губами и целовал, и языком, и пальцами шел все дальше, и обонял запах, такой…
Он рухнул рядом с кучей белья. Прижал подвязку к лицу, резко вдохнул. Запах, терпкий, тягучий, еще оставался в складках ткани. Ковалев уткнулся в валяющиеся лоскуты. Сглатывая слезы, задышал часто-часто – и носом, и ртом, как можно глубже, словно стараясь про запас набрать уходящее время.
Предсказание
Моей дорогой N.
– Не женись, сынок, прошу тебя, – в трубке шуршало, перекатывалось. Голос матери казался Артёму усталым и бесцветным. – Всё ведь сказали, куда еще…
– Мам, ну подумаешь, совпало, – разговор с матерью повторялся не первый раз, успел уже надоесть, взбесить, а теперь, перед самой свадьбой, не хватало сил, чтобы спорить, убеждать, приводить какие-то аргументы, потому что было понятно – не поможет.
– Нет, не совпало! Не совпало! Ты неужели не видишь, что всё идет ровно так, как она сказала. Ты же помнишь…
Голос в трубке продолжал говорить, перечисляя события, которые Артём отлично помнил и сам: первый брак неудачный, было холодно, темные волосы по утрам на белых склонах раковины, после развода, который прошел как по маслу (они договорились, сидя в кафе, у него был эспрессо, а она пила свой вечный капучино), через год он встретил Наташку – тоже темные волосы, только жаркая, жаркая во всем, готовая прижаться к нему на улице, на виду у всех и целоваться взасос, а у него внутри все колыхалось…
– …второй брак будет хорошим, двое детей, первый сильно заболеет, выздоровеет. Но потом, она сказала… Сказала… – голос в трубке задребезжал.
– Мам, ну хорош уже! Сколько раз уже это слышу.
– Потому что это правда!
– Да правда-правда, я и не спорю, но я пока еще даже первого ребенка не завел, не то что второго! Я живой еще, живой, ты понимаешь! – стрелка на часах переметнулась на новую метку. Надо было закруглять разговор до прихода Наташи.
– Смотри, Темочка, может, и в самом деле – пока без детей? – голос матери внезапно стал деловитым, – Она же сказала, что до тридцати лет это всё.
– Я подумаю, мам. Я знаю, ты этому веришь, и вроде всё пока совпадает, но, слушай, это – предсказание. Гадание. Не факт, что всё так и будет. Слушай, мне пора, скоро Наталья придет.
– Подумай, Тема, пожалуйста, серьезно подумай. И с детьми пока не торопитесь, очень тебя прошу…
– Хорошо, все, мне пора, мам, давай, целую тебя там, в выходные, может, заедем. Пока! – Артём дождался хоть какой-то паузы в разговоре и спешно положил трубку, успев словить последнее «могли бы все-таки и подождать».
Потёр затекшее, потное ухо. Домашний телефон он держал только из-за звонков матери, которая избегала мобильного. В последние пару лет она отказалась от всего, что, по ее мнению, могло «излучать» – сотовых, телевизора, интернета, радиовышек и даже некоторых людей. Зато не избегала своей гадалки – благостного вида тетушки, Веры Павловны, которая раскладывала карты перед матерью раз в неделю.
Три года назад, весной – Артём хорошо помнил, он только начал встречаться со Светой, первой женой, – мать приехала и, искоса глядя на Свету, уже тогда отстраненную, постороннюю, сказала, что должна поговорить с сыном. Наедине.
Они вышли в кухню, и там, озираясь на прикрытую дверь, мать рассказала, о чем услышала в шелесте карт гадалка:
– Первый брак с темной – впустую, через год разойдетесь. Еще через год вторая жена будет, тоже темная, но хорошая, хорошо им… вам… Вместе будет. Двоих детей увидела. Первый, сын, заболеет сильно, но выздоровеет. А после второго… – тут мама споткнулась в словах, переставила с места на место чашку чая и выпалила, – После дочери ты умрешь.
Заплакала, дернулась на шатком стуле. Рукавом кофты задела чашку, та катнулась, слетела со стола и осколочно зазвенела по полу.
Тогда Артём рассмеялся, взял ее руки в свои, долго сидел напротив и что-то говорил, звал Свету, и она вошла, постояла, прислонясь к косяку, полуулыбаясь, а он продолжал говорить, указывая то на себя, то на невесту – успокаивал мать. В конце концов, она приняла стаканчик с накапанной валерьянкой и ушла.
Через год они со Светой в обед встретились в покинутом посетителями кафе на Черном озере и над исцарапанным столиком порешили свой брак. Она пила капучино, он – эспрессо. Оба не допили. Артём расплатился, они вышли из кафе, попрощались и пошли в разные стороны.
В замке что-то щелкнуло, но дверь была заперта изнутри и следом затренькал звонок. Наташка, с работы. Артём распахнул дверь, схватил девушку, буквально втащив внутрь квартиры, целуя куда попало, перебирая руками по телу и припадая губами к волосам цвета вороньего крыла. Она смеялась и в шутку отбивалась, а он думал, что ждать не может, не должен даже ждать, не тот случай, и вот она – его женщина.
Антоха родился слабеньким. Наташку кесарили, а когда мальчика достали, лицо его отливало синевой, дыхание было прерывистым. Второй год мальчика Артёму запомнился белыми халатами, сизыми коридорами больниц, очередями в аптеках. Никто толком не понимал, что происходит. Антон часто кричал, жал кулаки до бордовости, на коже проявлялись красные пятна, температура прыгала к 40, чтобы через сутки-двое снова упасть.
Артём потом подсчитал – за год они побывали в пяти больницах, провели там почти 90 дней, были на приеме у семи врачей. Сколько потратили на лекарства – не считал. Он даже не знал толком, каков его сын – какой у него характер, что он любит, чего боится. К исходу года Артём глядел на выцветшее, усталое лицо Наташки, на давно некрашеные волосы, и думал, что это никогда не кончится, они обречены быть прикованными к этому кричащему ребенку, и если сын в одном из своих кризисов умрет, то легче будет, наверное, всем.
Лишь один человек не терял душевного покоя – мать Артёма. Она приезжала два-три раза в неделю, варила, стирала, убиралась, в общем, делала все, чтобы облегчить жизнь семьи. И перебирая белье внука, приговаривала, что ничего-ничего, скоро-скоро, уж она-то знает. Артём все хотел спросить, где уже ее «скоро», но в мороке забывал.
Вскоре после второго дня рождения Наташка подошла к Артёму, прижалась всем телом, обхватив за талию. Футболка под ее щекой тут же намокла.
– Я так устала, – шепнула она. – Я больше не могу.
Артём не нашелся, что сказать.
Прошла неделя, другая. Месяц. Кризисов не случалось. Сын вдруг будто бы понял, что живет, живет в полную силу и начал налегать на каши, на морковь, на молоко, просил, чтобы читали ему Бременских музыкантов, и незаметно для себя Артём осознал, что у сына темно-русые волосы, и ему нравится, когда домик из кубиков разлетается от резкого удара, но не абы какого, а именно от тычка растопыреными пальцами, и он, Артём, оказывается, любит сына.
Мама стала приходить все реже и реже. Зайдя к ней однажды вечером, Артем в кухонном тумане из чая-варенья-блинов и знакомых интонаций, услышал полузабытое:
– Вера Павловна еще когда говорила – вторая жена, тоже темная, с ней ему, тебе, то есть, будет хорошо. Первый сын у них – у вас – будет болеть сильно, но все выправится. А после второго… – за эти годы мама так и не смогла привыкнуть к слову «умрет», и Артему впервые в жизни показалось, что он тоже отвык от этого слова, точнее, никогда и не привыкал, а теперь вот услышал, услышал целиком и оно, слово это, ему не понравилось.
– Слушай, ну это ж гадалка, не факт, что так и будет…
– А вот ты посмотри, посмотри – про твоего отца Вера Павловна еще за год сказала. Соседке моей, дурочке этой, про кражу сразу, в первый раз сказала, а та не послушалась, и что? Получила! Всю пенсию вытащили! – мать потянулась к чайнику, вода заплескалась в чашке, пара капель выскочили из краёв. – А тебе? Ведь как говорила, так и есть! Жена – вторая. Сын болел тяжело, сейчас – выздоровел. Чего тебе, какие еще доказательства нужны?
– Но ведь за два, за три года могло что-то поменяться? – тепло внутри сгущалось в ком – то ли от блинов, то ли от этих предсказаний, о которых он успел уже позабыть.
– Могло, да не могло! Ни разу у нее ничего не менялось! Она и сама говорит – если что-то смутно, то и не говорю. А если уж вижу, то говорит без оглядки. Не боится, а прямо говорит – после второго ребенка умрет…
Мать осеклась, ухватилась за чашку, покрутила пальцами. Просительно посмотрела на сына:
– Сходи к ней, Артём. Сходи сам. Может, что и переменилось. Дай Бог, если так.
Попасть к гадалке удалось только через три недели. Артём дважды переносил встречу, назначенную по телефону – то Наташке нужно было помочь, то работы подвалило. За неделю договорился на вечер четверга. Девятиэтажка гадалки торчала посреди темной поляны панельных хрущевок. Артём набрал номер на домофоне. Никто не отвечал. Набрал снова. Долгие гудки далеко разносились по морозному пустырю. Снова ничего.
Артём потоптался у подъезда, а потом набрал соседский номер. Изнутри черной коробки прорезался женский старческий голос:
– Кто?
– Я к Вере Павловне пришел, она не отвечает, вы…
– Вера Павловна? А она ведь умерла.
– Как… – Артём обернулся, будто бы гадалка могла быть где-то поблизости и он мог опровергнуть слова из черных отверстий.
– Пару дней уж как умерла. Сегодня и хоронили.
– А… Где? – зачем-то спросил Артём, но понял, что ни к чему это, уже отвернулся, но голос вдогонку спросил:
– А вы не Артём случайно?
Он рванулся к домофону, почти прижался к стылому металла губами:
– Да! Да, это я! Она что-то говорила?
– Ага, говорила. Что придёте. И просила передать – всё в силе. Не знаю, о чем уж это, только так и сказала. Что придет Артём. И для него – всё в силе.
– И всё? – Артём так и стоял, прислонившись вплотную к дверям. Отверстия домофона будто всасывали пар изо рта.
– Всё, ничего больше.