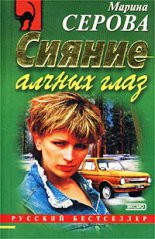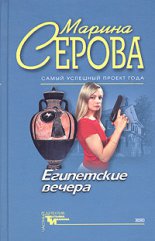Античность перед загадкой человека и космоса. Хрестоматия Бурдукова Ирина
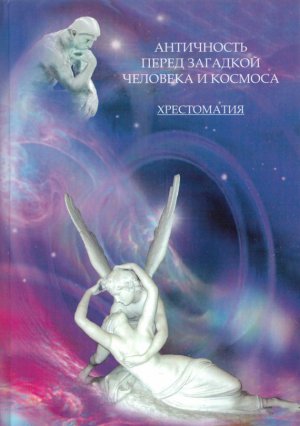
Читать бесплатно другие книги:
Сначала они пытали и замучили до смерти следователя прокуратуры, который на свой страх и риск начал ...
Давненько частному детективу Татьяне Ивановой не приходилось жить вдали от цивилизации, в областной ...
Он красив, словно сын падишаха! В физико-математическом 9-м «А» всего-то шесть девчонок – и каждая в...