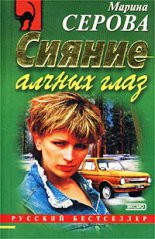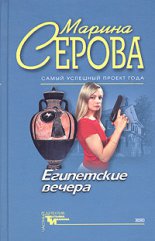Защищая Родину. Летчицы Великой Отечественной Виноградова Любовь

© Виноградова Л., 2015
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
КоЛибри®
Светлой памяти Николая Ивановича Менькова и Валентины Николаевны Краснощековой – необыкновенных людей, которых мне выпало счастье знать
От автора
Я родилась в 1973 году в Москве, в семье ученых. С детства хотела быть биологом, однако, окончив вуз и поступив в аспирантуру, поняла, что душа и интеллект требуют другого. Параллельно с работой над диссертацией получила второе высшее образование – переводчика с английского и немецкого языков.
Большим событием в моей жизни стала работа с Энтони Бивором, приехавшим в Россию собирать материалы для своей книги «Сталинград». В мою жизнь – жизнь человека, никогда историей не интересовавшегося, – ворвалась ИСТОРИЯ собственной персоной, в виде тысяч страниц текста, в виде документов с подчас невероятным содержанием, черно-белых фотографий и рассказов, рассказов тех, кто имел несчастье оказаться в водовороте событий в то страшное время. Я поняла, что история – это совсем не то, что мы когда-то зубрили в школе. История – это истории людей, таких же людей, как ты сам, это эпоха, увиденная их глазами.
Постепенно моя «подработка» – помощь историкам в сборе материала – стала основным моим занятием, помимо воспитания троих детей. Какие-то истории тронули меня особенно глубоко – в основном женские, ведь женщины видят все не так, как мужчины, и запоминается им другое: не тактика и не стратегия войны, не цифры статистики, а детали, подробности, благодаря которым оживает рассказ.
Я была очень взволнована, получив от французского издательства предложение написать биографию летчицы Лили Литвяк. Ее история, несомненно, была одной из тех, которые давно меня интересовали. Когда оказалось, что у нее, погибшей в 21 год, биографии почти что еще и не было, родилась эта книга – рассказ о самых трагических месяцах войны глазами девушек-летчиц, штурманов и техников, и их коллег-мужчин. То, что мои издатели в России и в Англии решили приурочить ее выпуск к 70-й годовщине Победы – огромная честь для меня. Мне очень жаль, что сейчас уже нет в живых почти никого из моих героев, никого из очевидцев тех событий: они разделили бы мою радость.
Глава 1. Прощай, прощай, Москва родная!
В Москве ждали немцев. На улице Горького витрины были заложены мешками с песком. Над Кремлем, как огромные неподвижные рыбы, стояли дирижабли. С плакатов смотрела печальным и строгим взглядом Родина-мать. Город, казалось, вымер, кипели жизнью только продуктовые склады и магазины, которые грабили озверевшие от неожиданной свободы мародеры; железнодорожные вокзалы и дороги, ведущие на восток. Охваченные ужасом москвичи и беженцы из уже оккупированных немцами областей пытались любой ценой бежать из города.
Панику, охватившую Москву к 15 октября 1941 года, можно было сравнить только с хаосом сентября 1812 года, когда в город вошла армия Наполеона. Взяв Москву без боя, французский император был вынужден сразу вывести из нее свои войска. Город охватил колоссальный пожар, по слухам, начатый москвичами, не хотевшими оставлять свою древнюю столицу врагу. Пожар, почти полностью уничтоживший построенную из дерева русскую столицу, Наполеон мрачно наблюдал из своей ставки на северной окраине Москвы, в Петровском путевом дворце.
Этот приземистый псевдоготический дворец еще стоял в 1941 году, и теперь его старинные окна глядели уже не на Петербургский тракт, а на широкое Ленинградское шоссе. На Ленинградке 15 октября было пусто. Ходили слухи, будто накануне отряд немецких мотоциклистов, не встретив на пути никакого сопротивления, доехал по этому шоссе до самого Северного речного вокзала[1]. Говорили, что за мотоциклистами ехали два бронетранспортера. Этот передовой отряд был сразу же уничтожен, но за ним должны появиться другие. После того как немцы за три с половиной месяца дошли до советской столицы, с легкостью беря почти все большие города, и теперь оказались у самых ворот Москвы, многие москвичи думали, что надеяться можно только на чудо. Находились люди, которые собственными ушами слышали, как главный советский диктор Юрий Левитан объявил по радио: «Немцы входят в Москву».
Тем удивительнее были царившие в старинном Петровском дворце шум и оживление. Под сводчатыми потолками, когда-то слышавшими музыку екатерининских балов, разносились женские голоса. Такого пестрого сборища здесь еще не видели. Управляли всем несколько женщин в военной форме: очень красивая худенькая капитан Милица Казаринова, приземистая полная комиссар Евдокия Рачкевич, знаменитая летчица Вера Ломако. Они были молоды, самым старшим немного за тридцать. Помимо женщин-офицеров, здесь было несколько десятков девушек в беретах с красной звездой и синих гимнастерках. Эту форму аэроклубов знала по плакатам Осоавиахима вся страна: девушки были летчицами-инструкторами. Остальные были в штатском: платьях и юбках, туфлях на каблуках и без каблуков. Почти все – с длинными волосами, заплетенными в косы или заколотыми шпильками в пучки. Трудно было представить себе более далеких от военной службы людей, но всем этим девушкам предстояло через несколько часов надеть военную форму, портянки и сапоги.
Переделав за утро огромное количество дел, к пестрому сборищу в Петровский дворец ехала на черной эмке с шофером красивая молодая женщина.
Серые глаза, черные тонкие брови и гладкая прическа, ладно сидящая военная форма и берет с красной звездой, на груди – Золотая Звезда Героя Советского Союза. Несмотря на молодость и красоту, женщина ехала в эмке не потому, что была женой директора завода или высокого военного чина. Автомобиль советское правительство выделило лично ей. Женщине было всего двадцать девять, но ее красивое лицо было знакомо всей стране по фотографиям в газетах, и каждый знал ее имя: Марина Раскова. Для миллионов советских людей это имя ассоциировалось с героизмом, крыльями, романтикой дальних перелетов. Каждый советский школьник твердо знал, что этой женщине были по плечу любые подвиги и любые испытания. «Я хочу быть как Марина Раскова», – писали сотни тысяч советских девушек в заявлениях о приеме в аэроклубы и секции Осоавиахима – Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, осуществлявшего военно-спортивное воспитание молодежи.
Раскова пересекла по воздуху поперек и потом вдоль самую большую страну в мире. Она испытывала новейшие самолеты. Десять дней провела одна в тайге практически без еды. И никто из собравшихся в Петровском дворце людей не сомневался – она справится с новой, грандиозной задачей, которую сама себе поставила: собрать подобных себе, бесстрашных, влюбленных в свою страну женщин, сделать из них боевых летчиков и выпустить в небо, чтобы нести врагам смерть.
В московском дворе, где росла Марина Раскова, дети прекращали игры и глядели в небо, если его, очень-очень редко, пересекал самолет.
- Ироплан, ироплан,
- Посади меня в карман.
- Из кармана выпаду,
- Всю головку расшибу, —
распевали они глупую песенку.
Все вокруг хотели стать летчиками, а Марина Малинина, дочь покойного учителя музыки, хотела быть оперной певицей и собиралась учиться в консерватории. Кроме музыки, она, обладающая многими талантами и прекрасно учившаяся по всем предметам, обожала химию – на тот момент науку столь же актуальную в осуществлявшей индустриализацию стране, как сейчас компьютерные технологии. В жизни Марины настал момент, когда пришлось сделать выбор между музыкой и химией: нужно было зарабатывать на жизнь, она выбрала химию. Поработав лаборанткой на химическом заводе, Марина вышла замуж за инженера Раскова с того же завода и родила дочь, но с мужем потом развелась. Когда девочка немного подросла, Марина Раскова снова пошла работать, на этот раз чертежницей в Военно-воздушную академию, где открыла для себя совершенно новый мир. В академии молодые мужчины в кожаных пальто реглан говорили о новых самолетах, перелетах на больших высотах и скоростях, о новых вооружениях и об огромных расстояниях, которые теперь стало возможно преодолеть. Лица этих людей мелькали в газетах, среди них были герои, которых знала вся страна. Появились и летчицы: правительство, проводившее стремительную индустриализацию огромной отсталой страны, декларировало равенство полов. Неженских специальностей не было, в любой области женщины могли работать наравне с мужчинами. «Девушки – на стройки», «Девушки – на трактор», «Девушки – на самолет», – призывали «средства наглядной агитации» – советские плакаты. Девушки-летчицы начали появляться, а вот девушек-штурманов не было, да и мужчин-штурманов тоже: еще не успели обучить тех, кто помог бы управлять только появившимися большими воздушными кораблями, а также, если понадобится, вывести самолет на цель и точно поразить ее бомбами. Молоденькая чертежница из Военно-воздушной академии, почувствовав, что жизнь дает ей необыкновенный шанс, приняла решение: она станет штурманом. Ничего лучше нельзя было придумать, путь был совершенно свободен. Марина Раскова стала первой женщиной-штурманом в СССР.
Экзамены на звание штурмана она сдала экстерном. Окончила и школу пилотов при аэродроме Тушино в Москве, но летала мало. Это не мешало Расковой вращаться в кругах новой советской элиты – авиаторов. Красота, ум, интеллигентная речь, очарование сильной личности сделали ее своей в этом узком кругу. А очень скоро слава Расковой затмила славу почти всех ее новых знакомых.
В 1938 году Раскова участвовала в двух рекордно дальних перелетах с легендарными советскими летчицами. Сначала она полетела по маршруту Севастополь – Архангельск с Полиной Осипенко и Верой Ломако. После этого полета, который окончился очень успешно, был задуман еще более грандиозный: Москва – Дальний Восток.
Раскову взяли в свой экипаж Валентина Гризодубова и второй пилот Полина Осипенко. Командир перелета изящная и женственная Валентина Гризодубова была потомственным авиатором, в свои двадцать восемь лет имевшим уже огромный летный опыт. Второй пилот Полина Осипенко, которую по виду трудно было отличить от мужчины, еще недавно была нищей босоногой девчонкой-птичницей, но благодаря невероятно сильному характеру пробилась в Качинскую летную школу и проложила себе путь в небо. Для нее этот перелет не был первым: она еще в 1937 году установила несколько рекордов.
Даже у таких опытных летчиц захватывало дух от масштаба нового плана. Советский Союз занимал одну шестую часть земного шара. Они решили пролететь почти через всю его европейскую и азиатскую территорию, из Москвы в Комсомольск-на-Амуре, почти к самому Тихому океану – шесть тысяч километров без посадки.
Планировалось, что беспосадочный перелет на огромном серебристом самолете АНТ-137, которому дали имя «Родина», займет около суток. Радиосвязь с «Родиной» прервалась через девять часов после старта. Был конец сентября, погода непредсказуемая. Вся страна в тревоге ждала новостей.
Погода оказалась хуже, чем ожидали. Лишь на протяжении шестидесяти километров после старта летчицы видели землю, затем началась сплошная облачность. До Урала летели вслепую, ориентируясь по показаниям приборов. Потом стало еще труднее: самолет начал покрываться льдом. Ночью началась сильная болтанка, пришлось идти над облаками, на высоте 7500 метров. Замерзли и люди, и приемная и передаточная радиостанции, которые от холода перестали работать. Связи с землей больше не было. На рассвете, недалеко от маньчжурской границы, загорелась лампочка, которая показывала, что бензина осталось максимум на полчаса. Гризодубова велела Марине прыгать: ее изолированная от кабины пилотов штурманская рубка была на носу воздушного корабля и при аварийной посадке могла расплющиться в лепешку. Прыгать страшно не хотелось, но выхода не было. Раскова открыла нижний люк кабины. В карманах у нее были револьвер, компас, карманный нож, особые спички, которые загорались даже мокрые, и полторы плитки шоколада[2].
Приземлившись в тайге, Раскова десять дней искала свой самолет. С огромным трудом продираясь через густой подлесок в тяжелом меховом костюме, она медленно двигалась в направлении, где, по ее данным, следовало искать «Родину». В первый день, думая, что выйдет к самолету быстро, она съела полплитки шоколада, но в следующие дни ела по одной дольке. Иногда ей попадались ягоды. Один раз она нашла грибы, но, когда хотела их приготовить, устроила такой пожар, что еле унесла ноги. В одну из ее последних ночей в тайге Расковой приснился товарищ Сталин, упрекнувший ее в том, что она плохой штурман. Расковой было очень стыдно перед «самым дорогим человеком», как она его называла, и она пообещала ему, что будет работать лучше[3].
Утром десятого дня Раскова увидела самолеты и услышала выстрелы. Она еле шла на их звук, опираясь на палку. Скоро стал виден серебристый хвост ее самолета, красавицы-«Родины». Увидев Раскову, люди, находившиеся около самолета, бросились ей навстречу. На Марине были теплые кальсоны и фуфайка, поверх фуфайки – шерстяной свитер с орденом Ленина на груди. Одна нога в унте, вторая – босая. Ее хотели отнести на руках, но гордая Раскова отказалась и сама дошла до самолета.
Товарищи по экипажу, уже почти потерявшие надежду увидеть Марину, рассказали ей, что Гризодубова очень удачно, не выпуская шасси, посадила самолет на болото на фюзеляж. Посмотрев на часы и приборы, летчицы подсчитали, что «Родина» находилась в воздухе 26 часов 29 минут, поставив мировой рекорд. Гризодубова и Осипенко стали ждать Марину, которая, как они думали, опустилась на парашюте где-нибудь недалеко. Но Марина не появлялась, и никто не появлялся: «Родину» искала вся страна, но нашли не сразу. К летчицам приходили только таежные гости: сначала рысь, которую Гризодубова и Осипенко прозвали Кися, а потом – медведь. Услышав, как он трется о самолет, летчицы решили, что их наконец-то нашли, и со словами «Пожалуйста, заходите!» распахнули дверь. В ужасе одна из них выстрелила из ракетницы, и зверь убежал в лес[4].
Только через неделю после начала поисков молодой летчик Сахаров наконец увидел на болоте серебристый корпус «Родины». Сесть на болото рядом никто не осмелился, летчицам на парашютах сбросили снаряжение и продукты. Весть о том, что «Родина» с двумя членами экипажа обнаружена, с быстротой молнии разнеслась по стране, и несколько следующих дней все в тревоге ждали известий о Расковой. Когда она, получив от доктора несколько ложек куриного супа, засыпала рядом с подругами, все газеты готовили передовицы: Марина Раскова жива!
Первые женщины – Герои Советского Союза прибыли на Белорусский вокзал в особом вагоне. Раскова вышла с клеткой, в которой прыгала белка – подарок дочке Тане от пионеров Комсомольска-на-Амуре. Летчиц повезли в Кремль в открытой машине по улице Горького, усыпанной цветами и листовками.
Освещая их возвращение в Москву, газеты не упомянули об авиакатастрофе двух самолетов над местом вынужденной посадки «Родины». Столкнулись, протаранив друг друга, самолет ДС-3, отправленный на помощь «Родине» научно-исследовательским институтом ВВС, и самолет ТБ-3 с десантом на борту. Погибли шестнадцать человек: только четверым с ТБ-3 удалось спастись, выпрыгнув из падающего самолета. Чтобы не портить праздника, никаких сообщений о случившемся ни в газетах, ни по радио не было[5].
В книге «Записки штурмана», ставшей настольной для миллионов советских женщин, Раскова подробно рассказала и о приключениях в тайге, и о том, как она познакомилась с Гризодубовой[6]. Раскова пишет, как они с Валей с первого взгляда друг другу понравились и скоро стали близкими подругами. Они вместе планировали свой рекордный перелет в тесном жилище Вали, уложив спать ее маленького сына. Но Валентина Гризодубова рассказывала совсем другую историю.
Гризодубова, на много-много лет пережив и Раскову, и Осипенко, дожила до глубокой старости и умерла только в 1993 году, когда стало возможно говорить такое, о чем раньше и помыслить было нельзя. Знаменитая летчица говорила с теми, кого считала достойными таких откровений, о многом, в том числе о Расковой. Гризодубова, замечательный, честный и великодушный человек, бесстрашная заступница обиженных, спасшая от сталинских репрессий многих связанных с авиацией людей, в том числе конструктора космических кораблей Сергея Королева, говорила о Расковой – товарище, с которым она прошла через такие испытания и рядом с которым пережила лучшие моменты своей жизни, – с неприязнью. Для этого были причины. По словам Гризодубовой, Раскова, не имевшая большого штурманского опыта, была «навязана ее и Осипенко экипажу». Навязана потому, что в СССР в любую группу людей, выполняющих масштабные задачи, всегда включали энкавэдэшника, – и в те времена, и позже. Эти откровения Гризодубовой во многом объяснили головокружительную карьеру Марины Расковой.
Мало кто знал, что к началу войны майор ВВС Марина Раскова была также и старшим лейтенантом госбезопасности – звание, соответствовавшее армейскому званию майора, до которого совсем не просто дослужиться. Уже четыре года ее рабочим местом был кабинет на Лубянке. С тридцать седьмого года она работала в НКВД штатным консультантом, а с февраля тридцать девятого – уполномоченным особого отдела. Скорее всего, сотрудничество Расковой с НКВД началось до тридцать седьмого года, так как большинство «штатных консультантов» НКВД до получения этой должности были консультантами внештатными, попросту говоря, осведомителями. Документы, которые пролили бы свет на должностные обязанности старшего лейтенанта Расковой, если и сохранились, то недоступны публике, однако историки сходятся в одном: в ее обязанности входило осведомление о той среде, в которой она вращалась, – среде авиаторов. Репрессии против них набрали наибольший размах как раз к 1940 году, когда карьера Расковой в НКВД так быстро шла в гору. К началу войны были арестованы сотни авиаконструкторов, руководителей авиационных заводов и командиров советских ВВС. Многие были расстреляны.
Мы не знаем, кто и как пострадал в результате работы Расковой, но Гризодубова считала, что таких людей было немало. «Мне неизвестно, как Марина получила штурманское свидетельство, – говорила она о Расковой. – Я также не знаю, какую работу она совмещает, но уверена, что из-за нее пострадало много людей. У нас, можно сказать, получилось “распределение ролей”: она сажала, а я бегала по инстанциям и старалась вытащить»[7]. И продолжила: «Если Полина Осипенко была летчиком высокого класса, то Марина Раскова, как штурман, не имела специального образования и налетала всего около 30 часов. У нее не было ни малейшего представления о полетах в экстремальных условиях, тем более ночью. В наш полет она была “рекомендована”»[8].
Но в 1941 году Раскова была известна советскому народу только как героический летчик. Она была легендой, кумиром целого поколения. Она доказала всему миру, что построенные молодой советской промышленностью воздушные корабли могут ставить мировые рекорды и что пилотировать их может женщина. Ей, пользовавшейся всенародной любовью и огромным авторитетом, всегда приходило огромное количество писем от советских женщин, а после начала войны такие письма полились потоком. Среди них было очень много писем от летчиц, которые безуспешно обивали все пороги, стараясь попасть на фронт. Брать их не хотели: в сорок первом году было достаточно летчиков-мужчин, не хватало только самолетов.
И Расковой пришла мысль: она должна сформировать и возглавить полк военных летчиц. В отличие от Вали Гризодубовой, которая командовала мужским полком, Раскова наберет себе полк из лучших советских летчиц, которые дадут фору любому мужчине. С этой идеей она пошла в Кремль к Сталину.
Во всех своих ипостасях – авиатора, чекиста и красивой женщины – Марина Раскова импонировала Сталину и была с ним в настолько хороших отношениях, что свое предложение о формировании женского авиационного полка адресовала лично ему. Сталин одобрил идею, и Раскова взялась за подготовку. Желающих было столько, что полков было решено создать три: полк легких ночных бомбардировщиков, полк тяжелых бомбардировщиков и полк истребителей.
К середине октября сорок первого завершили подготовку и собрали в Москве будущих военных летчиц и студенток, из которых собирались готовить штурманов и техников. К этому времени Москва уже была в опасности.
Во все времена большинство студентов педагогических институтов составляли девушки. «Женихов себе не найдете!» – полушутя-полусерьезно предупреждала Валю Краснощекову подружка, когда Валя решила учиться на учителя истории. За лето сорок первого года мальчиков на курсе вообще почти не осталось, за исключением негодных к военной службе: кого призвали, кто ушел на войну добровольцем. Студенток в сентябре увезли строить оборонительные сооружения. Обратно их привезли в начале октября. Не успели начаться занятия, как комсорг курса задал не ставший полной неожиданностью вопрос: «Девчонки, хотите на фронт?»[9]
В том, что она хочет на фронт, Валя Краснощекова не была твердо уверена. Хотелось помочь стране, хотелось бить немцев, оккупировавших ее родной город. Но жалко было бросать учебу, и непонятно было, что станет с двумя младшими сестрами и с маленьким братом: мама умерла, а отца уже забрали в армию. Но ответить на этот вопрос отрицательно, с Валиной точки зрения, было невозможно. Получив от Вали и еще нескольких девушек утвердительный ответ, комсорг сказал им прийти на следующий день в ЦК комсомола и предупредил: надо обязательно сказать, что они идут добровольцами.
Ночью они почти не спали. Наутро пошли пешком в ЦК комсомола на Маросейку. Там спросили, кем они хотят стать на фронте, и Валя за себя и за подругу ответила: «Пулеметчицами». В ответ кивнули, и этот кивок Валя приняла за согласие.
В конференц-зале было много девушек. «А кем же они будут? – подумала Валя. – Неужели все пулеметчицами?» Но тут на сцену вышли первый секретарь ЦК комсомола Н. А. Михайлов и Раскова.
Михайлов объявил, что сейчас выступит Марина Раскова, но Раскову представлять было не нужно. Ее все знали по портретам в газетах, по книге «Записки штурмана», которую большинство читали в «Роман-газете». Раскова сказала, что была у товарища Сталина и он разрешил ей сформировать женские авиационные полки. «Но товарищ Сталин предупредил, чтобы только добровольцы», – добавила она, и тогда Валя поняла, почему ее комсорг делал на это такой упор.
Раскова предложила собравшимся девушкам спросить разрешения у родителей, но Вале спросить было некого. Зато ректор пединститута проводил ее с подругами, как родных: устроил показательную линейку, выстроив всех студентов, и перед строем дал уходящим на фронт напутствие. Подруги, которые оставались в институте, сварили манную кашу без соли и сахара: с едой уже были большие перебои. Поели все вместе, и уходящие на фронт собрали рюкзаки, точнее, «сидоры» – простые мешки с двумя плечевыми ремнями и с горловиной, которая завязывалась веревкой или шнурком. Свою единственную нарядную вещь – белую батистовую блузку – Валя Краснощекова оставила подруге, которая не уходила на фронт. Сказала, что заберет после войны: на войне батистовая блузка не нужна.
На следующий день студенток провели пешком через весь центр Москвы, с Маросейки до Петровского дворца на Ленинградском шоссе. По дороге несколько раз была воздушная тревога, и тогда они спускались в метро. На станциях было очень много народу. Поезда еще ходили, но на станции «Маяковская» девушки смотрели не на красивейшие мозаики на потолке, воспевавшие достижения советской авиации, а на раскладушки на мраморном полу: станции ускоренно превращали в бомбоубежища[10]. Через несколько дней движение поездов совершенно прекратилось, и людей стали размещать прямо на путях[11].
Сопровождавший девушек красноармеец посмеивался: «И куда вы, девушки? Наденут на вас шинели и сапоги, с вами же ни один парень в кино не пойдет»… Во дворце на Ленинградском шоссе их встретили женщины в военной форме, которые, казалось, были сделаны из совсем другого теста. Настроение было боевое: девушки ждали, что вот сейчас им дадут обмундирование и ружья и они пойдут воевать. Увидев обмундирование, обомлели.
Военная форма была новенькая. Выдали и скрипучие кожаные ремни, и новые сапоги. Но все это было мужское. Брюки доставали до груди, огромный ворот гимнастерки опускался чуть не до пупка. Сапог меньше сорокового размера не было. Ребята, которых собрали там же, в академии, чтобы сформировать мужскую часть, хихикали: «Девчонки, газет на фронте намотаете». Девушки были в растерянности. Шинели были длинные, особенно миниатюрным доходили чуть ли не до пят. Сбоку у каждой были пустая кобура для пистолета, фляга и еще какие-то ненужные вещи, которые почему-то непременно должны были входить в комплект «снаряжения». Смотрели друг на друга и не узнавали: «трудно было придумать форму, которая делала бы девушек менее женственными»[12].
Перед тем как вести в столовую на ужин, им приказали надеть все снаряжение. Делать было нечего. И вот в новехоньком, еще «стоявшем дыбом» обмундировании, в сапогах с железными подковами, которые ударяли по каменному полу дворца со страшным стуком, с пустыми кобурами на боку они прошли через строй парней, смотревших на них с любопытством и насмешкой. Как горели от смущения уши и сколько насмешек ждало впереди…[13]
На следующий день из них начали делать солдат: обучать строевой подготовке и уставу. Однако положение Москвы уже было настолько опасным, что сосредоточиться не могли ни учителя, ни курсанты. 15 сентября стало известно, что «Авиагруппа № 122», как на тот момент называлось соединение Расковой, будет эвакуирована в волжский город Энгельс.
Утром 16 октября они с песнями прошли по городу. Было очень холодно, трамваи уже не ходили, стояли полузанесенные снегом. Редкие прохожие останавливались и смотрели на девушек, а старухи «подходили к самому краю тротуара, молча стояли и крестили»[14] их, провожая колонну грустным взглядом. Если среди молодых москвичей большинство считали, что Москва выстоит и враг будет побежден, старшее поколение, уже столько выстрадавшее, было настроено пессимистично: слишком уж быстрым и легким казалось наступление немцев.
Немецкое генеральное наступление на Москву началось 30 сентября и развивалось стремительно. Вскоре советские войска сдали города Калугу и Вязьму, оставив немцам шестьсот тысяч пленных солдат и офицеров. 13 октября немецкие войска форсировали около Калинина неширокую в тех местах Волгу, 15-го взяли Калинин. До Москвы осталось сто пятьдесят километров. Немцы подтянули еще войска и, прорвав слабую советскую оборону, прямо по Ленинградскому шоссе устремились к Москве. Русские так и не успели создать линию обороны Калининского фронта.
15 октября Сталин подписал постановление Государственного Комитета Обороны «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». В постановлении указывалось, что сам Сталин покинет Москву на следующий день или позднее, в зависимости от обстановки. Правительство должно было эвакуироваться в тот же день. Москвичи же были уверены, что правительство из Москвы уже уехало. В московских очередях за продуктами говорили, что немцы сбрасывают листовки: «Ляжете спать советскими, а встанете немецкими». Именно так случилось в Орле. Молодая москвичка писала в своем дневнике, что «везде полная растерянность – даже начальство, не говоря уж о подчиненных, не знает, что делать…»[15] Те, кто не собирался уезжать из города, «с утра до вечера смотрели, как уезжает народ» и «как люди теряют человеческий облик»[16].
Москва, по которой шла маршем «Авиагруппа № 122», была готова к сдаче и дальнейшей подпольной борьбе. В ночь на 16 октября был спешно заминирован Большой театр. Многие заводы, склады, учреждения, мосты, крупнейшие магазины были заминированы раньше. Чтобы интендантские склады не достались немцам, первый секретарь МК и МГК партии А. С. Щербаков распорядился бесплатно раздать москвичам муку, крупы, консервы, теплую одежду и обувь, хотя и был обвинен за это в «упадническом настроении»[17]. Вход в Кремль был заложен бревнами, а сам Кремль стал неузнаваем не только с воздуха, но и изнутри. На его стены надстроили макеты, и казалось, что это обычные городские дома. Рядом построили бутафорский мост через Москву-реку. Крыши и открытые фасады кремлевских зданий и стен перекрасили. Красные звезды больше не сияли над башнями: их закрыли деревянными щитами, а кресты с кремлевских куполов сняли[18]. Вокруг Мавзолея был построен бутафорский особняк из ткани, дерева и картона. Впрочем, мавзолей уже давно был пуст.
Советскую святыню – тело Ленина – еще 3 июля вывезли особым поездом в Тюмень. Кроме тела, были вывезены сердце Ленина, пуля, которая осталась в его теле после покушения эсерки Фанни Каплан, и препараты мозга[19]. С телом отправился его главный хранитель профессор Б. И. Збарский с целым коллективом сотрудников. Разместившись вместе с реликвией в удаленном от чужих глаз большом доме под охраной милиции и НКВД, Збарский докладывал правительству, что «его работа» – то есть тело Ленина – «имеет прекрасное состояние»[20].
Напуганное быстрым наступлением немцев советское начальство спешило за телом своего вождя. Начальники до потолка нагружали черные эмки вещами и пробивались по шоссе Энтузиастов на восток. Рядом с ними двигались на машинах, телегах, велосипедах или пешком, обвешанные узлами и котомками, сотни тысяч людей.
Проехать становилось все сложнее, люди приходили в отчаяние. Движение никто не регулировал. Начались массовые погромы: разъяренная толпа останавливала автомобили с начальством, грабила их, а потом сбрасывала в кювет. Погромы шли в ночь с 15 на 16 октября и в Москве. Люди разбивали витрины, выламывали двери и выносили все из промтоварных и продовольственных магазинов. Мгновенно возникли банды мародеров, которые самовольно занимали квартиры эвакуированных, расхищали вещи и ценности со складов и предприятий. Толпу подогревала полная безнаказанность и неожиданно свалившаяся свобода.
16 октября заговорило долго молчавшее московское радио. Диктор объявил, что Москва находится в угрожающем положении и всем жителям предлагается покинуть город.
Порядок восстановили через пару дней, справившись с паническими настроениями. Сталин, вопреки слухам, остался в городе, хотя Москва находилась в непосредственной опасности еще месяц.
В такт нестройному шагу позвякивали привязанные к рюкзакам котелки. На боку болтались пустые кобуры, фляги, противогазные сумки. Старались идти в ногу, но ходить по-военному пока не очень получалось. Было очень холодно, в лицо летел колючий снежок. Они шагали мимо неподвижных, занесенных снегом трамваев, мимо станций метро, которые теперь превратились в бомбоубежища, мимо скверов с зенитками, мимо закрытых магазинов. Пройдя через толпу людей на платформу Казанского вокзала, долго грузили в вагоны матрасы, мешки и продовольствие. Выехали только к вечеру. Нашлась и подходящая песня:
- Прощай, прощай, Москва родная,
- На бой с врагами уезжаю я…[21]
Глава 2. У меня пока что и биографии не было…
«За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле…» – читала наизусть тонким певучим голосом Женя Руднева. Сказка Ершова «Конек-Горбунок» была одной из книг, которые все любили, но наизусть никто не мог выучить: слишком уж длинная. Только Женя помнила. Долгий путь в вагоне коротали за песнями и сказками, подключались многие – Валя Краснощекова читала сказки Пушкина: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…» – но больше всех рассказывала Женя, знавшая неисчерпаемое количество сказок, мифов и стихов. День за днем колеса то стучали, то умолкали в станционных тупиках, день за днем Женя рассказывала сказки о рыцарях и прекрасных дамах, мифы о созвездиях, читала стихи, пересказывала книги, и товарищам даже не верилось, что столько всего может вместить одна голова. Новые подруги, сидя вокруг нее, слушали и слушали, всматривались в Женино лицо. То, что Женя не похожа на других, было понятно сразу же.
«Не от мира сего», – сначала подумала про нее Валя. У Жени были большие светлые глаза и длинная, тугая, светлая коса, уложенная вокруг головы. Она была невысокого роста, с тонкой шеей, неуклюжими медлительными движениями. Серо-голубые глаза светились умом и добротой[22].
Женя Руднева пыталась попасть на фронт с первых дней войны. Ее открытое и чувствительное сердце было полно идеалов. Еще школьницей она, посмотрев фильм «Ленин в Октябре», писала в дневнике:
«Я очень хорошо знаю: настанет час, и я смогу умереть за дело моего народа так, как умирали они, безвестные герои из этого чудного фильма!
Я хочу посвятить свою жизнь науке, и я это сделаю: все условия создала Советская власть, чтобы каждый мог осуществить свою мечту, какой бы смелой она ни была. Но я комсомолка, и общее дело для меня дороже, чем свое личное, именно так я и рассматриваю свою профессию, и если партия, рабочий класс этого потребуют, я надолго забуду астрономию, сделаюсь бойцом, санитаром, противохимиком…»[23]
И такой день настал: Женя, одна из лучших студенток курса в Московском университете, будущий астроном, звезда научного студенческого кружка, стала бойцом. Единственный ребенок в интеллигентной семье, отец которой в последнее время болел, она не смогла сказать родителям правду: уезжая, соврала, что идет обучать ополченцев пулеметному делу. Родители были изумлены: неужели никого опытнее не нашлось?
Женины родители по советским меркам не были бедными, и так, как сейчас, в товарном вагоне, она еще никогда не ездила. Для многих других девушек, из бедных рабочих семей или из деревни, такое путешествие не было чем-то новым.
Слово «теплушка», которое теперь уже многим непонятно, в первой половине XX века не нужно было никому разъяснять. В таких вагонах, обычных товарных, дощатых, но утепленных двойной обшивкой, с железными печками и нарами, в первой половине XX века перемещались по огромной стране и даже жили миллионы русских. В теплушках возили до революции крестьян осваивать новые земли, после революции – молодежь на комсомольские стройки, высланных – на новое место жительства, и, конечно, перевозили, держа по нескольку дней без еды и даже воды, миллионы заключенных, которым предстояло строить в тайге новые города и валить лес. В этих вагонах везли на войну здоровых солдат, назад – больных и раненых. Разговорное, придуманное народом слово «теплушка» звучало ласково. В нем была благодарность за тепло: утепленные стены и железную печку, пылающую в центре. Без этой маленькой печки путешествующим пришлось бы тяжело.
Туалета в теплушках не было. Чтобы справить нужду, нужно было попросить подруг подержать тебя за руки и высунуть соответствующую часть тела в открытые двери вагона. Валя Краснощекова запомнила, как у Тани Сумароковой соскользнула нога и ее чуть не уронили. Оправившись от испуга, все, в первую очередь сама Танька, долго хохотали[24]. Путешествие все не кончалось, но никому не приходило в голову жаловаться. Теперь они были солдатами, а солдат не возят в мягких вагонах.
Главное – поскорее выучиться, скорее попасть на войну. О фронте они, как и сама Раскова, имели отдаленное представление и, хотя немцы уже дошли до Москвы, очень боялись, что война кончится без них. Когда состав останавливался на дальних путях какой-нибудь станции, Раскова немедленно отправлялась к военному коменданту, чтобы требовать как можно более быстрой отправки. Ее лицо, которое узнавали сразу (в жизни оно оказывалось красивее, чем на фотографиях), уверенная манера держаться мгновенно оказывали действие. Начальники давали обещание отправить состав при первой же возможности. Но до начальников еще надо было добраться. Как попасть к станционному зданию, если эшелон стоит на самых дальних путях, а остальные заняты другими поездами? Что делать на обычной для того времени советской узловой станции, где может не быть переходов через десяток пар рельсов, на которых стоят бесконечные поезда? Начальник штаба Милица Казаринова вспоминала, как они с Расковой среди ночи вылезли из поезда и спросили у обходчика, как попасть на станцию. «Да вот отсчитайте под вагонами путей двенадцать – будет станция», – ответил тот.
Раскова тут же полезла под вагоны. Казаринова, торопясь успеть за ней, считала: один состав, второй, третий… потом сбилась со счета. Некоторые поезда маневрировали, приходилось ждать. Военный комендант, увидев Раскову, с удивлением спросил, как они до него добрались. «Под вагонами», – смеясь, ответила Раскова. Комендант только головой покачал. Раскова отлично знала, что поезда в любой момент могли начать двигаться и задавить ее, но рисковать и своей жизнью, и чужими она давно привыкла. «Мы на фронт торопимся!» – других объяснений не требовалось[25].
Но быстро доехать все равно не получалось. Состав стоял и стоял на запасных путях, пропуская другие, более срочные поезда. В разных направлениях в таких же теплушках ехала вся страна. На запад без конца шли воинские эшелоны, на восток везли раненых и эвакуирующихся, перевозили целые заводы со всем оборудованием.
В пути кормили именно так, как будут кормить потом и в Энгельсе, и на войне, до открытия второго фронта: серым хлебом, селедкой, пшенной кашей, которую давали иногда на остановках. Вместо чая был кипяток, но это было не страшно: у многих из них был за плечами если не настоящий голод, то жизнь впроголодь. Помыться в дороге было, конечно, никак нельзя, постирать тоже. Захваченная из дома смена белья давно уже была грязная, переодеться не во что. Хотя брать с собой что-то из гражданской одежды не запрещали, мало кто взял с собой что-либо, кроме смены белья. Зачем? На фронте это не нужно, пусть останется младшей сестре или продаст мама, если тяжело придется. Излишнюю привязанность к материальным объектам советская идеология осуждала, объявляла мещанством. Строителям коммунизма не пристало дорожить тряпками. Да и тряпок у них почти никаких не было, большинство, как будущая летчица-истребитель Валя Петроченкова, выросли в нищете.
Валя летом 1941 года просилась на войну, но ей отказали, сказав, что ее задача – готовить пилотов для фронта. Уезжая на новое место работы, она успела на пару часов заехать в комнату в Москве, где ютились родители с младшими детьми. Проводила восемнадцатилетнюю дочку в большую жизнь, на опасную и трудную взрослую работу мама только добрым словом. Она смогла дать Вале с собой только немного сухарей. Больше дать было нечего: ни рубашки, ни подушечки, ни полотенца. У Вали теперь была аэроклубовская форма – единственное платье можно было оставить младшей сестре. Она была старшая и надеялась, как только сможет, начать помогать семье.
Приехав на место службы, новый инструктор застала там полный хаос. Мужчины-инструктора почти все ушли на фронт, судьба аэроклуба была непонятна, на довольствие ее не ставили. И полтора месяца, пока не разобрались, она так и прожила: питаясь кое-как, проводя ночи на соломенном тюфяке в пристройке к сараю, не имея ни одеяла, ни подушки, ни простыни, ни полотенца, ни смены белья, ни какой-либо одежды, кроме той, что была на ней. Одежду она терла мокрой тряпкой, белье ночью сушила под собой и утром надевала сырое. У нее было тридцать курсантов, молодых парней, из них она должна была сделать десантников-парашютистов. Некоторые ей ровесники, другие – старше. А Валя, красавица с темными яркими глазами, темными кудрями, ямочками на щеках, не могла ни переодеться, ни белье сменить, ни поесть вдоволь, ни даже вымыться как следует: мыло дали только через две недели[26].
Валя Абанькина, принятая в «Авиагруппу № 122» Марины Расковой для обучения на авиатехника, тоже оставила дома большую семью и крохотный гардероб. Когда ее попросили написать биографию, она ответила: да у меня пока что биографии и не было. Какая там биография – родилась, в школе училась да работала на мотоциклетном заводе[27]. Но теперь в ее биографии, как и в биографиях всех юных солдат Марины Расковой, начала писаться самая трудная и опасная, но и самая яркая, главная за всю их жизнь страница – ВОЙНА.
В первый день, пока все не перезнакомились, будущие техники и вооруженцы держались кучками: девушки с мотоциклетного завода, девушки с авиационного завода, девушки из пединститута, девушки из МГУ. Помимо Жени Рудневой, на сборный пункт Расковой пришло еще шестнадцать девушек из Московского университета – студентки и аспирантки с математического, физического, химического, географического и исторического факультетов. Саша Макунина была самой старшей, самой зрелой.
Война застала ее в геологической экспедиции на Урале, в таком отдаленном месте, что она узнала о нападении немцев только через три дня. Саша, невысокая глазастая девушка, умела пилотировать планеры и прыгала с парашютом. Она выбрала в университете географический факультет потому, что профессия географа обещала путешествия, открытия и приключения. Но война была приключением почище любой экспедиции. Когда Саша ехала с Урала, все мысли были о том, чтобы поскорее добраться до Москвы: как большинство советских людей, она была уверена, что война продлится самое большее две недели, немцев будут бить исключительно на их собственной территории и долго им не продержаться. Так что главное – успеть повоевать.
В октябре сорок первого конца войне еще не было видно, но Сашин первоначальный настрой – как можно скорее и в любом качестве принять в ней участие – не изменился. 10 октября подруга Ира Ракобольская вызвала ее с занятий со студентами. «Берут добровольцами. Давай побыстрей. Сбор в шесть»[28]. Мать уже уехала в эвакуацию, убитый новостью отец не мог возражать против Сашиного решения, только тихо спросил: «Значит, и девчонки уходят?» Соседки по коммунальной квартире организовали проводы не хуже мамы: поплакали, собрали нехитрый вещмешок, насушили сухари и нагладили белье.
В бесконечном путешествии студентки и заводские девчонки знакомились, пели песни, говорили без конца. Рассказывали об оставшихся в тылу родных, о своих заводах и вузах, о том, что будут делать, когда кончится война, но, главное, о том, что у Расковой они непременно хотят выучиться на летчиц или штурманов. С ними в поезде, в каком-то другом вагоне, ехали и настоящие, профессиональные, летчицы, которым нужно только переучиться на боевые самолеты. Всем было очень интересно – какие они. Вчерашним девчонкам-студенткам летчицы казались совершенно особыми существами – намного старше, неизмеримо опытнее и смелее, умнее и образованнее. Если Раскова была богиней, то летчицы были полубогини.
На самом же деле летчицы оказались совсем земными. Мало кто из них даже окончил десятилетку, большинство пришли в аэроклубы с производства, с заводов, из мастерских – как Катя Буданова.
Кате, активной и смышленой деревенской девчонке, досталось тяжелое детство. Она была еще маленькая, когда умер отец, и мать, которая не могла прокормить большую семью, отправила девятилетнюю дочку работать, нянчить чьих-то детей. Катя отдыхала от работы только в школе. После семи классов сельской школы ее отправили в Москву к старшей сестре. Там она пошла работать на авиационный завод слесарем и активно включилась в комсомольскую жизнь: проводила мероприятия, работала с пионерами и вместе с подругой Ниной Соловей организовала заводскую лыжную команду. Но, что самое главное, Катя наконец-то начала двигаться к своей давней мечте: поступила в аэроклуб. После аэроклуба была летная школа, где Катя осталась работать инструктором, были выступления на авиационных парадах и немалое количество прыжков с парашютом[29]. Пошла совсем другая жизнь. У Кати появился реглан – длинное кожаное пальто, полы которого застегивались вокруг ног, так что можно было надевать парашют. Реглан был мечтой каждого летчика, а об отдельной комнате в Сивцевом Вражке, которую Катя тоже получила как летчик, никто и не мечтал, это по тем временам была неслыханная роскошь. В характере Кати, по словам ее знакомых, появился некоторый гонор, заносчивость, которых раньше за ней не замечали. Деревенская девчонка, рабочая завода, стала летчицей.
- Где в облаках, верша полет… —
заводила Катя низким красивым голосом, и будущие военные летчицы подхватывали. Позже, думая о погибшей в 1943 году Кате, девушки из полков Расковой в первую очередь вспоминали Катин красивый, сильный голос, песни, которые она так часто и охотно пела, ее густые вьющиеся волосы и белозубую улыбку.
Еще в поезде многие обратили внимание на стройную, невысокого роста красивую девушку, которая в мужской военной форме ничем не походила на мальчика. У нее были светло-русые вьющиеся волосы, зеленые глаза, изящная фигура и уверенная, красивая походка. Девушку звали Лидия, но она всегда представлялась Лилей, так ей больше нравилось. Она тоже была летчицей, только не знаменитостью, не как Катя. Куда ей было тягаться с прославленной пятеркой Евгении Прохоровой, которая, как говорили, тоже сейчас ехала к Расковой! Этих девушек знала вся страна по воздушным парадам, которые проводили на аэродроме в Тушине каждый год в день авиации, 18 августа.
«Женщины-пилоты Попова, Беляева, Хомякова, Глуховцева. Их ведет рекордсменка мира по планерному спорту Евгения Прохорова, – объявлял диктор. – Сейчас смелая пятерка покажет свое искусство». И пять маленьких самолетов, выстроившись в треугольник совсем близко один к другому, начинали выписывать в воздухе фигуры высшего пилотажа, рисовать петли, ни на секунду не нарушая совершенного строя. «Как будто один человек управляет пятью самолетами», – восторженно комментировал диктор.
В восторге была и публика. С трибуны Центрального московского аэроклуба наблюдало приехавшее на черных эмках правительство. Все были одеты в белое: белые гражданские костюмы или белые военные френчи с фуражками, даже обувь была белая. Только Сталин был в неизменном френче цвета хаки. Все обсуждали полеты, жестикулировали, имитируя движение самолетов. Здесь же была и Валентина Гризодубова, с модной прической, в светлом платье, и, на голову ниже, Раскова, в неизменной военной форме и берете. Они оживленно разговаривали о чем-то, смеялись, позируя камере. Как и все в этот день, они были радостно взволнованы[30].
На поле, на холмах вокруг аэродрома, рассаживалось согласно с трудом добытым билетам прямо на траве, разделенной белыми канатами на квадраты, несметное множество зрителей. Они добирались на этот дальний аэродром на трамваях, забитых людьми внутри и обвешанных ими снаружи, в кузовах грузовиков, даже пешком.
Самолеты писали в небе: «Слава Сталину!» С огромных флагов, которые они поднимали в небо, смотрело лицо Сталина в три четверти оборота – его самый выгодный ракурс. Диктор вещал о сталинских соколах, заявляя, что «с именем Сталина по первому зову партии и правительства ринется в бой на защиту советских рубежей орлиная стая советских летчиков, и враг будет уничтожен на его же территории».
И Женя Прохорова, неизменная участница парадов, всенародно известная летчица, пошла защищать свою страну именно так, «по первому зову партии и правительства». Пятерка распалась: с Женей поехали в Энгельс только Рая Беляева и Лера Хомякова. Все трое погибли.
Несмотря на все старания Расковой, путешествие в восемьсот километров заняло десять дней. Она очень быстро поняла, что пройдет много времени, прежде чем ее подопечные станут настоящими солдатами. До погрузки в эшелон Казаринова пошла проверить караулы, выставленные у еще непогруженного имущества «Авиагруппы № 122». Разводящий караула Катя Буданова спокойно спала, лежа на столе в холодном сарайчике. Отправившись с ней к имуществу – штабелям ящиков, мешков и матрасов, Казаринова не увидела ни одного часового ни на одном из постов. Когда кончилась воздушная тревога и умолкли зенитки, Буданова наконец докричалась до своих часовых, и те высунули сонные головы из груды матрасов, в которые спрятались, как они объяснили, от холода. Услышав от Казариновой о пропавших часовых, Раскова от души смеялась и сказала Казариновой: «Вы, капитан, хотите, чтобы они сразу стали военными, а это не так просто»[31].
За эту дорогу Марина Раскова много передумала и приняла несколько важных решений относительно своих девушек. В том числе и о том, что у ее солдат не будет кос[32].
На одной из остановок она наблюдала, как две девушки в военной форме выпрыгнули из поезда и побежали вдоль состава. Увидев Раскову и Казаринову, они остановились, чтобы попросить разрешения отправить письма. Раскова разрешила, и они, взявшись за руки, побежали дальше. На непокрытых головах развевались длинные, свалявшиеся за время долгой дороги кудри. Казаринова заметила, что боится, как бы они не попались на глаза коменданту станции без головного убора. Длинные волосы, по ее мнению, не следовало допускать в военной части. Вздохнув, Раскова велела ей составить проект приказа: всему личному составу по прибытии в Энгельс коротко подстричься.
Выбегая на остановках, девушки отправляли письма домой, в мирную жизнь, частью которой они были еще несколько дней назад. Торопясь назад в свой вагон, спрашивали у людей на платформе, какие новости. Что на фронтах? Держится ли Москва?
Глава 3. Деточки, на кого же вы нас покидаете?
«Как там Москва?» – постоянно спрашивали радистов в эскадрилье Ани Егоровой: эскадрилья формировалась под Москвой, и в ней было много москвичей. Немцев в первые дни после отъезда Расковой из Москвы потеснили от города, но очень скоро они снова начали наступать. 19 октября в столице было введено осадное положение. В постановлении Государственного Комитета Обороны говорилось: «Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду Военного Трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте»[33]. 20 октября сдались в плен окруженные при наступлении немецких танковых частей на Москву части Брянского фронта. Жалкий вид советских военнопленных поразил даже командовавшего наступлением генерал-фельдмаршала фон Бока, который записал: «Впечатление от созерцания десятков тысяч русских военнопленных, тащившихся почти без охраны в сторону Смоленска, ужасное. Эти смертельно уставшие и страдавшие от недоедания несчастные люди брели бесконечными колоннами по дороге мимо моей машины. Некоторые падали и умирали прямо на шоссе от полученных в боях ран»[34].
Ближе к концу октября немецкое наступление замедлилось от больших дождей, сделавших многие дороги непроезжими. Вскоре после этого начались морозы, подорвавшие нравственные силы не привыкших к таким испытаниям и часто не имевших зимнего обмундирования и обуви немцев. 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, свежие части, пройдя парадом по Красной площади, уходили прямо в бой, защищать Москву. Вместе с ними шли московские ополченцы, которых не призвали в регулярную армию из-за немолодого возраста, плохого здоровья или важной для страны профессиональной деятельности. Кто-то из них был уже в военном обмундировании, часто неновом, кто-то в телогрейке, кто-то в гражданском пальто; кто в шапке-ушанке, кто в фуражке, а кто-то даже в шляпе. Большинство из них шли на смерть: считается, что из ста двадцати тысяч московских ополченцев погибли сто[35], но сколько их было, сколько погибло, никто точно не знает.
Возможное падение Москвы представлялось колоссальной катастрофой, равносильной проигранной войне. Аня Егорова пыталась представить, что тогда будет, и не могла. Для нее, строившей первые станции московского метро, этот город уже стал родным.
Она приехала в Москву к старшему брату длинноногим подростком в вылинявшем пионерском галстуке и сшитых дядей сапогах с резинками. Здесь была необыкновенная, быстрая, большая жизнь, так непохожая на жизнь ее деревни в глухих тверских лесах. Мама отпустила ее с условием, что Аня будет учиться в институте, но комсомол звал на стройки. И главной стройкой для каждого москвича в предвоенные годы стало метро.
Сталин решил: московское метро не будет утилитарно, как в других европейских столицах, где бесцветные, с простой отделкой станции похожи одна на другую. Московское метро будет самым технически совершенным и самым красивым в мире, совершенно непохожим на метро других стран. Пусть люди живут в деревне в примитивных избах, а в Москве ютятся в переполненных бараках без воды и туалета, в коммунальных квартирах по десять человек в одной комнате. Метро ведь тоже принадлежит народу, а значит, каждый, зайдя на станцию, которая красотой и богатством ничем не уступает дворцам прежней знати, будет счастлив и горд за свое государство, а следовательно, и за себя.
К строительству и оформлению метро привлекли лучших архитекторов, скульпторов и художников, для подземных станций не жалели ни привезенного за тысячи километров мрамора, ни хрусталя, ни позолоты. Советские идеологи рассчитали правильно: подземные дворцы должны были заменить разрушенные советским строем церкви, одновременно возвышая человека и подавляя его, внушая благоговение перед новым божеством – маленьким сухоруким рябым человеком.
Из всех строек одержимого гигантоманией Сталина метро стало единственной, где не использовали заключенных ГУЛАГа: его строили комсомольцы и комсомолки. Неженских специальностей в то время не существовало. Аня Егорова стала на строительстве станции метро «Красные Ворота» арматурщицей: вместе с другими девушками носила металлическую арматуру на плечах, согнувшись под огромной тяжестью груза. Никто не жаловался, они считали нужным доказать, что девушкам по плечу любой мужской труд. Потом Аня и почти все остальные освоили другие строительные специальности: стройка подходила к концу, нужны были облицовщики и штукатуры. Люди учились, потому что им хотелось возводить «свои» станции метро от начала и до конца.
Когда в октябре 1934 года в Москве прошел первый поезд из двух красных вагонов, Аня с товарищами бежали за ним, обнимались, плясали. 6 февраля 1935 года строители промчались через тринадцать «своих» станций, первых станций советского метро[36].
В шестнадцать лет Аня начала заниматься в аэроклубе и, работая в шахтах самых глубоких московских станций, без конца мечтала о полетах в небе. После занятий на планерах и учебном самолете У-2 и первых прыжков с парашютом она решила поступать в летное училище – и поступила. С блеском сдала экзамены, прошла придирчивую медкомиссию и стала курсантом летной школы. Только учиться не дали: почти сразу же после начала учебы начальству стало известно, что старший брат Ани Василий репрессирован. Из школы ее выгнали в тот же день.
Авиационную школу она все-таки окончила, только Херсонскую: помогли добрые люди. После школы до самой войны Аня Егорова работала инструктором в аэроклубе Калинина, поближе к маме и родной деревне. Воскресным утром 22 июня, сидя с подругами на высоком берегу Волги, она услышала по радио с проплывающего теплохода: война. В ту же минуту Аня знала: она сделает все, чтобы летать на фронте. Как военная летчица она сможет больше сделать для родины, которая столько ей дала. В боевых вылетах она сможет показать, каких высот летного мастерства достигла за годы учебы и инструкторской работы.
В военкомате Егоровой сказали то же, что говорили и другим летчицам: повоевать успеете, сейчас нужно готовить кадры для фронта. И отправили работать инструктором в аэроклуб города Сталино[37]. Но уже по дороге она узнала, что никакого аэроклуба, и не только его, в Сталино больше нет. Заводы, институты, организации и людей из города эвакуировали. В Сталино, столицу угольного бассейна, должны были вот-вот войти немцы.
Приехав в Сталино, Аня прошлась по пустому зданию аэроклуба и от нечего делать сходила на последний спектакль оперного театра. За день до своей эвакуации театр давал «Кармен». Но спектакль Аня смотрела «как через стекло», не волновали сердце ни любовь, ни смерть. На следующий день ей очень повезло: она встретила «купца» – старшего лейтенанта из летной части, приехавшего за летчиками в аэроклуб и в госпиталь. Она предложила «купцу» свою кандидатуру, чем очень его удивила. Но в конце концов вместе с другими ей удалось попасть в эскадрилью связи Южного фронта: взяли, конечно, неохотно, но в хаосе отступления искать летчиков-мужчин было некогда. К тому времени, когда немцы подошли к Москве, Аня уже месяц летала у самой линии фронта: возила приказы в отступающие части, перевозила офицеров связи, устанавливала местоположение войск. Летала она на том же самолете У-2, на котором училась в аэроклубе и на котором сама учила курсантов. Этот легонький биплан – то есть самолет с двухэтажными, как этажерка, крыльями – конструктор Поликарпов придумал в тридцатых годах как учебный. Именно на нем учились летать все герои и героини этой книги. В У-2 было две кабины – для ученика и для инструктора, в каждой из них было управление. Когда инструктор заключал, что ученик в состоянии вылететь один, в заднюю кабину ему клали балласт – мешок с песком, который прозвали Иван Иваныч. Самолет был маленький, легкий, тихоходный, делали У-2 из фанеры и перкали, так что и стоил он совсем дешево. Претензий к нему не было и раньше, но только с началом войны, когда У-2 из аэроклубов мобилизовали для фронта, поняли до конца, насколько это удачный, незаменимый самолет. Маленький У-2 – «кукурузник», «уточка», или, как прозвали его немцы, «рус-фанер», стал незаменимой рабочей лошадкой войны. На нем возили раненых, с его помощью осуществляли связь, сбрасывали грузы для окруженцев и партизан и даже, научившись подвешивать ему под крылья бомбы, использовали как ночной бомбардировщик. Не требующий пространства для разгона, он мог взлететь даже с небольшой поляны в лесу и приземлиться на шоссе.
Н. Н. Поликарпова, конструктора столь полезного маленького самолета, родина отблагодарила своеобразно. Он был репрессирован первым из советских авиаконструкторов. Скорее всего, «помогло» его непролетарское происхождение: отец Поликарпова был священником[38]. Свои следующие самолеты он разрабатывал в тюремном конструкторском бюро, которое, по мнению руководителей НКВД, должно было намного превзойти по своим успехам гражданские организации, так как конструкторов там ничто не отвлекало и они могли сосредоточиться на работе. «…Только условия работы в военизированной обстановке способны обеспечить эффективную деятельность специалистов в противовес разлагающей обстановке гражданских учреждений», – написал когда-то в письме Молотову стоявший у истоков сталинских репрессий Генрих Ягода[39]. Поликарпову повезло: за успешные испытания сконструированного под его руководством истребителя И-5, который показал Сталину любимец советского народа и властей летчик Валерий Чкалов, он был амнистирован. Конструкторы Туполев и Петляков провели в тюрьмах гораздо более долгие сроки, а создатель космического корабля, на котором полетел в космос Юрий Гагарин, Сергей Королев, умер бы в ГУЛАГе, если бы его не спас вызов на работу в тюремное КБ.
Ловкий маленький У-2 сейчас казался летавшей на нем у линии фронта Ане Егоровой совершенно беззащитным. В любой момент можно было встретить немецкий истребитель, а сбить У-2 можно было даже из винтовки. От немецкого истребителя не уйдешь – нет скорости. Одно спасение при дневном полете – нырнуть к земле как можно ниже, лететь на бреющем полете…
Отступающие по территории Украины советские войска не были похожи на армию. Части, на поиски которых вылетала Аня, двигались не колоннами, а отдельными группами. Истощенные и измученные, в оборванной одежде, они еле шли, таща на себе оружие и раненых. Увидев краснозвездный самолетик, солдаты махали ему руками, пилотками, касками: самолет вселял надежду. Несколько раз приходилось садиться в селах, уже чуть ли не в тылу у немцев. Но маленький У-2 всегда выручал, взлетая почти без разбега, взлетая даже с дырами в крыльях.
Узнав, что привезла приказ об отступлении, Аня всегда недоумевала: зачем он нужен, когда армия давно отступила? На аэродроме в Харькове, куда она летала в штаб Юго-Западного фронта, была полная неразбериха. Тут Аня впервые узнала, что самолет на войне могут угнать с такой же легкостью, как лошадь[40].
Летчик из ее эскадрильи прилетел в Харьков с секретной почтой, но, когда собрался лететь обратно, не нашел своего самолета. По стоянке бродило много «безлошадных» летчиков: кто-то потерял машину в бою, кто-то и без боя – огромное количество машин немцы разбомбили прямо на аэродромах. Аню с товарищем отправили искать пропавший самолет, но ничего не получалось, и они собрались в обратный путь. Но когда на аэродроме в Чугуеве, после напрасных попыток получить какую-то еду в столовой, Аня вернулась к своему У-2, к ее огромному удивлению, в кабине сидел какой-то майор и кричал: «Контакт!» – а второй летчик, тоже майор, тянул руками за винт, помогая завести мотор. На смену удивлению пришла ярость: забыв о субординации, Егорова вскочила на крыло своего самолета и начала лупить майора кулаками, крича: «Ворюга! Ворюга! Как не стыдно?!»
Майор отреагировал спокойно: повернулся к ней и сказал: «Ну что кричишь, как на базаре? Сказала бы по-человечески, что это твой самолет, – и мы уйдем искать другой, ничейный». Когда майоры пошли прочь со стоянки – один широкими шагами, другой семеня, Ане их почему-то даже стало жалко…
Уцелевший на войне пилот У-2 рассказывал о своих приключениях на фронте, а его жена, прошедшая всю войну в наземной части, нет-нет да и напоминала ему, что, перелетая с аэродрома на аэродром с шоколадкой «Кола»[41], он не видел тяжелых и грязных сторон войны. Страшную, тяжелую и грязную войну, без романтики и крыльев, видели солдаты тех частей, на которые Аня Егорова смотрела сверху в горькие дни отступления. Среди этих подавленных, измученных людей, отступавших от Харькова, шагала в больших не по размеру сапогах восемнадцатилетняя Аня Скоробогатова. Аня была очень невысокого роста, с прямым носом, густыми темными волосами и живыми голубыми, как незабудки, глазами. Она с детства хотела быть летчиком и окончила аэроклуб[42]. Но когда началась война и она пошла в военкомат, там объяснили: девушек летчиками пока не берут, хотите – идите на курсы радисток для авиационных частей. Ане Скоробогатовой годилось и это: она будет работать в боевых летных частях, и, кто знает, может быть, там все же найдут применение ее летному опыту.
В Харькове, куда их отправили на курсы радистов, спокойной учебы не вышло. На улицах красивого города появлялось все больше военной техники, городские больницы переполнили раненые, днем и ночью доносился далекий грохот – «голос войны». Войска отступали к Сталинграду. Именно это отступление, а не бои многие запомнили как самое тяжелое время за всю войну. Солдаты шли голодные и измученные, многие совершенно потеряли боевой дух. Командир отделения разведчиков Владимир Пивоваров вспоминал, как по дороге они с товарищами нашли пасеку и в мгновение ока разобрали соты и наелись меда. Тут им еще сильнее, чем до этого, захотелось пить. Очень некстати раздались крики: «Коммунисты и комсомольцы – вперед с оружием!» – где-то рядом были немцы. Но когда, выдвинувшись, они увидели перед собой маленькое озерцо, им сразу стало не до немцев и не до своих командиров. Все бросились пить, взбаламутив воду в этой луже[43].
С войсками отступали и Анины курсы радистов. Приказ об эвакуации курсов в город Россошь, находившийся в степи между Харьковом и Сталинградом, Аня восприняла болезненно. Он означал, что ей придется уехать еще дальше от родителей. Она оставила их в деревне рядом с Таганрогом. Ей было еще так мало лет, а опереться уже не на кого. Начиналась – и как начиналась! – взрослая жизнь.
На курсах Аня Скоробогатова близко подружилась с тремя девушками: Фридой Кац из Гомеля, Аней Стобовой из Полтавы и Леной Бачул из Молдавии. Их сразу прозвали «четыре сестры», и они договорились всю жизнь не бросать друг друга. С войны вернулась только Аня Скоробогатова.
Курсантов вооружили – выдали по ржавой винтовке. Патронов не было. Впрочем, стрелять их все равно еще не учили. Дали сапоги и шинели «на вырост» и велели собрать вещмешки. Перед уходом из Харькова Аня отправила письмо маме, не зная, дойдет ли оно. Письмо было в стихах – банальное, пафосное, искреннее послание, заканчивавшееся словами: «Итак, прощай, с победой жди меня!» Их группа, около ста парней и девушек, прошла пешком двести пятьдесят километров до Россоши. Сначала шли днем. Было страшно. Над головой на бреющем полете летали самолеты с крестами на крыльях. В селах, через которые они проходили, женщины кормили их вареной кукурузой, а сами плакали: «Деточки, на кого же вы нас покидаете?» Вместе с ними шли беженцы, нагруженные бедным скарбом, тащили детей, гнали коров. Пошли дожди, и они целый день шли мокрые. Потом командиры решили, что днем идти слишком опасно. Теперь они целый день отдыхали где-то в сарае и шли дальше с наступлением темноты. Ночью идти было сложнее, с непривычки они засыпали прямо на ходу. А в ушах все раздавался плач деревенских женщин: «Куда же вы, деточки?»
Когда они наконец дошли до Россоши, выяснилось, что город, который недавно был в глубоком тылу, уже не так далеко от линии фронта: немцы тоже не стояли на месте. До Сталинграда остался один переход через Дон.
Они снова начали учить «микрофон и морзянку», то есть прием и передачу по радио. Аня прикидывала, сколько еще осталось учиться, и намеревалась требовать, чтобы ее после курсов отправили радисткой в авиачасть. Она не теряла надежды летать[44].
Глава 4. Разве можно снимать такое горе?
В Энгельс «Авиагруппа № 122» прибыла ночью. На платформе – ни души. Дождь, туман, ни одного огонька. «Да Энгельс ли это?» – сомневалась Раскова[45]. Но когда, поблуждав в темноте, она нашла дежурного по военному гарнизону, оказалось, что в Энгельсе их ждали. Дежурный показал общежитие: спортивный зал Дома офицеров, где, как и в вагоне, девушкам предстояло спать на двухэтажных нарах. Расковой приготовили уютную комнатку с широкой кроватью и ковром, которую она обозвала «будуаром», ковер приказала убрать, а кровать заменить двумя узкими койками – для себя и начальника штаба.
С огромным удовольствием поев после бесконечного сухого пайка в поезде в гарнизонной столовой горячую «блондинку» – так прозвали пшенную кашу, девушки начали устраиваться на новом месте. Мужчины из других авиационных частей, расквартированных в авиагарнизоне, конечно, «очень развлекались на их счет»[46]. Полностью женская часть, да еще и авиационная, была явлением невиданным, и люди реагировали на нее самым непредсказуемым образом. Между собой мужчины сразу же прозвали девушек из части Расковой Дуньками. Когда комсорг, серьезная круглолицая Нина Ивакина, сообщила старшему лейтенанту-преподавателю, что является политработником части, тот «сделал удивленные большие глаза и воскликнул: “Как? У вас есть даже и политработники? Совсем как в настоящем полку?..”» Вера Ломако, услышав, как ребята из Энгельсской военной авиационной школы пилотов, глядя на девушек с усмешкой и состраданием, называют их «батальоном смерти», говорила: «Девушки, да вы смотрите на них свысока»[47]. Раскова, когда слышала о таком отношении к своим подопечным, только улыбалась. Ее девушки еще успеют всем показать, что они не хуже мужчин.
В сентябре Энгельс был еще в глубоком тылу: немцы уже подошли близко к Волге выше по ее течению, но оттуда до Энгельса больше тысячи километров. В «городишке», как его сразу с пренебрежением стали называть летчицы, шла обычная жизнь военного времени: с проводами на фронт мужчин, с ежедневной борьбой за существование. Становилось голодно: матери маленьких детей готовили и стирали для военных, поставленных к ним на квартиру, если те отдавали им очень небольшое количество манной крупы, которое получали в пайке[48]. Носивший имя одного из основателей коммунистической идеологии городок был, по общему мнению летчиц, «дрянь». «Домишки слеплены из глины, набок головы склонив от старины», – писала в своем дневнике Нина Ивакина. Стены большинства домов и правда были сделаны из глины, перемешанной с соломой и хворостом. В центре было четыре каменных здания: НКВД, горком партии, Дворец пионеров и кинотеатр «Родина». В городе было полно на редкость трусливых бродячих собак. В «плохоньких одноэтажных каменных хибарках» расположились городские магазины с сельским барахлом, весьма однообразным, так что навряд ли даже самая заурядная провинциальная кокетка смогла бы удовлетворить свои прихоти[49].
Зато Энгельсский авиационный гарнизон был идеальным местом учебы для летчиков: плоские, как стол, сухие степи, среди которых он лежал, были как один огромный аэродром: приземлиться можно было где угодно (а зимой – и на лед, покрывающий необозримую Волгу). В году было намного больше дней с летной погодой, чем в Центральной России. И фронт был пока что далеко.
Новым домом для девушек стала казарма, где у каждой из них было свое место на нарах, свое серое байковое одеяло, свой соломенный тюфяк. Всех поселили в одном большом зале. Среди них были, конечно, такие, кому условия показались почти невыносимыми, но большинство не привыкли к роскоши. Девушки из крестьянских семей выросли в избах, где мебели никакой не было – только деревянный стол и лавки. Разумеется, ни у кого не было собственной комнаты, разве что родители жили за занавеской или в отдельной, «чистой», половине избы. Остальные спали на печке, на лавках или на полу – стоит ли говорить, что у них не было ни простыней, ни наволочек. Ели все вместе деревянными ложками из одной большой чашки, хлебая суп все по очереди, а мясо, если оно было, делил глава семьи.
Уезжая в город работать на заводах, крестьяне находили себе новое жилье в рабочих бараках, где жили по многу человек в одной комнате безо всяких удобств. Даже те, кому удалось хорошо устроиться в городских квартирах, как правило, жили всей семьей в одной комнате. На кухне у каждой семьи были свой стол и шкафчик, готовили на большой плите, туалет на всех был один, как и раковина с водой, а мыться ходили в баню, так как ванной в квартирах, конечно, не было. До войны многие успели узнать голод.
Знакомство с военным бытом солдаты Расковой начали с того, что из девушек превратились в мальчиков. Первое, что сделала Раскова, привезя своих подопечных в Энгельс, – отправила их в баню и в парикмахерскую. Составленный начальником штаба приказ о стрижке, «впереди на пол-уха», зачитали сразу по прибытии, чуть ли не на платформе. Пожилой парикмахер щелкал ножницами, и на полу постепенно образовался ковер из длинных женских волос – светлых и темных, прямых и вьющихся.
Будущий штурман Наташа Меклин, когда парикмахер, последний раз щелкнув ножницами, отступил от зеркала, увидела мальчишку, смотревшего прямо на нее. «И все же – нет, не я. Кто-то совсем другой, ухватившись за ручки кресла, испуганно и удивленно таращил на меня глаза…» У мальчишки на самой макушке смешно торчал хохолок. Девушка попробовала пригладить волосы, но они не поддавались. Она оглянулась на мастера, и тот сказал: «Ничего-ничего, это с непривычки. Потом улягутся. Следующий!»
В кресло села Женя Руднева и стала неторопливо расплетать тугую светлую косу. Наконец она тряхнула головой, и по плечам рассыпались длинные золотые волосы. Все кругом застыли: неужели они сейчас упадут на пол? Пожилой парикмахер, поглядывая на Женю, стал молча выдвигать и задвигать ящики. Потом спросил: «Стричь?» Женя удивленно подняла глаза и утвердительно кивнула[50].
Большинство девушек расстались с косами так же спокойно, как Женя, но кое-кто всплакнул, по своим волосам или по чужим. Чтобы не отрезать косу, требовалось личное разрешение Расковой, но беспокоить ее по таким пустякам осмелились лишь несколько человек. Большинство, жалея об утраченной красоте, понимали после десяти дней в теплушке, что на войне косы не нужны.
В ту осень, забыв русскую пословицу «Коса – девичья краса» и вспоминая другую: «Снявши голову, по волосам не плачут», остригали косы сотни тысяч советских девушек. Стриглись отправляющиеся на фронт санинструкторы, связистки, радисты, зенитчицы, телефонистки и писари. Шура Виноградова, растившая косу все свои восемнадцать с небольшим лет, никогда не думала, что будет умолять окружающих найти ножницы, чтобы избавиться от нее. Она только успела начать работать учительницей в сельской школе, как пришла повестка. На войну не хотелось: жалко было бросать школу, в которой другого учителя не было, жалко было оставлять без помощи семью. Но с военкоматом не поспоришь. А в документах, как она потом увидела, написали, что она пошла на фронт добровольно. К месту службы на Ленинградском фронте Виноградова добиралась бесконечно. Через десять дней появились вши, а еще через пару недель их кишело в косе столько, что она в отчаянии пошла вдоль колонны машин искать ножницы. Косу в конце концов отрезал ей водитель грузовика. Отрезал и бросил поскорее под куст. «Отращу еще, как война кончится», – утешала себя Шура, но, конечно, уже никогда не отрастила. Длинная русая коса, оставшаяся навсегда под кустом в Малой Вишере, вспоминалась ей потом всю жизнь[51].
Разместив свое войско в Доме Красной армии, Раскова незамедлительно начала занятия: самолеты, моторы, вооружение, аэронавигационные дисциплины, строевая подготовка. Еще при первой встрече начальник авиагарнизона полковник Бадаев сказал, что уже пришел приказ, определяющий номера и наименования полков: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й полк ночных бомбардировщиков. Полки эти пока существовали только на бумаге, людей по ним нужно было распределить. Необходимо было также решить, кто из людей с летным опытом будет летчиком, кто – штурманом, а также кто из не умеющих летать будет учиться на штурмана, кто – на техника. Решения принимали Раскова и Вера Ломако. Обид было много, но авторитет Расковой был настолько высок, а она сама так умно общалась с людьми, что могла убедить любого.
Все ее новые солдаты хотели летать – если не летчиками, то штурманами. Все штурманы хотели быть летчиками. Все летчики хотели стать истребителями. Раскова выслушивала каждого недовольного, который отваживался прийти к ней с просьбой о переводе. С каждым она говорила серьезно и уважительно. Галя Докутович хотела стать летчицей, однако Раскова объяснила ей, как нужны в полку бомбардировщиков штурманы с летным опытом. Напористую круглолицую Фаину Плешивцеву убедили, что, хотя та окончила аэроклуб, для страны сейчас гораздо важнее ее прекрасное знание механической части самолетов: Фаина ушла к Расковой с четвертого курса авиационного института. Плешивцева согласилась, хотя все равно надеялась, что будет летать. Надежду Раскова не убивала, даже подогревала ее. И многие вооруженцы и техники, мечтавшие подняться в небо, не обманулись в своих ожиданиях: шла война, в полку ночных бомбардировщиков техников и вооруженцев переучивали на штурманов, а штурманов – на летчиков, и они занимали места выбывших по болезни, ранению или убитых.
Почти всех профессиональных летчиц с большим налетом, пришедших к Расковой из гражданской авиации или из аэроклубов, где они работали инструкторами, определили в полк тяжелых бомбардировщиков. Тех, у кого налет был поменьше, записывали в полк легких бомбардировщиков или в штурманы. И только самые лучшие – летчицы-спортсменки с хорошим налетом – могли попасть в истребительный полк. Но все решали контрольные полеты. Не имевшая сама достаточного летного опыта, но обладавшая прекрасной интуицией и отлично разбиравшаяся в людях, Раскова считала, что настоящего истребителя сразу видно по смелости воздушного почерка, по искусству маневра, по блестящему управлению скоростью. Помогала в принятии решений профессиональная летчица-истребитель Вера Ломако, товарищ Расковой по ее первому беспосадочному перелету от Черного до Белого моря. Хотя она пробыла в полку мало из-за испорченного недавней авиакатастрофой здоровья, все отлично запомнили ее колоритную фигуру. Ломако была высокая и коренастая, носила кожаное пальто реглан и сапоги, на голове – шапку-ушанку с серым каракулем. Но главным было, конечно, ее лицо, которое казалось девушкам лицом настоящего воина: твердый взгляд карих глаз, на брови и на носу марлевые накладки. Перед Ломако так робели, что как-то Валя Краснощекова, рапортуя ей о вручении пакета мужу Ломако майору Башмакову (он был военный летчик и в этот момент тоже находился в Энгельсе), назвала его по ошибке «майор Сапогов»[52]