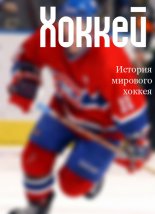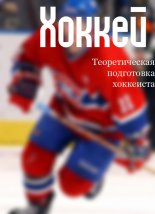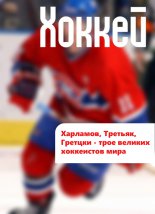Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов
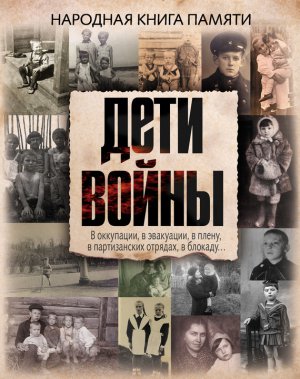
Очень любили играть в бесконечных поленницах, которыми был заставлен весь наш двор. Там у нас были свои тайники. Однажды мы все чуть не сгорели: развели костёр, и дрова загорелись. Кира не растерялся, сдёрнул ватную курточку со своего приятеля и погасил огонь. Куртка почти вся обгорела, и нам сильно досталось.
С детства боюсь пожаров. Запах гари приводит меня в ужас. Сердце начинает бешено биться. Я с трудом справляюсь с собой, чтобы не впасть в панику. Когда мы жили уже в другом большом доме на горе, Кира с приятелями в соседней квартире выкуривали кошку из-под печки, бросая туда зажжённую бумагу. Загорелся мусор, дрова. Мальчики перепугались и закрылись. К нам через стену повалил дым. Я хворала, сидела дома и не участвовала в этом озорстве. Няня испугалась, побежала к соседям, а меня попросила позвонить к папе на фабрику. Мальчишки няне дверь не открывали, испугавшись, что им попадёт. Хорошо, мимо шёл молодой парень. Он выбил окно, влез в дом и погасил огонь. Уже горела стена между нашими квартирами.
Однажды вечером бегали смотреть, как горел большой двухэтажный дом. Суетились люди, выбрасывали из окон какие-то вещи, кричали женщины…
Вокруг посёлка были густые кедровые леса. Папа был заядлым охотником и, когда позволяло время, уходил побродить по лесу с ружьём. Однажды к вечеру ушёл ненадолго и не вернулся. Утром позвонили на комбинат.
Охотой увлекались многие местные жители. Ходили на медведей. У директора фабрики, Василия Саввича Соломко, в сарае жил медвежонок.
Люди отправились его искать, но вернулись ни с чем. Папа пришёл сам только на третий день. Кругом леса, на сотни вёрст одна деревушка или охотничья заимка. Как он сумел сориентироваться и вернуться, я не помню.
Охотой увлекались многие местные жители. Ходили на медведей. У директора фабрики, Василия Саввича Соломко, в сарае жил медвежонок. С его детьми, старшим Юрой и моим ровесником Васильком, мы очень дружили.
С няней
Мы с Васильком не расставались, дружно бегали на все сеансы в кино. Кино показывали в огромном деревянном бараке с рядами скамеек. Клуб принадлежал фабрике, и нас, детей директора и главного инженера, все знали. Что смотрели, совершенно не помню. Помню только, что часто мы с Васьком там засыпали. Нас теряли и везде искали. В конце концов папа запретил киномеханику пускать нас.
У В. С. Соломко был великолепный вороной жеребец с белой звездой во лбу. Мы с Васькой поджидали, когда Василий Саввич приедет домой на обед или после работы, чтобы прокатиться. На комбинат нас не пускали, мы стояли на повороте к посёлку. Как-то зимой жеребец испугался и понёс. Василий Саввич вылетел в сугроб, а кучер повис на вожжах и волочился за несущимся жеребцом. Мы с Васькой очень испугались, решили, что кучер запутался в вожжах, и жеребец его убьёт.
Зимы были очень снежные и суровые. Дома и сараи заносило по самую крышу. Последний дом, где мы жили, стоял на краю оврага, и мы катались на санках прямо с крыши сарая.
Забирались на крышу дома и прыгали в сугробы, проваливались до плеч, мальчишки меня, как морковку, выдёргивали за руки. На зиму мама шила нам из отработанного фабричного сукна комбинезоны-«медвежата», так что мы могли ползать в снегу в полное удовольствие.
Поздней осенью, пока ещё не выпал снег, но река уже замёрзла, любили бегать по чёрному гладкому зеркалу льда, лечь и смотреть, как внизу, в воде, шевелятся водоросли и плавают рыбы.
В посёлке почти все держали коз и кроликов. Няня тоже занялась «животноводством». Клетки с кроликами стояли на веранде. Кролики кролились зимой, в лютые морозы, поэтому крольчих забирали в дом, чтобы новорожденные не замёрзли… Однажды няня приняла крольчиху за разжиревшего кролика… Как-то утром, к нашему всеобщему огорчению, в её клетке мы обнаружили замёрзших крохотных крольчат. Как я плакала над ними, а няня корила себя за то, что так обманулась!..
Козлята появлялись на свет божий тоже в зимнюю пору, ближе к Новому году. Из хлева их приносили домой… В большой комнате стояла ёлка. Вокруг прыгали пушистые крольчата, кудрявые, с маленькими шишечками-рожками козлята и мы с Кирой! Носились вкруговую по всем комнатам, скакали друг за другом по столам, кроватям… Няня воевала со всеми!
Часто зимой в посёлке появлялись волки. Около проруби в овраге, куда ходили за водой, почти каждое утро находили останки съеденных собак. Однажды, под вечер, я возвращалась домой одна. Шла не по улице, а задворками, за сараями и увидела волка. Он стоял на пустыре, на пригорке: лобастый, опустив низко голову и поджав хвост… От страха я замерла на месте.
Однажды, под вечер, я возвращалась домой одна. Шла не по улице, а задворками, за сараями и увидела волка. Он стоял на пустыре, на пригорке: лобастый, опустив низко голову и поджав хвост… От страха я замерла на месте.
Волк тоже не двигался. Наконец я с дикими воплями кинулась бежать!..
Кира решил волка подкараулить. Зарядил отцовское охотничье ружьё и сел на крыльцо, напротив сарая, где жили козы… Сидел, скучал, мёрз на холоде. Волка не дождался и пальнул в дверь хлева!
Когда мне было около пяти лет, я превратилась в очень упрямую и своенравную барышню. Препиралась с няней, дерзила маме… Однажды поссорилась с обеими и решила уйти из дома! Мне без возражений собрали мешочек с вещичками и сказали: «Ну что ж, раз тебе плохо с нами, иди!» Я оделась, взяла мешочек, вышла из дома… Дальше крыльца я не ушла! Сидела, плакала и очень себя жалела…
Была, как говорят, «папиной дочкой». Кира больше похож на маму, я – на папу.
Папа был более терпелив со мной. Уложить спать меня мог только папа. Он садился играть со мной в карты и начинал выигрывать. Я сердилась, лезла на него с кулаками, надувалась и отправлялась спать! Вначале укладывала все игрушки, так что для меня места на кровати оставалось очень мало…
Частенько среди ночи падала и шла под бок к папе: «Подвинься, ишь развалился!»
Мыться в баню ходили к старикам-староверам. Дом и хозяйственные постройки у них были расположены под одной крышей и выстроены из почерневшей от времени лиственницы. Двор выстлан тёсом. При холодных снежных зимах это было очень удобно. Не нужно было выходить на улицу, чтобы пройти в хлев, сарай или баню. Мне очень нравилась сумеречная темнота двора, доски под ногами, низенькие двери в дом, крошечная банька… уютные старые люди, такие же кряжистые, приземистые и основательные, как и их дом…
В бане было невыносимо жарко. Не знаю по какой причине, однажды меня мыл папа. После мытья, одевая меня, не мог разобраться с моей одежонкой: где чистое, где грязное? Кое-как натянул на меня что попало, чулочки к лифчику не пристегнул. Я с рёвом, придерживая сползающие чулки, пришла к хозяевам. Была утешена, напоена чаем и приведена в должный вид!..
1 класс школы № 164. Ольга впереди справа (лежит)
У кого-то из Кириных друзей умерла бабушка. Кирюшка пришёл с поминок и рассказывал, что ел там блины. Мне так захотелось блинов, что я начала горько плакать от обиды, что меня не взяли. Тогда Кира говорит: «Лялька, не плачь! У них есть ещё старенький дедушка, когда он умрёт, я тебя обязательно возьму!..»
Голода я не помню. Бог миловал! Мы не голодали, но, конечно, питались очень скудно. Самым большим лакомством был чёрный хлеб с растительным маслом и солью. Почему-то запомнилось, что масло няня наливала на чугунную сковородку, сыпала соль, и мы туда макали хлеб…
Помню рассказ папы о том, как он с одним парнем с фабрики поехал в командировку в леспромхоз. Там их угостили горячим хлебом. Парень съел всю буханку и умер от заворота кишок…
Сразу после войны появились жмыхи, отходы от приготовления растительного масла, и шроты – от приготовления соевого масла. Все дети грызли их как самое большое лакомство. Даже рыбий жир, который нам давали перед обедом, я пила с удовольствием, заедая его чёрным хлебом с солью. Мой двоюродный брат, Андрей Тольский, лил рыбий жир везде, даже в суп!
Приблизительно в 1944 или в начале 1945 года, начали поступать посылки из Америки по ленд-лизу. Папе на фабрике выдали (что я запомнила): большую жестяную банку колбасы, серую в мелкую клетку юбку из очень мягкой шерсти, которую я носила, когда уже училась в институте.
Банка с колбасой запомнилась потому, что пустая была выдана мне для игры, и я очень сильно порезала руку о её край. Шрам между указательным и большим пальцами на правой руке у меня остался до сих пор…
Несчастная Россия! В 1990-х годах, в период очередного передела власти, опять, как во время войны, Америка, страны Европы, Израиль… стали присылать гуманитарную помощь: продукты, вещи… Круг замкнулся…
В феврале 1943 года к нам на Новую Лялю, похоронив родителей, из блокадного Ленинграда приехала папина сестра, Анна Андреевна Тольская. Ей было тогда 40 лет, но выглядела она старухой. С опухшими и сочащимися сукровицей ногами, шатаясь от слабости, шла, опираясь на палку. Чулки приросли к ногам. Чтобы их снять, пришлось долго отмачивать. Папа устроил её работать на комбинат браковщицей гильз для снарядов. Придя с работы, тётя Ася забиралась со мной на лежанку русской печки и рассказывала разные истории о том, как маленькая залезала в книжку с картинками и играла с её героями… Она была большая фантазёрка! Я замирала от восторга и допытывалась, как ей это удавалось. Тётя Ася загадочно улыбалась, сияя большими зелёными глазами, и отвечала: «А вот так!» – не раскрывая свою тайну!..
В феврале 1945 года папа был направлен на работу в Финляндию, в торгпредство, в качестве наблюдающего за отправкой оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности в СССР. Из Финляндии папа присылал нам красочные открытки с трогательным текстом, которые я бережно храню и перечитываю с любовью и нежностью.
Папа пробыл в Хельсинки полгода. Решался вопрос о продлении командировки и возможности приезда в Финляндию семьи. Однако этого не случилось. Папу отозвали, и поехал в Финляндию кто-то из министерства.
Папино возвращение в нашу нищую жизнь казалось возвращением из сказки! Его рассказы о жизни в Финляндии, симпатия к финнам запомнились с детства. Тёплое отношение к этой стране и её жителям у меня сохранилось и поныне.
Из поездки папа, конечно, привёз всем подарки! Из того, что помню:
– Швейцарские позолоченные часики на изящном браслете для мамы. Когда я была студенткой, мама подарила их мне. Затем их носила моя дочь Аня, но у неё их украли вместе с сумочкой.
– Немецкий патефон с большим количеством пластинок, который был огромной редкостью и мечтой многих в послевоенное время. Он работает до сих пор, но иголки все затупились, новых не достать. Я редко завожу его – боюсь испортить пластинки.
– Набор цветных карандашей и финских ножей разных размеров с рукоятками из карельской берёзы, в тонких деревянных ножнах, которые мы с Кирой раздаривали, теряли, и очень скоро от них остались один воспоминания! Сохранился только один самый большой папин нож. Теперь он у Кирилла.
В апреле 1946 года мы получили разрешение выехать в Ленинград. Поехать вместе с нами папа не смог – задержали дела на комбинате. Сопровождал нас молодой паренёк Вася. Ехали со всем скарбом в теплушке, малой скоростью. Вагон был рассчитан на две семьи. С двух сторон от двери были настланы нары, в середине – печка-«буржуйка». Входили и выходили из вагона по приставной деревянной лестнице, которую поднимали внутрь вагона. С нами ехала ещё одна семья с двумя девочками, одну из которых я случайно встретила в Архангельске, когда была там в командировке. Она меня узнала, хотя мы не виделись почти двадцать лет!..
Ехали очень медленно. Подолгу стояли на полустанках, пропуская военные эшелоны, возвращающиеся с войны. Когда переезжали Уральский хребет, остановились надолго и побежали смотреть ледоход на реке Чусовой. Стояли на горе. Внизу в расщелине неслась река, выталкивая на крутые скалистые берега сахарные глыбы льда, вздымая и громоздя их друг на друга… Светило солнце, сияли брызги воды, лёд… синело небо, свет слепил глаза… и вдруг мы увидели, что состав медленно тронулся! Мама стояла в проёме двери, и отчаянно кричала нам, и махала руками! Мы бросились догонять поезд. Вася по очереди посадил нас на площадку последнего вагона. Весь перегон мама выглядывала на нас из окошка и очень волновалась. Я стояла, прижавшись к стене вагона. Было довольно страшно стоять на открытой со всех сторон площадке. Хорошо, что перегон был небольшим. Состав просто перегоняли с одного пути на другой!
Слева направо: Кирилл и Ольга Тольские, Валерий Корнилов, 1949 г.
После Уральских гор пошла равнина. Проезжали по полям сражений. Всюду стояли развороченные взрывами танки, какие-то искореженные груды металла… Иногда в кинохрониках военных лет показывают кадры, снятые после боёв на Курской дуге. Очень похоже на то, что мы видели из окна своей теплушки. Теплушка была точно такой, в каких возвращались с фронта солдаты, сидя в проёме раздвинутых дверей вагона…
В пути мы, дети, лежали на нарах, прильнув носами к маленькому окошечку, толкаясь и ссорясь за лучшее место. Внизу взрослые варили обед на буржуйке. На станциях бегали за кипятком и за водой…
Нам нравилась такая кочевая жизнь… Всё было интересно и увлекательно. Я не помню, сколько дней мы ехали, но думаю, не меньше месяца…
В Ленинград приехали под вечер в середине мая. Город поразил множеством разрушенных домов, тёмными провалами выбитых окон, камуфляжной окраской зданий, битюгами, запряжёнными в телеги на резиновом ходу, пустыми улицами с редкими прохожими, сумерком белой ночи…
Приехали мы на старую квартиру, в которой жили до войны, ул. Красной Конницы (до революции и теперь – это улица Кавалергардская), дом 20, кв. 14. Наша комната оказалась незанятой. Мебель и рояль, закрытый клеёнкой, сохранились… Где-то я недавно услышала, что в городе сохранились рояли потому, что их невозможно было сжечь. Дерево было так обработано, что не горело в печках-буржуйках. Не хватало температуры разогрева для горения.
Квартира была на пятом, последнем этаже. Потолок протекал, на рояль капала вода, но клеёнка спасла его, он не пострадал. Мама очень дорожила этим роялем. Его прислали ей родители в Ленинград из Козьмодемьянска пароходом.
Первую ночь после приезда ночевали у тёти Лены Тольской, чья семья жила в той же квартире. Они вернулись из эвакуации раньше нас и уже обустроились.
В квартире было пять комнат, вдоль них шёл длинный узкий коридор, в конце которого была кухня с выходом на чёрный ход. В кухне – большая плита, облицованная кафелем, раковина для умывания, столики вдоль стен с примусами, певшими на разные лады. Позднее примусы заменились керогазами и керосинками. Они уже не пели, но коптили немилосердно!
Кроме нашей семьи, занимавшей одну комнату, в квартире жили: в двух комнатах семья папиного брата, Петра Андреевича, жена – тётя Лена – и два сына: Андрей и Сергей.
Тётя Лена, Елена Владимировна, урождённая Карцева, была из потомственных дворян. Играла на рояле, прекрасно шила, вышивала, чему учила и нас с Сергеем. В комнате рядом с нами жила бездетная пара: военврач Антонина Алексеевна Швецова и её муж, Иван Александрович Высоцкий, бывший солдат Преображенского полка царской армии. Отечественную войну он закончил в чине майора. Оба имели очень много наград. В войну 1914 года Иван Александрович был награждён Георгиевским крестом. Он тяжело и много пил. Мы, дети, прятались по комнатам, когда он входил в квартиру. Часто скандалил и бил Антонину Алексеевну…
Несчастный был человек, не сумевший определить себя в мирной жизни… Высокий, сутулый, очень худой. Он ходил всегда в длинной солдатской шинели и в сапогах.
До войны у них был сын, который умер от туберкулёза. Его детские игрушки и книги Антонина Алексеевна отдала нам, и мама очень волновалась, как бы мы не заразились, хотя и прошло много лет после его кончины.
В последней маленькой комнатушке, переделанной из ванной комнаты, напротив кухни, жили мать со взрослой дочерью. Обе некрасивые, маленькие, бесцветные, похожие на мышек. Я иногда заходила к ним в гости. Комодик, столик у окна, узенькие кровати, накрытые накидками, салфетками, связанными крючком из простых белых ниток. Даже на настольной лампе была ажурная накидка! Всё это белоснежное великолепие производило на меня огромное впечатление! У нас было проще: стол накрыт клеёнкой, тёмные резные шкафы, чёрный рояль, папин письменный стол из красного дерева, заваленный бумагами, диван, кровати, покрытые какими-то тёмными шерстяными одеялами. Никаких белых пятен! Всё тёмное. Даже свет от люстры был какой-то приглушённый.
Жили тесно и скудно. Кира спал на сундуке, я – с мамой на кровати, няня – в прихожей на топчане, папа – на диване. Постельное бельё было очень ветхое, застиранное и залатанное. Никаких пододеяльников – одни простыни.
Когда я уже ходила в школу и подружилась с Леночкой Поликарповой, меня совершенно потрясли белоснежная хрустящая накрахмаленная скатерть на столе и постельное бельё с кружевными прошвами!
Вся наша квартира когда-то принадлежала моему прадеду, Петру Андреевичу Тольскому. После его смерти там жил одинокий брат дедушки, Владимир Петрович Тольский. При «уплотнении», которое началось в 20—30-е годы, квартиру перепланировали: закрыли двери между комнатами, перегородили коридор. В неё въехал папин брат, Пётр Андреевич, с семьёй.
Детьми мы любили играть в тёмном закутке коридора, между двумя перегородками. Ставили стулья с высокими спинками, связывали их между собой, накрывали одеялом и играли в «паровоз». У каждого был свой вагон – стул. В вагон усаживались куклы, мишки, забирались мы сами. На первый стул садился «машинист», и… «Ту-ту!..» – поехали! Машинистами всегда были мальчишки, мне доставалась роль пассажира. Андрей катал нас на этом «паровозе» по всему коридору. Взрослые возмущались, ворчали, а мы были рады, что с нами играет старший брат!.. Помню, как Андрей ложился поперёк коридора, лупил ногами в стену и с упоением пел: «У попа была собака…» – а тётя Лена безуспешно пыталась его образумить!
В коридоре было постоянно темно. Очень экономили электричество. Лампочки везде были самой маленькой мощности. Соседи неукоснительно следили за тем, чтобы не забывали гасить свет в коридоре и местах общего пользования. Если кто-либо по рассеянности забывал это делать, поднимался крик и скандал!
Я очень боялась темноты, и меня всегда сопровождал кто-нибудь из взрослых в моих «вояжах» на кухню и в уборную.
После войны в городе было множество крыс. Когда на кухне зажигали свет, они прыгали с плиты, со столов и нехотя прятались по норам. Мне кажется, размером они были с кошку!
Отопление было печное. Внизу, во дворе, в подвале, у каждого был свой сарайчик. Мама договаривалась с дворником, он пилил, колол дрова и приносил нам на пятый этаж, когда нужно было топить печь. Жена дворника раз в неделю стирала нам бельё. На кухне растапливалась плита, кипятились громадные баки воды. Посреди кухни, на табуретах, ставилось корыто для стирки. Пар поднимался к потолку клубами, как туман, выползал в коридор. Сквозь испарения еле мерцала под потолком электрическая лампочка. Пахло щёлоком, сырыми стенами, на которых оседала и стекала влага. В тёплую погоду бельё сушили во дворе, зимой – на чердаке.
По утрам приходила с бидоном молочница. На Охте ещё держали коров. Это был отголосок XIX века, века А. С. Пушкина: «…с бидоном охтинка спешит…»
В городе соблюдался порядок старого, ещё дореволюционного времени: в одиннадцать часов вечера закрывались парадные подъезды и ворота во двор. Запоздалые жильцы звонили в специальный звонок к дворнику. Тот выходил и открывал двери. За это ему полагалось дать «на чай». По Петербургской традиции дворники, в основном, были татары. В семье нашего дворника была девочка, моя ровесница, с которой я играла во дворе. Мама считала, что это совершенно неподходящая для меня компания, не разрешала ходить к ней и не позволяла приглашать к нам. Я сердилась, плакала и скандалила. Зато теперь очень хорошо понимаю, что значит «человек не нашего круга», как часто мне говорила мама.
Мостовые в городе повсеместно были вымощены булыжником. Только на Дворцовой площади и набережных Невы был диабаз: гранитные стёсанные плитки, необыкновенно скользкие в мороз и в дождь. Тротуары были из плит размером 50 х 50 см из местного серого известняка. На них очень удобно было играть в «классики».
Город очень хорошо был убран: ни бумажек, ни окурков на мостовой и тротуарах нельзя было представить! Зимой дворники начинали чистить улицу с пяти часов утра. Мы просыпались под шарканье скребков и лопат. Снег грузили на большие фанерные листы и увозили во дворы, где над сливными люками стояли печурки для таяния льда; вывозили на пустыри, где он не мешал; сбрасывали в реки и каналы. В каждом доме было по несколько дворников: на Петроградской в нашем доме было три дворника.
Игрушек было очень мало. Мы копили фантики от редко достававшихся нам конфет. Особенно ценили фантики с печатными рисунками: от «Красной Шапочки», «Мишки на севере», «Мишки косолапого». У нас во время войны пропали все хорошие вещи, а ящик с игрушками сохранился! Там была помпа-водокачка, вагоны с паровозом, ослик на колёсиках с хвостом и гривкой из настоящего конского волоса.
Обязательно кто-нибудь дежурил ночью на улице. Зимой – в полушубке до пят. Их так и звали – «пингвины»! Совершенно не страшно было возвращаться поздно вечером после спектакля или концерта. В тулупах и валенках, переваливаясь, «пингвины» ходили вдоль своей территории, в пределах видимости друг друга. Если кому-нибудь почудится что-то подозрительное, один начинает свистеть, и пойдёт свист вдоль всей улицы!
В каждом доме выделялось помещение под дворницкую. Дворникам предоставляли служебную площадь. После войны это привлекало очень многих. Работали за гроши, но очень добросовестно и дорожили своим местом.
На ул. Красной Конницы (Кавалергардской), рядом с домами № 8 и № 22, были пустыри с грудой строительного мусора от разрушенных зданий. На Очаковской улице, за школой, стоял полуразрушенный дом, огороженный хлипким забором, который никого не останавливал, и дети со всей округи играли в нём в прятки, в казаки-разбойники. Среди мусора собирали разноцветные стёклышки и осколки фарфоровой посуды. Игрушек было очень мало. Мы копили фантики от редко достававшихся нам конфет. Особенно ценили фантики с печатными рисунками: от «Красной Шапочки», «Мишки на севере», «Мишки косолапого».
У нас во время войны пропали все хорошие вещи, а ящик с игрушками сохранился! Там была помпа-водокачка, вагоны с паровозом, ослик на колёсиках с хвостом и гривкой из настоящего конского волоса.
На Кирочной улице, рядом с Таврическим садом, стоит музей А. В. Суворова. В правое крыло здания попала бомба: башенка, внутренняя часть помещения были разрушены, а мозаичные картины чудом сохранились!
На углу улицы Красной Конницы и Суворовского проспекта стоит большой пятиэтажный дом, облицованный серым гранитом. Во время войны в нём был военный госпиталь. Александра Ивановна Поликарпова всю блокаду вместе с моей подругой Леночкой прожила в Ленинграде. Она рассказывала, что была свидетельницей, как в этот дом попала бомба и как раненые выпрыгивали из окон, горели заживо… После войны дом восстанавливали пленные немцы, которые там жили. Среди них были расконвоированные. Им разрешали ходить свободно по улице. Худые, серые от голода, они ходили по квартирам, помогали по хозяйству, продавали самодельные игрушки. Их жалели, кормили. Даже мы, дети, отдавали им свои завтраки.
Закадычным Кириным другом был Юрка Рядов, отчаянная голова! В детстве он катался на трамвае на «колбасе», сорвался, попал под трамвай, и ему отрезало ногу. Он так ловко орудовал своим костылём, что мы не понимали трагедии его положения и даже завидовали, когда он в два прыжка преодолевал лестничный пролёт или лихо съезжал вниз по перилам! Он прекрасно плавал и переплывал Неву возле Охтинского моста. Родители у него были очень сердечными, добрыми людьми, но сильно пьющими. Взрослые между собой говорили, что такого повального пьянства до войны не было. На фронте выдавали «фронтовые наркомовские» сто грамм, и народ привык к выпивке. Но конечно, были и другие, более глубокие причины этой беды.
Самое неприятное воспоминание послевоенных лет связано с еженедельными походами в баню. Огромные очереди стояли уже на улице. На каждый билет выдавали по маленькому кусочку серого мыла. В гардеробе холодно: одетые, голые, уже вымытые и распаренные, и только что пришедшие мыться – все вместе. Толчея, очереди за свободными шкафчиками, за тазами, номерки на руках. Очередь к крану, чтобы налить воды, очередь под душ… Картина совершенно соответствующая рассказу М. Зощенко «В бане»!
Кроме того, мама любила мыться, с моей точки зрения, очень горячей водой! Мыло попадало в глаза, я плакала и не могла дождаться момента, когда меня вымоют и можно будет постоять под душем!.. И почему-то постоянное чувство стыда за то, что ты – голая, а кругом чужие люди…
Со второго класса школы я уже перестала ходить в баню: у моей подруги, Лены Поликарповой, была ванна, которая топилась дровами, и я мылась у неё. Какое это было блаженство!
Ещё одна горькая примета послевоенного Ленинграда – инвалиды без обеих ног. Их называли «самоварами» Особенно много их было в районе Московского вокзала, на Лиговке. Они разъезжали по городу на деревянных подставках, у которых вместо колёс были шарикоподшипники, отталкиваясь от тротуара деревянными «утюжками». По пояс они были зашиты в кожаные штаны. Их плечи казались очень широкими, возможно, из-за непропорциональности фигуры.
Когда их убрали из города, я точно не помню, но думаю, где-то в 50 году. Их ночью вывезли в дома инвалидов, один из которых находился в монастыре на острове Валаам. Мама ездила туда на экскурсию и рассказывала, что была потрясена видом этих несчастных. Говорили, что люди находили там своих близких.
У Ю. Нагибина есть рассказ с подобным сюжетом, по которому был снят фильм.
Пронзительные воспоминания о жизни этих несчастных оставил театральный художник Кочергин, уроженец Петроградской стороны.
Безвозвратно ушли в прошлое и керосиновые лавки со своим неповторимым ароматом керосина, мастики для натирания полов, мочалок из лыка… В нашем доме, в подвале, была такая лавка: в полутьме стояли квадратные чаны с керосином, желтовато-коричневым, как подсолнечное масло; на прилавке лежали бруски мастики разных оттенков, которые продавали на вес. Продавец резал их тонкой верёвкой. Так же продавали и серое хозяйственное мыло, и разные хозяйственные мелочи, скобяные товары.
Последняя керосиновая лавка в Парголово, около железнодорожного переезда, закрылась в конце 90-х годов.
После окончания войны папа получил назначение на должность главного инженера картонной фабрики «Суоярви». Фабрика находилась на бывшей финской территории, под Петрозаводском, недалеко от границы.
Летом 1946 года мы приехали туда всей семьёй. Папе дали отдельный дом в посёлке, на берегу озера. Деревянные дома финской постройки с большой кухней, высокими потолками и большими окнами стояли на высоких фундаментах. Озеро весной сильно разливалось, и вода подступала к посёлку.
Озеро было огромное, с островами и скалистыми берегами, с корабельными соснами – типичный финский пейзаж! По озеру ходил маленький пароходик, оставшийся от финнов, на котором плавали на острова за ягодами и за грибами. Ездили больше ради прогулки и великолепной природы. В окрестных лесах, рядом с посёлком, было полно ягод и грибов. Места были глухие, заброшенные и после войны пустынные. Развелось много дичи, волков, выходили медведи. Как-то мы с ребятишками собирали малину. Раздвинули кусты и увидели в десяти шагах медведицу с медвежонком! Кинулись бежать кто куда! Кира почему-то решил спасать меня на дереве!!!
Недалеко от посёлка проходила линия Маннергейма. Встречались полностью оборудованные блиндажи и доты. Взрослые пытались нам внушить, что в них опасно лазать, могут быть мины… Но детское любопытство и легкомысленность побеждали чувство страха и самосохранения! Мы забирались в них и играли. Домой приносили разноцветные пульки, противотанковые снаряды, и даже противопехотные мины! Одну такую Кира спрятал в папин сапог. Обуваясь, папа обнаружил её, страшно рассердился и принялся нас разоружать! Под домом, около фундамента печки, у нас был целый арсенал боеприпасов!
Однажды мы решили проверить мощность противотанкового патрона. Няня топила плиту и варила обед. Я забралась на лежанку, как на наблюдательный пункт, а Кира бросил патрон в плиту… Ахнуло так, что поднялся чугунный верх плиты, а суп оказался на потолке!
Как-то летом нашли закиданный валежником мотоцикл, но взять побоялись. Рассказали папе. Папа с кем-то пошёл, взял его и ездил на нём.
Однажды мы решили проверить мощность противотанкового патрона. Няня топила плиту и варила обед. Я забралась на лежанку, как на наблюдательный пункт, а Кира бросил патрон в плиту… Ахнуло так, что поднялся чугунный верх плиты, а суп оказался на потолке!
В лесу ещё бродили финны. Ночами пограничники с собаками проверяли дома. Как-то ночью пришли и к нам. Мы с няней были одни. Папа уехал в Ленинград. Вошли двое с овчаркой. Всё осмотрели, даже под кроватями посветили фонарём. Я проснулась, испугалась. После их ухода долго обе с няней не спали, всё не могли успокоиться. Из посёлка мы переехали на хутор. Ближайшие дома были в полукилометре от нас. Кругом лес. Двери не закрывались, финны жили без всяких запоров. Папа тоже не счёл нужным сделать замки. Дверь на ночь завязывали на верёвочку. Няня очень боялась, не спала ночами и засыпала только под утро, когда рабочие шли мимо дома на утреннюю смену.
Всем руководящим работникам на фабрике были выданы пистолеты.
У папы был огромный чёрный браунинг. Папа, когда уезжал в командировку, оставлял браунинг няне. Няня торжественно прятала его под подушку, но боялась даже взять его в руки, не то что применить в случае необходимости!
Осенью Кира должен был пойти в школу, и они с мамой с целым арсеналом оружия уехали в Ленинград. Тол и патроны Кира спрятал на печной трубе в коридоре, а с парабеллумом явился в школу и устроил там стрельбу! К нам приехала милиция, пистолет забрали, а папа заплатил штраф в 300 рублей, что по тем временам были огромные деньги!
В Суоярви с папой остались мы с няней. Няня завела хозяйство: кур, поросёнка и щенка – Барбоса. Барбос был единственным щенком, которого удалось отобрать у немецкой овчарки. Она ушла весной с волками, вернулась щенной, щенилась в закутке под лестницей, никого к себе не подпускала и передушила всех щенков. Еле-еле удалось отобрать и спасти одного!
Барбос был головастый, крупный, с широкими лапами, тёмного окраса. Каким он вырос, не знаю. Мы его оставили в шестимесячном возрасте.
Зимой всё хозяйство перекочёвывало на кухню: вдоль стен стояли клетки с курами, поросёнку и щенку были постланы подстилки – одному около печки, другому у няни под кроватью. Вечером все укладывались по своим местам. Гасили керосиновую лампу… Только всё затихало, как щенок пробирался к поросёнку, и начиналась драка за тёплое местечко возле печки! Няне приходилось вставать, опять зажигать лампу и ремнём восстанавливать справедливость! Разгонит их по местам, ляжет, задремлет, и всё повторялось сначала!
Всем руководящим работникам на фабрике были выданы пистолеты. У папы был огромный чёрный браунинг. Папа, когда уезжал в командировку, оставлял браунинг няне. Няня торжественно прятала его под подушку, но боялась даже взять его в руки, не то что применить в случае необходимости!
Замечательным был процесс ожидания, когда какая-нибудь курица снесёт яйцо! Начиналось длительное кудахтанье, которое сочувственно подхватывало всё куриное семейство. Настораживалась няня, настораживался и щенок… Оба замирали в ожидании, но няня не могла безотлучно находиться на кухне, ей приходилось выходить из дома то за дровами, то за водой. Щенок был в более выгодном положении, он мог никуда не отлучаться! Поэтому чаще всего яйцо доставалось ему! Придёт няня, а Барбос уже доглатывает яйцо и умилённо виляет хвостом, прося прощения!
В 1947 году я пошла в школу № 163 на ул. Кирочной. Это было здание бывшей Мариинской гимназии, основанной в 1797 году императрицей Марией Фёдоровной. Первоначально она имела название «Сиротское училище для девиц», позднее – «Институт», переведённый в статус гимназии.
Огромные светлые классы, особенно уютные, когда солнечные зайчики прыгали по паркету, по партам, светили в глаза и манили на улицу; длинный коридор с натёртым до блеска паркетом; актовый зал с бардовыми бархатными шторами на окнах и таким же занавесом на сцене. Это был настоящий театральный зал с лепниной на потолке, на стенах, с хрустальными люстрами.
В нём проходили все школьные торжественные мероприятия: приём в пионеры, линейки, концерты, вечера, посвящённые каким-либо датам…
Отопление было ещё печное. В каждом классе была изразцовая печка-голландка, которая топилась из коридора специальным истопником. В самые суровые зимы и холодные осенние дни в школе было очень тепло.
Нашему поколению повезло. Культура XIX века была ещё жива. Школа сохранила традиции гимназии. У нас преподавали дореволюционные классные дамы. Лучше всех помню Зинаиду Ивановну. Она преподавала у нас математику. Старая седая дама, гладко причёсанная, худая, в длинной узкой тёмной юбке, светлой блузке, с неизменным жабо и брошью. Она плохо видела, носила очень сильные очки, была некрасива, с длинным носом и маленькими глазками. Мы побаивались её, но за глаза посмеивались над её чопорностью и неумением с нами справиться. Самое большое, на что она решалась, когда мы уж очень шумели на уроке, она брала линейку и стучала ей по столу!
Никакой беготни на переменах по школе нельзя себе было даже представить! Нас выстраивали ещё в классе попарно, и мы, взявшись за руки, чинно вышагивали за своей учительницей, как цыплята за наседкой! Иногда в тёплую погоду нас выводили в школьный сад, и учительница играла с нами в «воротики» (золотые ворота, проходите, господа…) и в какую-то игру с «душещипательной» историей о царе и его дочерях, которые по очереди тонули и воскресали! Вся история сопровождалась печальной песней, которую я забыла, но помню, что было что-то трогательно-слезливое, очень меня расстраивало и действовало на детскую душу!
В первый день занятий учительница спросила, не может ли кто-нибудь прочитать стихотворение. В школу я пошла уже умея писать, читать и, конечно, зная много стихов. Почему-то мне пришло в голову прочитать стихотворение Майкова «Весна»:
- Весна! Выставляется первая рама,
- И в комнату шум ворвался —
- И благовест ближнего храма,
- И говор народа, и стук колеса…
В классе наступило гробовое молчание! На лице учительницы был ужас и недоумение, она даже не похвалила меня, как хвалила всех. Что случилось, я не могла понять, но неловкость положения помню до сих пор!
Это было время, когда о Боге, о религии говорили только как о мракобесии. Дети читали стихи и пели песни о единственном «отце и учителе всех времён и народов», И. Сталине!
В одном классе с нами учились девочки из детского дома, который располагался в одном из флигелей школы, девочки-переростки, пропустившие из-за войны несколько лет учёбы. Эти девочки заканчивали 7-й класс уже совершенными барышнями, лет по 16–17. Однако таковыми себя не ощущали и вели себя как дети!
В седьмом классе у нас после урока физкультуры был урок Конституции, который вёл, как я теперь понимаю, довольно молодой мужчина. Переодевались мы в классе и каждый раз тянули время, чтобы сократить урок. Он терпеливо ждал, когда мы наконец оденемся. Однажды не выдержал, посадил нас и начал урок! Мало кто из нас успел надеть платье! Сидели в нижнем белье, прикрывшись фартуками. В те годы о колготках, шёлковом белье никто и не слышал! Носили батистовые шитые рубашки, чулки с резинками и разноцветные штанишки до колен, в основном голубого цвета. Отвечать к доске он вызвал Лену Закарян (из известной семьи скрипачей, впоследствии и она стала скрипачкой). Та вышла, спереди прилично прикрытая фартуком, а сзади сверкая небесного цвета штанишками! Никакого смущения, что мы полураздеты, мы не чувствовали. Мы даже не понимали, что надо бы стесняться своего положения, что перед нами мужчина. Для нас он был просто Учитель – существо бесполое!
В младших классах формы ещё не было. Школьную форму по образцу гимназической, дореволюционной формы, ввели в 1950 году. Она состояла из коричневого платья, чёрного передника для каждого дня и белого для торжественных случаев.
Это было время, когда о Боге, о религии говорили только как о мракобесии. Дети читали стихи и пели песни о единственном «отце и учителе всех времён и народов», И. Сталине!
После окончания войны у нас подрабатывала портниха, Наталья Ивановна.
Её дом разбомбили, все близкие погибли, и она за малую плату и за еду работала по домам, перешивая и ремонтируя бельё и одежду. Из старой маминой юбки и кофты она сшила мне шерстяную синюю юбчонку и зелёненькую кофточку. По тем временам это было очень прилично! Девочки из детского дома, да и многие другие ходили в школу во фланелевых стираных-перестираных, потерявших цвет платьицах. Многие были острижены наголо. В городе ещё было полно вшей.
Сменную обувь, как теперь, не требовали. В то время все носили калоши или ботики, которые надевались на туфельки. Калоши снимали в гардеробе и оставались в чистой обуви. По нашему климату это было очень практично, а дети не бегали по школе в сваливающихся тапках и меньше болели. Жаль, что в угоду моде эта обувь ушла из нашего обихода. За границей калоши носят и сейчас, конечно не такие, какие выпускались в то время.
Многие девочки из нашего класса пережили блокаду в городе. Маленькая, хрупкая черноглазая Валя Черникова пела в госпитале во время войны. В школе она выступала на всех концертах. У неё был сильный красивый голос, удивительно тёплого тембра.
Жили мы все очень по-разному: отдельных квартир ни у кого не было, но были комнаты, или даже две. Хуже всех жила наша круглая отличница Валя Голубева. У них с мамой был уголок в общежитии трамвайного парка, на улице Зайцева. В одной комнате, перегороженной простынями, ютились несколько семей. В их уголке стояла кровать и стол. Шкафов никаких не было.
В послевоенные годы моего детства, как бы ни относиться к государственной политике того времени, но дети не были брошены на воспитание улице. Кроме городского Дворца пионеров, в каждом районе работали районные Дома пионеров и школьников. Почти во всех организациях, на всех заводах, в научно-исследовательских институтах были свои, ведомственные, дачи и пионерские лагеря. Отдых детей был повсеместно организован и доступен по цене. Городские детские сады выезжали на дачи. Если не было своей, снимали частные дома.
Одно лето Александра Ивановна Поликарпова сдавала в Вырице свой двухэтажный дом детскому саду. На участке дополнительно была построена летняя кухня-веранда, туалет для персонала, детская площадка. Со второго этажа дома был оборудован спуск в виде брезентового жёлоба на случай пожара, по которому мы с Леной с удовольствием съезжали!
Сейчас многие говорят о «затхлой» атмосфере тех 60—70-х годов, о заформализованности детских организаций. Да, была политика, «руководящая роль КПСС», но в то же время и прививались высокие понятия – Родина, патриотизм, гордость за страну… Дети старались хорошо учиться – это было обязательным условием приёма в октябрята и пионеры. Детское тщеславие и стремление быть не хуже других в конце концов пригодилось и во взрослой жизни, превратившись в нормальное честолюбие, чувство долга и ответственности за порученное дело…
В политической ситуации, повзрослев, все разобрались! Кроме того, в основе коммунистических идеалов лежат библейские заповеди и сами по себе плохому не учат. Другое дело, как ими пользовались власть предержащие!
Народ в России и власть давно разошлись. Со времён Петра I все живут сами по себе. Между властью и народом идёт постоянная, иногда скрытая, иногда явная борьба – кто кого?..
Сейчас многие говорят о «затхлой» атмосфере тех 60-70-х годов, о заформализованности детских организаций. Да, была политика, «руководящая роль КПСС», но в то же время и прививались высокие понятия – Родина, патриотизм, гордость за страну…
Как бы ни ругали то время, но в тяжелейшие послевоенные голодные годы, когда ещё не были отменены карточки, детей в школах бесплатно кормили горячими завтраками. Нам часто давали говяжьи сардельки с картофельным пюре.
Таких вкусных сарделек теперь давно не делают! Ножей в школьной столовой не было: плотную оболочку сардельки прокусывали, и душистый сок брызгал фонтаном!.. В четвёртом классе завтраки для нас отменили, и мы стали носить с собой бутерброды. Чаще всего няня давала мне бутерброды с паюсной чёрной икрой, прессованной вместе с плёнками. Икра была плотной, вязкой, резалась кусками и липла к зубам! Я каждый раз, разворачивая завтрак, морщила нос: «Опять с икрой!» А мне так хотелось с сыром! Сыр в то время был гораздо дороже, и папа покупал его только с получки…
В школе была масса всевозможных кружков и секций. Все учителя-предметники вели кружки: физический, химический, литературный, математический, рукоделия, хоровой, фотографии, художественного слова, танцевальный, художественной гимнастики, легкоатлетический… Платным был только кружок обучения игры на фортепиано. В начале учебного года мы записывались чуть ли не во все! Совсем как в стихах Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота!..» Я ходила в танцевальный и мечтала о Вагановском училище. Однако мама быстро привела меня в чувство, сказав, что дочь-кривляка ей не нужна! Поплакала, поскандалила, но пришлось смириться, и я стала петь в хоре (почему-то вторым голосом!)… Занималась лёгкой атлетикой, снарядовой гимнастикой, фотографией…
Очень любила вышивать. У нас была чудная учительница рукоделия, мамина знакомая, Баркова (к сожалению, забыла её имя-отчество). Дома занималась музыкой с маминой подругой Верой Аркадиевной Коузовой. Своим упрямством я выводила её из себя! Почти каждый урок повторялась одна и та же сцена: с моей точки зрения, я играла какую-нибудь пьесу вполне прилично, а Вера Аркадиевна требовала, чтобы я повторила её ещё раз. Я складывала на коленях руки и заявляла, что больше играть не буду! Вера Аркадиевна сердилась, кричала, шлёпала меня по рукам и от возмущения плевала на пол! Тут появлялся Кирилл и ехидно подкладывал на пол газету! То же повторялось и на уроках моего двоюродного брата Сергея Тольского. После урока няня сажала Веру Аркадиевну обедать. Кирилл всегда старался подложить в хлебницу чёрствые корочки. Время было трудное, Вера Аркадиевна была человеком очень воспитанным и из деликатности брала именно эти кусочки! Мы же, по своей глупости, потихоньку потешались над ней…
Заниматься музыкой я бросила в седьмом классе, как только вышла из-под маминой воли, о чём очень теперь жалею…
Очень много гуляли по городу: Тверская улица, Таврическая, Потёмкинская, Шпалерная, Таврический сад и площадь около Смольного собора. Сейчас идут споры, была ли решётка и ограда между одноэтажными флигелями перед собором. Я совершенно отчётливо помню, что была. В этих флигелях люди жили после войны очень долго. В отдельно стоящем здании, в сквере, выходящем на площадь, был дом престарелых. Очень уютным и провинциальным было место за оградой монастыря, вдоль Невы. Набережной не было, каменистый низкий берег, широченная водная гладь и запах воды, смешанной с запахом дёгтя… Около Охтинского моста была деревянная пристань, от которой отправлялись теплоходы по Волге и небольшие водные трамвайчики в верховья Невы, в Невскую Дубровку, куда мы как-то ездили с тётей Леной… Мы прекрасно знали весь центр города! Исходили его пешком от Смольного до Дворцовой набережной, любовались архитектурой домов и дворцов.
Часто ходили в кино. Любимыми кинотеатрами были «Искра» и «Салют» на Суворовском проспекте, «Спартак» на Кирочной улице и «Октябрь» на Невском проспекте. Цены на билеты были мизерными, и мы ходили на все новые фильмы. После войны много показывали трофейных фильмов: «Индийская гробница», «Тарзан», «Пётр» с Франческо Галь в главной роли, «Лунная соната», «Девушка моей мечты» с Диной Дурбин, «Джон из Пинкин-джаза», «В сетях шпионажа»… В кинотеатры за билетами в первые дни показа были огромные очереди. На показы английских, французских фильмов стояли ночами! Были даже ночные сеансы. Особенно власти города любили давать в прокат в пасхальную ночь какой-нибудь иностранный фильм, вроде «Сети шпионажа», чтобы отвлечь молодёжь от церкви.
«Индийскую гробницу», «Леди Гамильтон», «Мост Ватерлоо» показывали, когда я была уже взрослой, но фильм «Тарзан», так любимый многими, особенно детьми, почему-то не повторяли…
В государственные праздники, 7 ноября и 1 мая, нам выдавали по 3 рубля, и мы их «транжирили» на резиновые расстегайчики, воздушные шары и мороженое, которое продавали вразвес.
В кинотеатры за билетами в первые дни показа были огромные очереди. Особенно власти города любили давать в прокат в пасхальную ночь какой-нибудь иностранный фильм, вроде «Сети шпионажа», чтобы отвлечь молодёжь от церкви.
На каждом углу стояла тётка в белом фартуке с тележкой в виде сундука на колёсах, торговала газированной водой и мороженым. Вафельную лепёшку вкладывала в металлический стакан с поршнем, сверху ложкой, смоченной в воде, накладывала мороженое, прикрывала другой лепёшкой и выдавала порцию нам в протянутые руки. Выдавалась ли какая-нибудь бумажка или салфетка, не помню… Мороженое держали за вафельные лепёшки и лизали со всех сторон. Съесть нужно было очень быстро, иначе мороженое таяло, текло по рукам и капало, в лучшем случае на ноги, а чаще всего нам на пальтишки!..
Любимым местом прогулок был Таврический сад. Весной и осенью по его прудам и протокам можно было кататься на лодках. Зимой заливали большой каток, были открыты тёплые раздевалки и прокат коньков. С крутого берега пруда ребятня раскатывала ледяную горку, с которой лихо съезжали на портфелях.
В пятидесятые годы, после отмены карточек, продуктовые магазины наполнились разнообразными деликатесами! В то время химическая промышленность не была развита так, как сейчас, – продукты готовились из натурального сырья по традиционным рецептам и технологиям. Колбасы варёные: любительская, телячья, языковая с мелким жиром, кусочками мяса и языка, какая-то слоёная из разных сортов мяса, свёрнутая в виде рулета… Докторскую колбасу разработали по приказу Сталина, чтобы подкормить народ после военных лишений. В её состав входили только высококачественные сорта мяса, сливки и яйца (об этом я недавно услышала по радио). Копчёные колбасы летнего и твёрдого копчения: сервелат, московская, советская… карбонады, шинка, буженина, ветчина с каплями застывшего желе; сыры твёрдые, унифицированные: советский, швейцарский, голландский, – которые резали не толще, чем папиросная бумага; сыры острых сортов: пикантный, рокфор – которые пахли так, что в транспорте приходилось объясняться, что это не от тебя, а от сыра!
Теперь от тех продуктов остались одни названия. Вкус совсем не тот. Особенно испортились сыры.
Папа с получки обязательно заходил в Елисеевский магазин на Невском проспекте и приносил домой что-нибудь необыкновенное! Он приучил меня к маслинам, острым сырам, сырым сосискам, которые сам и жарил. Сосиски скворчали на сковороде, брызгая жиром и распространяя аппетитный аромат на всю квартиру… Красный «кровавый» зельц с горчицей я с папой уминала за обе щеки. Кира, глядя на нас, кривил губы. А для меня папа был непререкаемым авторитетом во всём, и я разделяла все его гастрономические пристрастия!
Икра деликатесом не считалась. Её продавали килограммовыми металлическими банками и на развес из эмалированных корытец. Какой-то сорт чёрной икры в виде прессованных пластинок был дешевле сыра, и нам постоянно давали её на завтрак.
В овощных магазинах и на прилавках теснились ёмкости со всевозможными солёными и маринованными грибами разных сортов; пирамидками были выложены яблоки и апельсины, каждое завёрнуто в папиросную бумагу. Особой изысканностью отличались витрины Елисеевского магазина. В кондитерских отделах, куда мы с Леной заходили чаще всего, покупали, исходя из наших скудных финансовых возможностей, сливочную помадку, цветную помадку в форме разноцветных лепёшек, ириски, сливочную тянучку… Шоколадные конфеты в красивых фантиках доставались редко, фантики мы бережно хранили и выменивали друг у друга… Леденцы мама считала очень вредными для зубов, и их никогда нам не покупали. На улице продавали красных петушков на палочке, и няня угощала нас ими потихоньку от мамы. Папа очень любил восточные сладости, особенно ореховые рулеты и зефир в шоколаде.
Изобилие в магазинах не означало изобилия на столах! Жили очень скромно. Няня всё покупала на Некрасовском рынке. На рынке было дешевле, чем в магазинах…
Копчёную колбасу, буженину, ветчину, хорошую рыбу, конфеты покупали только для гостей. Нам, детям, не всегда и доставалось! За стол со взрослыми детей никогда не сажали – было не принято. Нас кормили до гостей, и мы должны были как можно меньше толкаться под ногами и обращать на себя внимание.
Детей в гости брали редко. Для нас устраивали детские праздники – ёлки, дни рождения… Детских праздников у себя дома не помню. Видимо, из-за тесноты, в которой мы жили, у мамы не было возможности всех нас собрать. Нас, довоенных троюродных братьев и сестёр, было семь человек. После войны появились ещё пятеро. Прекрасные ёлки устраивали у тёти Тоси Барановской, у Крюковых, у тёти Вали и дяди Коли Бычковых… У них была старинная фисгармония (маленький комнатный орган). Мама играла, а кто-нибудь из нас под её руководством переключал регистры… Каждый участник праздника должен был обязательно выступить: читали стихи, играли на рояле, устраивали представления, конкурсы. Подарки дарили очень скромные: сладости, самодельные ёлочные игрушки. У меня долго хранились негритёнок и балалайка, сделанные из грецкого ореха…
В дни зимних каникул мама водила нас на ёлку во Дворец пионеров (Аничков дворец), в Таврический, Юсуповский дворец. В Аничковом дворце, в одном из залов, устраивали катальную горку… Проводили много конкурсов, водили хороводы. Дети активно принимали участие во всех мероприятиях, а не сидели в зале на представлении, как стало теперь принято.
Очень часто, всегда с няней, ходили в цирк, не пропускали ни одной новой программы. В оркестре цирка играла на скрипке Ольга Валерьевна Загорная, жена моего дяди Юли Бычкова. Она доставала нам контрамарки и билеты.
Сияние огней, бравурная музыка, особый «аромат» цирка заставляли замирать сердце в предвкушении праздника! Слоны, тигры под управлением укротительницы Ирины Бугримовой, медведи Филатова, фокусники знаменитой династии Кио, воздушные гимнасты, от бесстрашных полётов которых под куполом цирка замирал весь зал. Вёл программу в течение многих лет руководитель униформистов, пожилой, совершенно лысый человек, с внушительной фигурой, прекрасной выправкой, видимо бывший атлет или гимнаст. Без микрофона он объявлял номера так, что его зычный голос был слышен и на галёрке! Клоун Карандаш с чёрненькой собачкой Кляксой, подражавший в походке и одежде Чарли Чаплину, славился на всю страну…
В интеллигентных семьях считалось обязательным покупать абонементы детям на детские утренники в театр. Мама «брала» ложу в Михайловский, Малый оперный театр или в Маринку (тогда Кировский театр оперы и балета).
Мечтала о булке с маслом…
Ивашкевич Наталья Павловна
Никогда в жизни я не испытывала такого чувства голода и такого наслаждения от крохотного засохшего кусочка хлеба, как в годы войны. Мы жили в эвакуации, я была еще ребенком. Помню, наедимся толкушки (толченых ржаных сухарей), заберемся с подружками на кровать, потушим свечку и в полной темноте слушаем радио – последние фронтовые сводки. А потом накроемся одеялом и мечтаем, как вернемся в Ленинград, как пойдем с мамой по Невскому проспекту и купим бутерброд из французской булки с ветчиной и обязательно со сливочным маслом.
И мы действительно вернулись после войны в Ленинград. Здесь к тому времени открылось много продуктовых магазинов, их называли коммерческими. И пошли мы с мамой, как мечтали, по Невскому, зашли в Елисеевский магазин, но купили не ветчину, а копченый язык – тогда это была модная закуска.
Постепенно прошел страх остаться голодной, хотя к хлебу я навсегда сохранила трепетное отношение. И я так рада, что жизнь не стоит на месте, что меняются гастрономические пристрастия, что появляются новые рецепты, что молодые стали не только жить, но и питаться по-новому. Поэтому желаю всем готовить вкусные и необычные блюда, такая возможность сегодня есть у всех!
Две недели растянулись на четыре года
Шервуд Михаил Алексеевич, 1937 г. р
Мне было четыре года, когда началась война. Отец вместе с несколькими мужиками залез в кузов полуторки, и они куда-то поехали. Мама держала на руках сестру. Рядом молча стояли женщины, провожающие своих мужчин.
Через много лет я спросил маму, почему они не плакали. Ведь позже, провожая на войну следующие призывы, кричали так, что на всю деревню слышно было. «Видишь ли, – сказала мама, – тогда „похоронок“ ещё не было, все верили, что через пару недель наши возьмут Берлин, восстанут немецкие пролетарии, установится советская власть в Германии». Как известно, немецкие пролетарии не восстали. Наши взяли-таки Берлин, это правда, только эти две недели растянулись на четыре года.
Деревня Юрьево Калининской области была небольшая. «Конзавод сто двадцать девок» – так называли во время войны Юрьевский конный завод № 129, потому что остались в нём только старики, женщины и дети. И двое мужчин: глухой и одноногий.
Мама работала учительницей в местной школе, а я нянчился с сестрой. Сестре было два года.
К осени начался голод. Помню, мама с сестрой на руках и я ходили на совхозное поле собирать оставшуюся там мёрзлую картошку. Немного, но находили. Какая же она была сладкая, какая вкусная! И капустные листья собирали, мама варила «серые» щи. Полугнилые зелёные капустные листья, мороженая картошка и вода. Иногда появлялась соль. Больше семидесяти лет прошло, а до сих пор помню. (Через много лет, когда я отслужил своё в армии, я вспомнил эти щи, и мама по моей просьбе сварила их. Без соли, из зелёных капустных листьев и картошки. Правда, мороженой подгнившей картошки не нашлось и зеленоватые капустные листья не подгнили. И без этого есть эту гадость было невозможно. Я отважно старался и не смог.) Мама пекла лепёшки из той найденной картошки. Их почему-то называли «самолётами».
Мама пекла лепёшки из найденной картошки. Их почему-то называли «самолётами».
Огорода у нас не было. Не помню почему, но не было. Весной сорок второго появился, стало легче. И ещё у нас были два эмалированных ведра, только у нас во всей деревне. У остальных были деревянные. Эти вёдра брала наша соседка, тётя Паня, пасечница. Мёд надо было сдать для фронта. В деревянные ведь мёд наливать не станешь. Потом из этих вёдер мама собирала около полутора литров мёда. Такое счастье было.
Михаил в 5 классе
С хлебом было плохо. По карточкам давали не всегда. Немцы разбомбили мельницу и элеватор. Потому хлеб был с камушками. Сразу за полторы недели дали так много, что лопнула старая авоська, в которой я нёс хлеб – почти две буханки. Килограмм 5–6, наверно. Буханка упала мне на большой палец ноги, и ноготь оторвался. Я еле-еле добрёл до дома. Ревел, конечно.
И ещё помню кашу из чего-то, не знаю. Надо было побрызгать водой изо рта на слой этого «сырья», состоящего неизвестно из чего, и растереть руками по столу. Потом понемногу загрузить в кипящую воду при перемешивании – и получалась эта каша. Мы называли её «каша жуй и плюй»: в ней было много шелухи, которую надо выплёвывать. Соседи называли кашу затиркой.
Осенью приехал в отпуск отец[6]. Их часть вышла из окружения, сохранив полковое знамя. Отличившихся, среди которых был и мой отец, наградили. Отец предпочёл ордену отпуск на несколько дней.
На нём была шинель странного серовато-жёлтого цвета, на пуговицах – две пантеры или леопарда с задранными хвостами. Мама потом объяснила, что шинели – английского экспедиционного корпуса, которые они побросали, драпая из Советской России в 1920, что ли, году.
Отец привёз несколько консервных банок с мясом, соль, сахар. И застрелил двух ворон. Они были тощие-тощие, им тоже нечего было есть, но суп был с мясом.
Потом родилась сестра Лена, прожившая всего около года: не было ни лекарств, ни фельдшера даже в ближайших деревнях. Ни разу до этого не слышал, чтобы так отчаянно рыдали, как рыдала мама, когда умерла Лена.
Отец привёз несколько консервных банок с мясом, соль, сахар. И застрелил двух ворон. Они были тощие-тощие, им тоже нечего было есть, но суп был с мясом.
Фронт подошёл совсем близко, а вместе с ним пришли волки. И дезертиры. Кто был страшнее, не могу сказать. Зима, есть нечего, и те и другие охотились на нас, как могли. Дезертиры заходили в избы, отнимали еду и тёплую одежду, насиловали женщин, избивали сопротивлявшихся. Помню, наш одноногий сосед зимой просидел всю ночь в уличном нужнике, а стая волков пыталась прогрызть стенку нужника. Хорошо ещё, сосед был в валенках и полушубке, не замёрз до смерти. Он орал, волки прыгали и выли, а люди боялись выйти, чтобы помочь. Мама потом сказала ему, что волки его только пугали, а есть не стали бы, потому что он дерьмо, а волки умные и дерьмом не питаются. А дело было в том, что, когда фронт подошёл близко-близко, сосед пришёл к нам и сказал, что, как только придут немцы, он сам повесит всех нас «вон на том суку». Потому что его, русского пролетария, съездил в ухо мой отец, офицер Красной армии.
К весне в деревне появился комендант. Не помню, как его звали. Демобилизованный по ранению офицер. Он ходил в синих офицерских галифе и полушубке. Вот на него напали дезертиры, когда он ехал в Сандово, районную деревню. Но он отстрелялся, умел, значит, это делать лучше, чем они.
Когда пришла весна, потом лето, стало легче. В лесу появилось много съедобной травы, листьев. Мы лазали по деревьям, собирая урожаи птичьих яиц, и с удовольствием их выпивали. Потом пошли ягоды, грибы. Мы так наедались.
У нас была корова Вольда. Я встречал её, когда стадо возвращалось вечером. Увидев меня, эта зараза сразу забиралась в крапиву, которая была выше моего роста. Я бегал вокруг и плакал от обиды и злости, пока не приходила мама.
Молока Вольда давала довольно много, но надо было сдавать фронту определённое количество масла, поэтому оно почти всё шло в сепаратор.
У нас была корова Вольда.
Я встречал её, когда стадо возвращалось вечером. Увидев меня, эта зараза сразу забиралась в крапиву, которая была выше моего роста. Я бегал вокруг и плакал от обиды и злости, пока не приходила мама.
А мы, в основном, пили обрат. Телят, которые появлялись у Вольды, надо было отводить в Сандово. Мама завела кур, свинью. Только и куриные яйца, курятина, свинина шли для фронта. Мы питались, в основном, картошкой, грибами, квашеной капустой и огурцами. Но их тоже надо было сдавать фронту. Или деньгами. С солью было тяжко. Отец оставил нам свой денежный аттестат, поэтому было на что купить соль. Правда, такой голод, как в первую зиму, ушёл.
Летом сорок третьего стали призывать на фронт семнадцатилетних. Ушёл на фронт соседский мальчишка, маленький такой, веселый. Через полгода он приехал в отпуск на пять суток с орденом Славы на груди. А через месяц его матери стали приходить похоронки: на мужа, старшего сына и младшего. Поочерёдно. Боже мой, как же она кричала!
Помню, почтальонша Галька каждый день ехала по улице на бедарке[7], и женщины в ужасе ждали, кому что она даст: очередную похоронку в конверте или солдатский «треугольник».
Похоронки приходили многим. Женщины кричали часто. К концу войны похоронки получили очень многие. Пришла и нам. Погиб мамин младший брат, командир взвода тяжёлых танков. Это было, насколько помню, через небольшое время после смерти сестры. Мама колотилась головой о стенку, стучала кулаками по столу и себя по голове. И буквально выла.
Я думал, она сойдёт с ума.
К тому времени мама решила, что её мама уже умерла от голода в Ленинграде. Что ей оставалось ещё думать? Да и отец писал не очень часто. Впоследствии оказалось, что бабушка и в самом деле умерла. Где похоронена, неизвестно.
Алексей Леонидович Шервуд
Мама была неверующая, но регулярно ходила с женщинами в соседнюю деревню, где была церковь. «Понимаешь, а вдруг Там действительно что-то есть, а мне нетрудно сходить, попросить, если кто-то есть, пусть поможет, чтобы всё было хорошо».
У меня был друг, Толик Смирнов по прозвищу Толя-Ваня. Им пришла похоронка, и его мама слегла. Это было весной сорок второго, самое жуткое голодное время. Он ухаживал за своей мамой, как мог. Но ведь четыре года парню, пятый. Нёс кастрюлю с варёной картошкой сливать воду и опрокинул её себе на живот. Когда он заорал от боли, его мама вскочила, сняла рубашку вместе с прилипшей кожей и тоже заорала. Моя мама побежала к ним помогать. А чем можно помочь, кроме как облить своей мочой и потом смазать льняным маслом? У Толи-Вани остался страшный шрам во весь живот. Он им потом хвастался: гля что у меня, а у вас нету.
Отец оставил маме кавалерийские галифе с кожаными леями, в которых она ездила зимой в лес за дровами. Женщины завидовали ей, у них таких толстых крепких штанов не было. Тогда женщины носили по несколько длинных юбок. Зимой до пяти-шести. Мама была ростом около метра шестидесяти, и, как она управлялась в лесу с брёвнами, представить не могу. Ездила в лес с такими же женщинами, валили вручную лес, пилили, укладывали в дровни, разгружали в деревне. Кололи, складывали в поленницы.
Приходилось мне валить лес лет через 17–19, я был, не хвастаясь, сильнее многих, но это тяжёлая работа для сильных мужчин. Как женщины с этим справлялись, ума не приложу. «Есть женщины в русских селеньях…» Да уж.
В сорок третьем я пошёл в первый класс и тогда впервые узнал, что моя фамилия вовсе не Воробьёв. Из-за небольшого роста моё уличное прозвище было Воробей. Потому я сам и другие считали, что моё прозвище – по фамилии, как это обычно бывает в русских деревнях.
Военно-полевой лазарет. Капитан ветеринарной службы Шервуд А. Л. в последнем ряду второй слева
Сразу за нашим домом была гора, под которой протекала речушка без названия. Около речушки был колодец, к которому ходили за водой. Зимой тропинка покрывалась льдом. Пока принесёшь домой пару вёдер воды, весь мокрый, потому что приходилось буквально ползти с ведром. Поэтому катались вниз на коньках, чтобы как-то разрушить лёд. Правда, помогало не очень чтобы. Настоящие коньки были только у меня – снегурки. Остальным делал из куска дерева и куска железа глухой конюх Галиуллин. Помню его фамилию, потому что отец после войны часто вспоминал его: тот был отчаянным лошадником, страстно любил лошадей, за что отец, тоже лошадник, его уважал и помнил.
В сорок четвёртом устроили серьёзную облаву на дезертиров. Со стрельбой. Ходить в лес стало спокойно.
Война подходила к концу, и однажды утром кто-то застучал в окно. «Верка, что дрыхнешь, война кончилась, победа!» Мама включила висевшую на стене «тарелку», и мы услышали торжествующий голос Левитана.
На улице все плясали, кричали. Комендант орал матом и стрелял из винтовки, потом из пистолета. Пока не расстрелял все патроны.
А потом мама чуть не каждый день ходила с женщинами на станцию Сандово встречать отца. Думала, он вот-вот приедет. Через станцию шли эшелон за эшелоном без остановки. На Дальний Восток, как потом оказалось. И шли эшелоны с бывшими заключёнными фашистских концлагерей. На вагонах было написано: «Позор предателям Родины!»
Отец приехал только в начале ноября. И увёз нас на Украину, где стоял его полк.
Малый ломтик большой войны
Хачиков Вадим Александрович, 1933 г. р