Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах Овчинников Всеволод
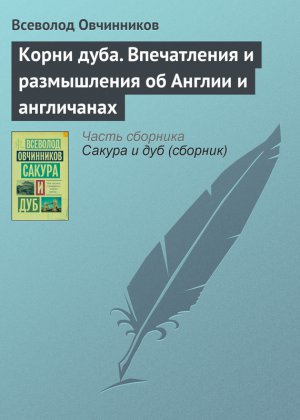
Умывальник без пробки и ванна без душа
Дело было в Лондоне в середине 70-х годов. Мы обедали в английской семье, которая собиралась в двухнедельную поездку по Советскому Союзу. Разговор шел о Москве, Ленинграде, Сочи, о том, что лучше всего посмотреть в этих городах за считанные дни. После пудинга, как водится, подали сыр, а потом пригласили гостей пить кофе к камину.
Улучив минуту, хозяин отвел меня в сторону и сказал, что хотел бы доверительно поговорить на одну щекотливую тему. Может ли он рассчитывать, что я, во-первых, правильно пойму мотивы его вопроса, а во-вторых, отвечу на него вполне искренне? Я, разумеется, кивнул, хотя и не представлял, что может последовать за подобным предисловием.
– Видите ли, – продолжал хозяин после нерешительной паузы, – мы с женой едем в СССР впервые. И все, кто там бывал, советуют нам непременно захватить с собой пробку для умывальника. Говорят, что в гостиницах у вас тепло, даже есть горячая вода. Но вот раковину затыкать нечем – так что ни умыться, ни побриться. Какого же диаметра везти пробку? Одинакова ли она в разных городах? И не подумайте, что нас пугают какие-то мелкие неудобства. Дело не в них, и каждый друг Советского Союза понимает, что всего сразу не напасешься: революция, война… Но почему пробок для ванн давно хватает, а с пробками для раковин дело так затянулось?
Умывальник без пробки. Сколько раз вопросами о нем меня ядовито донимали недоброжелатели, сколько раз недоуменно спрашивали о нем наши друзья! Сколько раз при публичных выступлениях и в частных беседах мне доводилось объяснять, что привычка умываться под струей воды – это не суровое наследие революций, войн, а национальный обычай, сложившийся с незапамятных времен, что еще задолго до появления водопровода у нас было принято поливать на руки из ковша или набирать воду в ладони из рукомойника. Именно поэтому, добавлял я, россиянин так же сетует в Англии на ванну без душа, как английский турист у нас – на умывальник без пробки. Останавливаясь в английской гостинице, всякий раз недоумеваешь: во-первых, как раздеваться при таком холоде, во-вторых, как сполоснуть ванну, если нет ни таза, ни гибкого шланга, и, в-третьих, как сполоснуться самому, если нет ни душа, ни смесителя – только краны с холодной и горячей водой.
Ночуя в английских семьях, убеждаешься, что это общее явление. В квартире, которую снял в Лондоне еще предшественник моего предшественника, домовладелец лишь после многолетних просьб установил в ванне душ с гибким шлангом. Однако умывальник по традиции не имеет смесителя, так что воду из двух кранов можно смешивать только в закупоренной пробкой раковине. А поскольку плескаться в умывальнике, как это делают англичане даже в гостиницах, поездах и общественных туалетах, я так и не полюбил, мне приходилось после бритья споласкивать лицо теплой водой из кружки. В отличие от нас англичане никогда не умываются под струей. Не имеют они обыкновения и окатываться водой после ванны, а прямо в мыльной пене начинают вытираться. Но еще труднее, пожалуй, свыкнуться с тем, что этот обычай распространяется и на мытье посуды.
Помнится, я был впервые поражен этим на дне рождения у одной лондонки. Когда гости встали из-за стола, хозяин объявил, что по случаю юбилея жены он сам соберет тарелки и бокалы. Мужчины из солидарности отправились за ним на кухню. По рукам пошел графин портвейна, начались анекдоты. Хозяин тем временем наполнил мойку, добавил в воду жидкого мыла, а потом принялся просто окунать туда тарелки, проводить по ним щеткой и тут же ставить их на сетку. Тогда я, грешным делом, подумал, что он, будучи навеселе, просто забыл ополоснуть посуду под краном, прежде чем высушить и протереть ее. Однако впоследствии убедился, что это было не случайное исключение, а общее правило. Именно так – и только так – моют бокалы и кружки, тарелки и вилки во всех английских пабах и ресторанах.
Умывальник без пробки и ванна без душа – лишь один из множества подобных примеров. Все они иллюстрируют непреложную истину: сталкиваясь за рубежом с чем-то необычным и непривычным, люди порой превратно судят о нем из-за инстинктивной склонности мерить все на свой аршин. Мораль сказанного выше, пожалуй, исчерпывающе выражена в известном четверостишии:
- Лошадь сказала, увидев верблюда:
- «Какая нелепая лошадь-ублюдок!»
- Верблюд подумал: «Лошадь разве ты?
- Ты же просто верблюд недоразвитый».
Чтобы познать чужую страну, нужно отказаться от привычки мерить все на свой аршин. Следует разобраться в системе представлений, мерок и норм, присущих данному народу. Эту мысль я уже высказывал, прежде чем делиться своими впечатлениями и размышлениями о японцах. И ее же хочется вновь повторить, приступая к рассказу об англичанах.
Национальный характер повсюду живуч. Но ни к какому народу это не относится в большей степени, чем к англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде патента на живучесть своей натуры. Такова первая и наиболее очевидная черта англичан. Стабильность и постоянство их характера. Они меньше других подвержены веяниям времени, преходящим модам. Если авторы, пишущие об англичанах, во многом повторяют друг друга, объясняется это прежде всего неизменностью основ английского характера. Важно, однако, подчеркнуть, что при своей стабильности характер этот составлен из весьма противоречивых, даже парадоксальных черт, одни из которых весьма очевидны, другие же – трудноуловимы; так что каждое обобщение, касающееся англичан, тут же может быть оспорено.
Материалистичный народ – кто усомнится в этом? – англичане дали миру щедрую долю мистиков, поэтов, идеалистов. Народ колонистов, они проявляют пылкую приверженность к собственной стране, к своему дому.
Неутомимые мореплаватели и землепроходцы, они одновременно страстные садоводы. Их любознательность позволила им познакомиться с лучшим из того, чем обладают другие страны, и все-таки они остались верны своей собственной. Восхищаясь французской кухней, англичанин не станет имитировать ее у себя дома. На редкость законопослушный народ, они обожают читать о преступлениях и насилиях. Являя собой воплощение конформизма, они в то же время заядлые индивидуалисты, и среди них полно эксцентриков.
Все это парадоксы, к которым, пожалуй, следует добавить еще один: при всей своей парадоксальности английский характер редко бывает загадочным и непредсказуемым. Его главные черты достаточно ясны, они проходят сквозь все классы общества и почти не поддаются воздействию времени.
Генри Стил Коммаджер (США). Британия глазами американцев. 1974
Я не пытаюсь утверждать, будто англичане никогда не менялись. Перемены происходят всегда. Но эти различия, столь заметные внешне, не проникают вглубь, до корней. К лучшему или к худшему, исконные черты английской натуры по-прежнему остаются неким общим знаменателем, оказывают глубокое влияние на национальный характер и общий стиль жизни.
Джон Б. Пристли (Англия). Англичане. 1973
Национальный характер во многом аналогичен языку. Грамматика и словарный запас являются общими для всех. Интонация, подбор слов, построение фраз у каждого человека в какой-то степени свои. Говоря о национальном характере, мы говорим о попытке выделить нечто подобное грамматическим правилам в области психологии, то есть общие побуждения, мерки представления. Национальный характер так же мало говорит о чертах отдельного человека, как грамматика – о личном стиле речи или письма.
Джеффри Горер (Англия). Исследуя английский характер. 1955
Ничего, казалось бы, не скрывает о себе Англия.
Ни в каких, казалось бы, выражениях не стесняется она, открывая свое лицо. И никто так не умеет смеяться над ней, как она сама над собой…
Но что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы, совершенно открытое чужому взгляду?
Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее, вернее, представить себе желательность того будущего, которое было бы не только наилучшим для нее, но и органичнейшим, отвечающим ее самым глубоким национальным корням…
Мариэтта Шагинян (СССР). Зарубежные письма. 1971
Капли на плаще
С чего начинаешь, впервые попав в чужую, незнакомую страну? Как губка, впитываешь впечатления, жадно ловишь звучащую вокруг речь. Пытаешься разговориться со случайными встречными: с попутчиком в автобусе, с соседом на садовой скамейке. Словом, окропляешь животворной влагой личных впечатлений сухие зерна заочных знаний о стране. Все это довелось изведать уже не раз. И до приезда в Лондон я был убежден, что процесс вживания пойдет в Англии быстрее, чем в Японии. Все-таки там, думалось мне, передо мной был куда более трудно постижимый мир, а уж насчет языкового барьера и вовсе не может быть сравнения.
И вот первая неожиданность, первое открытие: к английской жизни, оказывается, подступиться не легче, чем к японской, а может быть, и труднее. Это непросто объяснить словами: вроде бы постоянно находишься среди англичан, а непосредственного контакта с ними почти не имеешь. Кажется, будто вместо человеческих лиц к тебе повернуты спины. Как всякий новичок, спешишь погрузиться в английскую жизнь. Но, оказывается, это не так-то просто. Впечатление такое, словно на тебя надели скафандр, из-за которого, как глубоко ни опустись, все равно остаешься для окружающих инородным телом. Это как бы погружение без соприкосновения.
Волей-неволей убеждаешься, что в английскую жизнь нельзя разом окунуться с головой. Ею можно лишь постепенно пропитываться, капля за каплей, как намокает плащ путника под неторопливо моросящим английским дождем. Прежде всего понимаешь, что с англичанами не только невозможно разговориться на улице, но и трудно прислушиваться к их разговорам со стороны. Даже в густой человеческой толпе – на перроне вокзала или в театральном фойе – чувствуешь себя будто отделенным от этого скопления людей незримой звуконепроницаемой стеной.
Над английской толпой всегда как бы приспущена завеса молчания. Она приспущена не до конца, не настолько, чтобы превратить массовую сцену в кадр из немого кинофильма. И все-таки не можешь отделаться от ощущения, что какой-то невидимый звукооператор убавил регулятор громкости до каких-то минимальных и непривычных нам пределов. Эта приспущенная над английской толпой завеса молчания (или, на худой конец, полумолчания) особенно поражает потому, что люди вокруг отнюдь не молчат, а разговаривают друг с другом. Да, да! Дело не в том, что англичане немногословны (хотя это присуще им куда больше, чем другим народам). Дело в том, что эти островитяне разговаривают каким-то особым голосом: приглушенным, почти усталым. Они беседуют так, словно каждый из них в одиночестве выражает вслух собственные мысли. Мы, по-видимому, так привыкли без нужды повышать голос, что перестали замечать это. Когда, привыкнув к полубезмолвию английской толпы, вновь попадаешь на континент, например во Францию или к себе домой, ловишь себя на мысли, что человеческая речь режет ухо; люди кажутся излишне шумливыми.
Но вернемся к нелегкому процессу вживания. Торопишься слиться с уличной жизнью и вскоре задаешься вопросом: а существует ли она? Мало-помалу убеждаешься, что английская улица не живет сама по себе. Это лишь поток безучастных друг к другу людей, каждый из которых спешит на работу или торопится попасть домой. Английская улица не предназначена быть местом встреч, споров, свиданий или прогулок. Она не служит для того, чтобы развлечься, побродить без цели, побеседовать с приятелем, поглазеть по сторонам. Люди, которые собираются группами на тротуаре или праздно слоняются туда-сюда, мешая потоку пешеходов, привлекают неодобрительные взгляды.
Англичанин молчаливо шагает по своим делам, словно не замечая уличной толпы, не являясь ее частью. Никогда не увидишь, чтобы он обернулся, проводил кого-то взглядом. Отчасти потому, что незнакомцы не существуют для него, отчасти потому, что это было бы недопустимым вторжением в чужую частную жизнь. Считается, что улицы существуют не для человеческого общения, а для того, чтобы без помех добраться из одного места в другое. Поэтому попытка вступить в разговор с незнакомым человеком на улице, на взгляд англичанина, столь же неуместна и даже антиобщественна, как попытка завязать флирт с водительницей соседней автомашины на перекрестке перед светофором.
Английская улица – это лишь русло, по которому протекает жизнь, ибо англичанин живет дома, а не на людях. Причем даже на людях он умудряется охранять собственное одиночество и сохранять одиночество других. Если четыре англичанина входят в пустой вагон, они инстинктивно рассядутся по разным купе. И каждый новый пассажир непременно обойдет весь вагон, прежде чем решится подсесть к кому-либо из них.
Находясь на людях, англичанин способен мысленно изолировать себя от окружающих. Сотни незнакомых людей ежедневно обедают вместе в одних и тех же закусочных. Но даже если соседи по столику знают друг друга в лицо, отчужденность сохраняется. И когда один из них просит другого передать ему соль или горчицу, голос его столь же безукоризненно вежлив, сколь холодно безразличен. Соседство с незнакомым человеком не стесняет англичанина. Но уже самим тоном обращения к нему он как бы отстаивает свое право на одиночество среди других людей.
Куда ни кинь, а Британия – это царство частной жизни, что заведомо ставит приезжего в невыгодное положение: он чаще видит перед собой ограду, чем сад, который она обрамляет. Впрочем, в этой изгороди, скрывающей от посторонних взоров частную жизнь загадочных островитян, есть, пожалуй, две отдушины, позволяющие наблюдать их как бы на воле, будто львов в вольерах Виндзорского зоопарка. Первая из этих отдушин – английский парк. Вторая – английская пивная, или паб.






