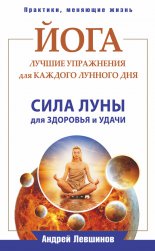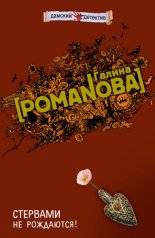Такая роковая любовь. Роман. Книга 1 Поддубская Елена
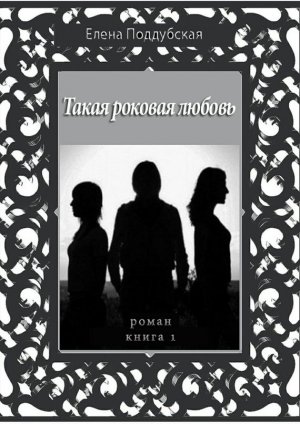
– В Калинки! – Иван даже выдохнул от того, что наконец-то нашелся хоть кто-то, способный прекратить поток болтовни, льющийся на них.
– У нас дети дома одни остались, – добавила Надежда, объясняя.
– Тогда не буду мешать вам, —Анна глянула на золотые часики на руке и наклонилась за маленьким чемоданчиком с вещами, – У меня автобус на Серебрянку через пятнадцать минут. До свидания. Приятно было познакомиться.
– А разве её деревня нам не по пути? – очнулась от паузы Лариса, посмотрев на Ивана, как на старшего.
– Не совсем. Хотя, там всего-то два километра от Калинок. Если хочешь, можешь с нами поехать. – Иван предлагал привычно по-деревенски, без официоза.
– Нет-нет, спасибо! – поспешила отказаться Анна. Отчего-то неудобно было стоять радом с новыми знакомыми, особенно с Иваном, которого девушка заочно считала очень строгим.
– Чего это за «спасибо»!? Поехали с нами, не выдумывай! Два километра ведь всего, они тебя потом подбросят до твоей деревни; правда ведь, Коля? – Лариса решила за всех и потянула жениха за локоть. Николай мыкнул и мотнул головой.
– Подбросят! – не дожидаясь окончательного согласия муже, поспешила заверить и Надежда. Ей хотелось поскорее добраться до дому, пусть даже потом Ивану и пришлось бы делать лишние километры. Она первой двинулась с места. За ней пошли остальные.
– Ну как тебе, Вань? – еле слышно спросила Надежда, оторвавшись от молодежи на несколько метров.
– Красивая! – коротко отозвался Иван.
Надежда вздохнула:
– Да с лица-то воду не пить! В общем как? – ей хотелось, чтобы муж тоже увидел, что Николай поторопился с выбором невесты. Но Белородько повторно похвалил Ларису:
– Умеет, видать, за себя постоять!
– Так ведь масквичка! – в голосе Надежды сквозило неприкрытое презрение; опять эта столица с её издержками. Но и тут Иван не угадал настроения жены и произнёс, восторгаясь:
– Масквичка! Не отнять!
– То-та и оно, – тяжело выдохнула Надежда, словно осуждая Ларису именно за это. На ходу она подумала, что мужики все одинаковы: кидаются сначала на стройные ножки и смазливые личики.
«Что Коляня в ней нашел? – сожалела Надежда, уже сидя не переднем сидении машины, – Ноги в штанах болтаются. Плоская вся, как вытертая на стиральной доске. Рёбра торчком. Голова обесцвечена, волосы вздыблены лаком; пацан, да и только. Вон, даже макушка торчит не хуже чем у моего Ваньки, – Надежда внимательно осмотрела вечный гребешок на темечке мужа так, будто давно не видела, а затем снова принялась за приезжую, – Красивая, конечно. Но токо красота у ней какая-то… такая после сорока одним махом сотрётся. Коляня не понимает, думает она всегда стройная и молодая будет. Погоди ещё: родит, так может и вовсе оплывёт. Как моя напарница Райка. Тоже была – вилка в профиль. А после деток откуда чё пошло-полезло? Теперь одного со мной коровьего размера.»
Надежда снова вздохнула: после матери и её самой, новая женщина пришла и претендовала теперь для брата на роль первого друга. Смириться с её появлением было не так-то легко. И противостоять подобному эгоизму не могла ни одна из женщин. Он проявлялся в изначальном отторжении той другой, что стремилась отрывать мужчину от привычной до этого семейной среды. Какая из них сможет безоговорочно и безосудительно потерпеть перекраивания новой родственницей жизни близкого мужчины? Какая спокойно станет смотреть, как та командует им, привязывая к себе на том самом тонком подсознательном уровне, что так легко узнаваем? Почему? Да потому, что даже на самой первой стадии знакомства так ведёт себя любая. Действуя по абсолютно идентичной схеме. Считая одну только себя правой. И даже не догадываясь, сколько осуждений и противоречий вызывает у окружения избранника.
Надежда обо всех этих женских «защитных рефлексах» не знала, но незнание не мешало ей проявлять их теперь в самом неприкрытом виде. Вот почему, успокоившись на какое-то время, позже, она вновь принялась мысленно распекать Ларису.
«А оделась-то как! Зелень с грядки! А через дырки майчонки и лифчик виден, и даже соски, потому как и лифчик у нее весь в дырочку. И где токо такую одёжу шьют? Безобразие! Надо будет сказать Коляне, чёб попросил её такую майку не носить. В деревне на её голые соски не то чтобы мужики головы повыворачут, все кобели выть начнут. Ванька-то мой, бесстыдник, так туда глазками и шарил, и шарил… в дырочки ети. Вот беда ещё привалила! А ежели не Ванька, то Егорка точно пялиться станет. У него и так раннее развитие из-за акселерации, о которой все вокруг талдычут. Не, надо Коляне намекнуть про мальца. Ни к чему ему стрессы с раннего детства. Пусть на деревенских девахах постепенно учится. А в моём доме совращать ребёнка дырками на лифе не надо».
Безучастная к разговорам на заднем сидении, Надежда всю дорогу провела в причитаниях. И только когда машина въехала в Калинки, отвлеклась и стала показывать достопримечательности деревни.
Если Серебрянку все считали деревней, и иначе как деревней никто назвать и на мыслил, Калинки, будучи изначально такой же мелочью, в последнее время разрослась до поселка городского типа. Теперь Калинки стала не только больше, но и современнее и Серебрянки, и Кокошкино – деревни ниже Калинок по речке.
Не без содействия опять же Ивана, председатель совхоза добился, чтобы в Калинках и клуб отстроили побольше, нежели в других деревнях, и, отдельно при клубе, был кинотеатр. Имелись здесь детсад и восьмилетняя школа, продуктовый магазин, почта. На правах населённого пункта районного масштаба, в центре Калинок совсем недавно был построен Дом быта. Там восседал районный терапевт, а скоро должен был открыться зубной кабинет. Были в Калинках свои больница, автовокзал, сберкасса… Одним словом, поясняя Ларисе где и что, Надежда гордилась, что и у них жизнь течёт не хуже, чем в городе.
На её рассказ Лариса отвечала рассеянно. Невозможно было понять нравится ей или нет.
– Ты чё такая квёлая? – заметил Николай состояние невесты.
– Я не квёлая, я уставшая. А что это ты по-деревенски заговорил? – вопрос прозвучал с упрёком.
– Так ведь я в деревне сколько лет прожил! – смутился мужчина замечанию, ставя ударение в последнем слове не там.
– Ну так, ведь ты и в городе уже сколько лет прожил! – поправила Лариса, – Успел бы и отвыкнуть.
– А что, Лариса, не нравится тебе, как деревенские говорят? – В усмешке Ивана прослушивалась обида. Развернувшись на полном ходу, он глянул на девушку.
Лариса растерянно уставилась на уши Белородько, заросшие волосами, как мхом.
– Я не про то, Иван Родионович, – девушка постаралась уважением загладить оплошность, – Я так думаю, что по-деревенски люди начинают чокать уже в возрасте. По привычке. А у таких, как у Коли: молодых, поживших в городе, это странно слышать.
– А вот и не так, смею заметить. Надюха наша, даром что молодая, по-деревенски знаешь как щебечет! – Иван подмигнул и засмеялся.
– Ох! Дивитесь на него, на городского! – толкнула Надежда мужа в бок, – Сам-то, поди, тоже можешь и чокнуть. Даром, что с умными людьми знаесся.
– О-о! Обиделась! – От резкости ответа Иван отодвинулся. Машину мотануло. На фоне их перебранки Лариса продолжала тушевать собственную неловкость:
– Все это так. Про Надежду и речи нет: она здесь постоянно живёт. А Коля-то ведь сколько лет в Москве провёл; должен был ведь уже отвыкнуть.
Николай усмехнулся в усы:
– Как видишь – не отвык.
– Во всяком случае, я от тебя до сих пор не слышала деревенского говора. – уступать девушка, похоже, не любила. Кравцов пожал плечами:
– Это потому, что мы с тобой мало знакомы.
– Неправда. Это просто пока ты здесь, ты решил по-свойски объясняться. Между прочим, меня это не коробит, – добавила Лариса, противореча себе самой, – Я только одно знаю: в Москве ты так говорить не станешь.
– А если стану? – в глазах Николая заблестел розыгрыш. Почему-то сейчас нравилось собственное бахвальство. Лариса уверенно отказалась воспринимать такую игру:
– Глупости! Анка же вот не стала, а тоже в деревне живет. Так чего бы ей не чокать? А ведь не чокает!
Затронутая темой разговора, Анна повернулась от окна. Она сидела за Иваном, Лариса – за Надеждой. Переговариваясь, подругам невольно приходилось вести беседу через Николая. Стесняясь смотреть на молодого мужчину, Анна всю дорогу старалась молчать. Но, обратив к подруге удивлённое лицо, мельком заметила теперь в глазах Николая интригующий вопрос и ответила почти безразлично:
– Я в деревне всего ничего живу, Лариса.
Анна снова отвернулась. Ей достаточно было уже того, что из-за тесноты в машине, она прижималась к ноге мужчины полуприкрытым бедром. Шёлковая ткань скользкой юбки то и дело съезжала набок, обнажая круглые колени Анны, не видеть которых Кравцов не мог. Не желая показаться любопытным или, ещё хуже, проявить интерес более обстоятельный, нежели того полагал этикет первого знакомства, Николай всё-таки всю дорогу ломал себе голову. Кто эта Анна? В последнее время столичные жители паломнически скупали в области земли для постройки загородных резиденций.
«Эта, наверно, тоже из них». – Николай, хотя и отодвигался от незнакомки, избежать прикосновений не мог. Сквозь тонкую ткань её платья он четко чувствовал форму белья. От этого было неловко: как если бы девушка сидела рядом раздетая.
Кое-как дотерпев до конца пути, Николай поспешил распрощаться, отказывая свояку проехаться до Серебрянки.
– Поезжай, Иван, сам. Быстрее дело будет, – спровадила мужа Надежда. Расцеловав по очереди ребятишек, вываливших в ожидании на улицу, она сразу успокоилась, – Мы пока на стол соберем.
Машина пыхнула и уехала.
– А она знает где ваш дом? – спохватилась Лариса, глядя машине вслед. Она вспомнила, что не дала подруге точного адреса.
– В деревне все всё знают, – успокоил Николай.
Теперь, когда Анна уехала, Кравцов понял, что будет рад завтра вновь увидеть её.
Глава третья: Подготовка к вечеру
Как не пытался Иван Белородько придать предстоящему семейному торжеству как можно менее огласки, весть о возвращении Николая в дом с будущей молодой женой мигом облетела всю деревню и поимела соответствующий резонанс. На следующий, после приезда Ларисы, день не успела Надежда зайти в поселковый магазин, как навстречу ей кинулась Савельевна, одна из вечных окружных сплетниц. Мало кто из жителей деревни, даже старожилов, помнил настоящее имя этой старухи. Оно, забытое в послевоенные годы, когда, молодая тогда ещё женщина, потеряв на фронте всех ближних и сама побывав в плену, вернулась в родную деревню и стала заново непросто налаживать одинокую жизнь, так уже и не было найдено. Согобленная горем и одиночеством, первое время жила Савельевна отчуждённо, была не особо приветлива. До тех пор, пока не приглянулась калеке-бобылю из соседней деревни.
Они сошлись, отпаивая этим союзом свои раны: душевные и физические. И тогда Савельевна расцвела и раскрылась во всей своей бабьей красе. Была она по натуре общительной и на разговоры охочая. А кроме того память имела такую, что любой бы позавидовал. Вот за память и за умение ладить с людьми и попала однажды на пост секретаря совхозного Правления. Машинописи обучилась наскоро, а грамотой Савельевна и до того владела, отчего на своем месте казалась вечной и незаменимой. По долгу службы и по зову сердца шли к Савельевне односельчане, а она всем старалась угодить. Всем была бы хороша деревенская секретарша, если бы не её длиннющий язык. Привыкнув на работе знать всё про всех и нередко первой доводить до сельчан новости, принятые в районе, уйдя на пенсию Савельевна не только не отвыкла от прежней роли. Словно скучая, бабка превратилась в настоящее деревенское справочное бюро. Она знала всё и про всех и, как и прежде, в беседе не отказывала никому. Если нужно было спросить кто из трактористов накануне посева не спал до рассвета, прогуливаясь по весеннему теплу с девчатами, или же у какой коровы приключилась животиная болезнь, чтобы не опростоволоситься с закупкой молока, непременно шли к Савельевне. Она была в курсе дела одной из первых. Люди злились на неё за болтливость, но, как в любой деревне, в любом сложившемся за долгие годы коллективе, без таких, как Савельевна обходиться не могли и жизнь свою не представляли. Виновники очередных проделок, выставленные на свет осведомлённостью бабки, не раз вслух грозились оторвать ей язык. Но потом отходили и сами же в следующий раз бежали к старухе за информацией. В-целом, её любили и даже уважали, так как об источниках своего уведомления Савельевна никому не докладывала, отговаривалась тем, что знает, и всё.
Увидев в магазине любопытную старуху, Надежда вздохнула: редко кому в деревне удавалось скрыть что-либо от въедливой Савельевны.
– Слава богу, Надюха, Коляня домой вернулся после стольких-то годов мытарства! – заметив Надежду пробасила бабка на весь магазин своим низким тугим голосом.
– При чем тут бог, Савельевна? – осадила Надежда, сразу же поняв, что и в Калинках, и в Серебрянке, где жила Савельевна, а то может уже и в Кокошкино, про приезд брата знают.
– Эх, жаль что родетели-то его не дождались! – пропела бабка душещипательным голосом, не отвечая на вопрос, и даже успела поднести к глазам край косынки, приспущенной с головы на плечи.
– Хорош голосить! Не на погосте, – резко успокоила Надежда её страдания, – Коляня в гости приехал. Ни о каком возвращении речь не идет. У него ведь работа в городе.
Вставая в очередь, Надежда пояснила это немногочисленным покупателям магазина и уткнулась в записную книжицу.
Зорко глянув на купленные четыре бутылки водки, Савельевна, на время отошедшая, вновь пустилась в разведку:
– А что, Надюха, правда ль, нет, что сёдни вы свадьбу Коляни празднуете?
– Нет. – Надежда отмахнулась от надоедливой старухи, аккуратно засовывая бутылки в полиэтиленовый пакет, а пакет ставя в сетку.
Но старуха не унималась:
– А кака девчина-то, говорят, красивая у него. Неужто с самой Москвы подхватил?
Надежда, догружая сетку другими продуктами, съязвила:
– Подхватить, Савельевна, можно токо лишай или ветрянку.
Селяне в магазине дружно захохотали.
Савельевна, тоже посмеявшись, всё-таки не отвязалась:
– А ну да, ну да… Но токо чего же ты, Надежда, молчишь? Неужто, говорю, с самой Москвы Коляня наш деваху привез?
– С самой, – ответила Надежда в тон Савельевне, ставя ударение на второй слог, и поторопилась расплатиться.
– О как! – произнесла Савельевна со значением, подняв палец к небу, – А чё ж, тоды, вы её никому не показываете, коли с самой Москвы?
– А чё она: зверь в зоопарке или кобыла продажная, чёб её по деревне под уздцы водить? – Уже отходя к двери Надежда вызвала у присутствующих очередную волну смеха. Понимая, что вот-вот останется ни с чем, Савельевна совсем обнаглела:
– Надюх, а можно я вечером зайду к вам её поглядеть?
– А это ты, Савельевна, у моего мужа наперёд попытай, – посоветовала Надежда и вышла из магазина, усмехнувшись разочарованному вою бабки. Она прекрасно знала, что спрашивать у Белородько такое не решится никто.
Рассказав про случай в магазине мужу по телефону, Надежда попросила его перед обедом заехать за молодыми в Серебрянку и привезти их в дом на машине. На вторую половину дня Иван с работы отпросился. В начале августа, пока на полях стоял относительный перерыв: яровая пшеница еще не дозрела, а поля, пущенные под чистые пары, уже перекопали и удобрили, Иван мог позволить себе подобный отгул в полдня. Он знал, что через неделю другую начнется жатва, за ней сенокос, а там уже вскоре и озимые пойдут под посев. Вот тогда до самой матушки-зимы не будет у него ни одной свободной минутки ни для себя, ни для семьи. Теперь же приезд Николая пришёлся как нельзя кстати и стал поводом для короткого отгула. Оттого радостный, Иван пошутил:
– Ты, Надюха, чего их пасешь? Молодые – они и есть молодые. Пусть бы и пешком по нашим дорогам прошлись бы. Ничё бы им, поди, не сделалось.
– Да-да, ты надоумишь, – Надежда перешла на фальцет, – Кады пешком пойдут, так к им точно деревенский бабсовет во главе с Савельевной липнуть станет да дурацкие вопросы задавать. Срамоты потом за нашу простоту не оберёсся, – изложила Надежда свои доводы. Говорила она это тоном, не терпящим возражений, ибо, при всей простоте, могла, когда того требовалось, крепко закрутить гайки любому. Опыт жизни с главным агрономом района и положение одной из первых дам поселка даже обязывали к этому.
Не желая дальше спорить, Иван пообещал исполнить просьбу жены, но тут же добавил.
– Я только не понимаю, чего и вправду Ларису прятать. Боишься, что сглазят?
– Тю ты! Нашёл что придумать.
Вдаваться в подробности Надежда не стала. Отчего-то ей заранее было неловко перед деревенскими за выбор Николая.
«Нашим бабам только попади на язык, вмиг невинного ославят», – решила Надежда. Подсознательно она не причисляла Ларису к святым и ещё оттого опасалась за её публичные смотрины. Надежда знала, как злословили деревенские бабы по поводу вчерашней спутницы Ларисы – Анны. И хотя за те два года, что Анна жила в деревне, ни с кем из деревенских или даже окружных мужиков она не прославилась, её, всё едино, недолюбливали и при появлении на улице косились на неё и сплетничали.
«Когда наши бабы узнают, что Лариса и Анна знакомы, то точно рядом поставят».
Непонятно почему Надежда волновалась. К тому же, после высказанной вчера брату просьбы насчёт одеяния гостьи, Надежда боялась как бы Лариса, на зло ей, не вырядилась и того похлеще.
К её радости Лариса в этот день явилась в их дом в длинных, закрывающих бедро, джинсовых шортах и простой трикотажной майке безо всяких дырочек. Пообедав, она охотно принялась за помощь к ужину и оказалась на кухне не чуждой работы. Надежда, беспрестанно выбегавшая то во двор за яйцами, то в огород за зеленью, то на улицу присмотреть за ребятишками, беспрерывно давала Ларисе одно за другим поручения, с которыми та успешно справлялась. Она практически одна накромсала огромный таз нарезки для окрошки. Потом, вместе, они разделывали кур, готовя их к жарке на сковороде, фаршировали чесноком и ставили под маринад баранью тушку для запекания на вертеле; мыли зелень и овощи и складывали их в большой эмалированный таз.
Николай и Иван всё это время копошились в сарае, налаживая перегородку для телёнка.
– Здоровый он уже вымахал. Того и гляди на мать полезет, – объяснял Иван по поводу теленка, одновременно прикручивая к стене крепёжные петли для навесной двери. Его руки, переплетённые мышцами, как жгутами, ловко подхватывали нужные инструменты.
– Ну и пущай лезет, тебе что жалко? – пыхтел в это время Николай под тяжестью толстых деревянных бревен, которые предстояло вкопать в пол.
– Не жалко. Но пока рано ещё ему, – рассудительно пояснил Иван, утираясь от пота, – Да и корове от отёла отгуляться надо. Раньше осени нельзя. И потом, этот молокосос ей не пара. У ней свой бык есть, семенной! Знаешь какой бычара! О-го-го! – Иван восхищенно протянул и тут же продемонстрировал рукой ту часть бычьей мощи, что приводила его в изумление.
Николай усмехнулся:
– Понятно. Сыпь уж давай землю-то, – попросил он, поддерживая бревно, вставленное в заранее выкопанную яму.
Иван быстро засыпал яму землей, и вдвоём они притоптали её вокруг. Затем, попробовав работу на прочность, принялись за установку второго бревна. Установив и засыпав и это, Иван предложил:
– Слышь, братка, давай, что ли по маленькой начнем? – он щёлкнул пальцем по горлу.
– Так ещё же доски к бревнам приколачивать. И дверь навешивать, – засомневался Николай. Иван отмахнулся:
– Брось! Это я уже и сам потом сделаю. В кои-то веки ты приезжаешь да ещё не просто так, а по поводу. Давай начнем!
Поняв, что это скорее просьба, Николай согласно махнул.
– Только по чуть-чуть, чтоб до вечеру не расклеиться. А то по такой жаре шарабан мигом поплывет.
– А я кваску холодного из подпола захвачу, – засуетился Иван и выскочил из сарая. Из дома он вернулся в полном вооружении: при бутылке водки, двух стаканах, булке мягкого деревенского хлеба и кувшинчике кваса.
– Ты как это, Иван, умудрился мимо Надюхи проскользнуть со всей этой артиллерией? – подивился Николая, хорошо знакомый с бдительностью сестры на счёт выпивки.
– Прям, скажешь тоже, «умудрился». У нашего «КПП» и муха по плацу не проползёт незамеченной. По другому бы разу, не миновать мне трёпки. Но нонче – дело другое. Нонче она из-за тебя раздобрилась. Тоже радая, что братан приехал.
Глядя на довольное лицо родственника, Николай засмеялся. Странно было слышать такое от Ивана да ещё о собственной сестре, которую сам он всегда считал мягкой и покладистой.
– Что, гоняет тут тебя Надюха, Иван?
– Погоди! Сам женишься – поймешь что такое баба, – Иван машинально взъерошил неизменно вздыбленную макушку коротких жёстких волос.
– Пошли тогда, что ли, наружу, раз начальство добро дало на разгул? А то тут больно дух тяжкий. – На душе Кравцова было невероятно покойно. Настолько, что где-то внутри даже защемило.
– Да? – оглянулся Иван на его слова, не замечая запаха скотины, провонявшего сарай насквозь. Но тут же согласился, – Пошли!
Они вышли во двор и сели под навесной шиферной крышей с обратной стороны сарая. Здесь обычно хранилось зимой сено. Теперь же, когда скотина была полностью на выгонных кормах, а сено ещё не накосили, площадка под навесом стояла пустой и чисто подметённой. Не найдя ничего, на что можно было бы поставить еду, Иван оттянул из-под стены вдоль всего навеса тяжёлый брезент, которым укрывали сено, и плюхнулся прямо на него.
– Садись, сродственник, выпьем, наконец, за целый день! – хлопнул Иван по брезенту рядом с собой, – А то утром нельзя – на работу надо, в обед нельзя опять из-за неё. Кода ж тода жить?
– Вот сейчас и начнем.
Николай согласно взял в руку стакан. По деревенским обычаям с питьем водки тут не церемонились: разливали не рюмками, как в городе, а сразу по стаканам, наполняя их до половины. Опрокинув залпом настывшую водку и запив её студёным квасом, Кравцов с пристоном благоговейно пропел.
– Ох, как пошла-то, ра-ди-ма-ая!
– А то! На-ка вот тебе хлебушка, заешь!
Иван протянул большой кусок мягкого белого хлеба. Взяв его, Кравцов уткнулся носом и вновь почувствовал, как по всему телу пробежала дрожь от особого счастья.
– Как пахнет, Ваня! – задохнулся он душистым ароматом, – Сколь не жил в Москве, ни разу такого хлеба не едал.
– Скажешь тоже – в Ма-аскве! – почти обиженно скорчился Иван, – Кто тебе в Ма-аскве тваей даст печь хлеб из стопроцентной пшеницы!
– А разве белый хлеб из муки высшего качества не на сто процентов из пшеницы? – Кравцов повернул голову к свояку, при этом не отнимая хлеб от носа.
– Эх, Коляня, в деревне вырос, на земле, а на деле ничего про неё не знаешь. Ведь любая пшеничная мука для выпечки имеет добавки, – о хлебе Иван заговорил увлечённо, со значением, – Только в высший сорт поменьше кукурузы, ячменя и патоки кладут, в другие – поболее. Да ещё дрожжей тебе понапихают, чтобы хлеб поднялся, да солодом задобрят для весу.
– А у вас что, не так что? – удивился Николай, опять нюхая мякиш.
– У нас и элеватор свой в Калинках, и мукомольный комбинат тут же. Вот потому мы и можем себе позволить лучшую мучицу; для себя же. И себе на помол не отвозим зерно ни запрелое, ни засохшее, а только цельное.
– А государству, значит, и запрелое шлёте?
Кравцов, блаженно жуя, продолжал расспрашивать добродушно, без обвинения.
– Шлём, – сморщился Белородько, – Не выбрасывать же! Сколь трудов положим на сбор урожая, чё ж, выкидывать? Не! Отсеем, проветрим или, наоборот, увлажним его и, вперед, на мельницу.
– И не стыдно?
– За что? – Иван даже приопустил руку с бутылкой, из которой принялся наливать по второй. Лоб его при этом нахмурился, отчего лицо ещё больше расширилось и укоротилось, а брови и глаза встали уголком.
– Сами, значит, лучший хлеб лопаете, а в город, в Москву, какой получится?
Тон, каким говорил Николай, был по-прежнему миролюбивым. Заметив это, Белородько сбросил напряжение.
– Токо дурак, Коляня, себя обидит. А умный – он при добре останется. Да и стыдиться нам особо-то нечего: не гнойное всё же зерно шлём. Контроль-то ведё-ё-м! А то, что потом хлеб у вас не такой как у нас, так это ты, братка, звиняй. Но, с другой стороны, у нас здесь и жисть не ваша, не столичная. Вы там себя другим балуете.
– Чем же?
– Цирками, театрами, выставками. Скажешь нет?
– Скажу да.
– Это же вы, городские, придумали, что «не хлебом единым жив человек». Так это для вас токо и годится. А для нас тут одним токо хлебом он и жив. В ём, в хлебушке, весь наш смысл. Кабы не было у нас хлеба, какая бы забота у нас была? Чё молчишь? Отвечай!
– Да почём я знаю! Хлебом, так хлебом; я что против что ли? Наливай! – он подставил Ивану стакан.
Получив привычную команду, Иван исполнил её с радостью и незамедлительно и, уже после того как они выпили по второму заходу, добавил:
– Ты, Коляня, не серчай на деревенских за хлеб. Нам и впрямь он – единая радость. Да и, по правде сказать, рази кто из ваших городских знат какой он вкус у настоящего-то хлеба, дома-ашнего? О! Сызнова молчишь. Знать, не знашь, что ответить.
– Не знаю. Я вроде в детстве только домашний хлеб и ел: мамка-то раньше сама пекла. А вот в городе пожил и забыл и какой у него настоящий вкус, и как он замечательно пахнет, – вновь утыкаясь в хлебный мякиш покаялся Николай.
Водка, заедаемая одним лишь хлебом, стала пробирать.
– Знать пропащий ты человек, братка, раз вкус домашнего хлеба забыл, – прицепился к этому раскаянию Иван, тоже охмелевший, несмотря на привычку пить помногу, – А мы вот здесь, чтобы не забыть и нашим детям забыть не дать, традиции отцов сохраняем. Хлеб печём «на живую», как деды пекли. Чтобы Русь-то не вымерла, чтобы не пропала.
– А это как «на живую»? – переспросил Николай с опозданием.
– Как? А вот так: пекарня у нас в Калинках – всему району на зависть! Заметь, не просто пекарня, не какая-то там электрическая, а настоящая, с дровяной печью.
– Почему так?
– Как почему?
– Чё же вы не механизируете производство, живёте по старинке?
– А кто тебе сказал, Коляня, что эта самая механизация везде хороша? – заколготился Иван и даже подался от стенки вперед. В споре он всегда был шубутным и старался никому не уступить. Впрочем, Кравцов отвечал ему без малейшего желания противоречить, просто для поддержания разговора. Расслабившись полностью, он принялся слушать, как Белородько стал забрасывать его доводами.
– Если я был первым за то, чтобы в наш коровник электродоилки поставили, а на молкомбинат электросепаратор, чтобы таким, как наша Надюха, подсобее было, так это не значит, что я везде на технику согласный. Нет, мила-ай! Для хлебушка никакая электрическая печка не годится. Не заменит она дровки-то!
– Ладно, Иван, это ты уже привередничаешь, гурмана из себя строишь, – опять же миролюбиво поддел зятя Николай.
– Чего? – захорохорился тот не в шутку, – Я выпендриваюсь? А ну ещё раз нюхни наш хлеб. Нюхни-нюхни! – подсунул он под нос Николая оставшуюся краюху, – Чем пахнет?
– Хлебом, дрожжами, – рассеянно ответил Кравцов, внюхиваясь. Он никак не мог определить, чем же в действительности пахнет хлеб, что придаёт ему такой своеобразный, неповторимо родной запах.
– Ещё чем? – почти сердито настаивал Иван.
– Да почем я знаю! – взмолился Николай, – Не чую больше: землёй пахнет, теплом.
– Я погляжу, ты там в своей столице не только вкус, но и нюх потерял: «землёй, теплом», – без злобы, а скорее как-то разочарованно передразнил Белородько, – Рази ты не чуешь, как костром пахнет этот хлеб, дымом от сгорающего дерева, смолкой деревянной. Не чуешь?
Услыхав про дым, Николай притянул в очередной раз к носу краюху и тут же согласно закивал, потому, что словно задохнулся: хлеб действительно пах костром. Это был тот самый, еле уловимый до этого запах горевшего дерева, каким всегда пропитывался у матери подходящий в печке хлеб. И вмиг Николая заново пронзила горькая, тяготящая мысль. Как мог он раньше не знать, не понять или не догадаться, что его дом именно здесь, с ними, родными, а не в далекой Москве. Что только здесь он свой, только тут всё настоящее: от хлеба до мыслей. Расчувствовавшийся от осознания жизненной правды, Кравцов застонал:
– Как больно, Иван, как больно и обидно, что так долго я до всего доходил.
Он и не подумал, что перекинувшись с разговора о хлебе на мысли о доме, он поменял тему и может быть не понятым.
– На! – тут же протянул ему Иван спасение, плещущееся в стакане, – Давай выпьем за людскую память.
– Нет. Я хочу за батьку с мамкой. Ты уж прости, Иван.
Белородько согласно кивнул:
– Чего уж там, конечно! За родителей не выпить – грех, – он живо опрокинул водку в рот, отщипнул из рук Николая хлеба и, жуя, посоветовал, – Знать пора тебе, Коляня, и вправду на землю возвращаться. А то ты там в Москве своей совсем испаскудишься; не только про хлеб забудешь. Только человек земли предать её, матушку, не может. А все эти правители-управители, поскакунчики марионетки, токо и талдычут про Родину, а сами и запаха ёйного не нюхали, не стояли на ёй босыми ногами. Чё ж им тогда голосить про патриотизм, про хозяина на земле. Какие они, к такой-то матери, хозяева? Так – пожиратели. Оттого и сами все напыщенные, с добавками всякими, как сама мучица из которой хлеб пекут. Во где корень зла, Коляня! Кабы ели все токо настоящий хлеб, тоды и дорожили бы Родиной и боялись бы на земле гадить, – с трудом довел Иван мысль до конца и сам удивился высказанной мудрости.
Но тут же посмотрел на Николая с недоверием, мол, откуда бы это навеяло ему подобное. Как обычно, на хмельную голову все разговоры становились смелее, обширнее, выходили за пределы стола, принимали размах государственный. И всё же, даже для пьяного, сказанная Иваном мысль была слишком дерзка и неоправданно смелая. Высказав накипевшую боль, теперь Иван смотрел на родственника протяжно, пытаясь прочесть в его глазах насколько тот понял то, что услышал. И, если понял, то насколько ему можно доверять подобные мысли. Несмотря на то, что мужчины были уже много лет в родстве, ни разу до этого им не приходилось вот так откровенно беседовать о столь запретных делах. Проговорившись по пьянке, теперь Иван испуганно искал в глазах Николая поддержку своим мыслям или хотя бы уверение в их неразглашении. Никакая Перестройка с её гласностью и верой в демократию не могли вот так запросто унять в мужике животинный страх столь еще недалеких лет депрессий и запретов; страх, запечатленный на хромосомном уровне, и переданный по наследству.
Поняв это, Кравцов в подтверждение кивнул:
– Много дерьма на земле нашей, Ваня. И, к сожалению, нескоро ещё от него очистимся мы. В Москве слухи ходят всякие, страшные. О конце Союза. О скором развале страны.
– Не надо об этом, Коля, – благодарно притронулся Иван к руке шурина. По всему его виду было ясно, что после услышанных слов у него отлегло от сердца.
– Давай тогда ещё по одной выпьем и все, – добавил Николай, словно ещё раз подтверждая, что он свой.
– Давай! И, правда, пойдем уже. Надюха просила до вечера не «наедаться». У тебя же вечером сёдня гости в доме, Коляня! Надо в огороде ещё семизубки надёргать. Надька просила для салата, – уже совсем легко свел Белородько разговор на пустяк.
Они прошли в огород. Здесь ровными рядами были разбиты грядки под морковь, лук, редьку, зелень. Чуть подальше единым полотном бурела картошка, местами уже кое-где повылезавшая клубнями из-за спелости. Совсем далеко, у забора, отгораживающего огород от уходящего вдаль пустыря, вился горох, наполовину общипанный детьми, наполовину брошенный так. Собирать его никто не хотел, не для того сажали, чтобы на этом дождаться урожая, а для баловства – поесть в охотку свежего прямо со стебля. Никем не прополотый, горох рос вперемежку с вьюном, тут же цветущим на кольях мелкими розовато-фиолетовыми граммофончиками. Кравцов, заметив горох издалека, не удержался и пошёл полакомиться. Их всех первых огородных овощей он любил больше всего именно молодой горох. Правда теперь стручки, большей своей частью, были уже достаточно зрелыми и из-за жары пожухшими, но Николай знал, что стоит только залезть поглубже в стебель и вывернуть его, как в середине обнаружатся те самые дозревающие стручочки, в которых можно найти молочный плод. Так оно и было. Сорвав с десяток молодых стручков, Кравцов принялся разрезать ногтем их мягкую, почти атласную кожицу и вылущивать на ладонь светло-зелёные прозрачные горошинки. И только освободив от плодов последний стручок и набрав горку, бросил тогда её в рот и зажмурился от разошедшейся по всему нёбу сладости.
Глядя на эту забаву, Иван подумал: «Совсем ещё пацан ведь наш Коляня. Недаром вчера весь вечер с Егоркой и Максимкой боролся; недалёко от них ушел.»
Несмотря на разницу с шурином в шесть лет, себя Иван считал намного старше и умудрённее. Наклоняясь к грядке с луком, он, вспомнив вдруг прошлый разговор, усмехнулся и крякнул:
– Вот ты говоришь, Коляня, механизация, цивилизация, прогресс. Я всё это понимаю: с одной стороны, ты – столичный теперь житель, с другой, я и сам тоже здесь на хозяйстве поставлен для того, чтоб людям жизнь облегчать. Но токо, знаешь, как сами-то деревенские туго на прогресс реагируют? О! Не знаешь. А я тебе скажу. Когда прогресс касается дискотеки или там машины, чтоб в город съездить – они вроде как за него. Опять же, вон у вас в деревне на реке Дом отдыха построили: там и парикмахер есть и даже маникюрша. Здесь опять наши бабы зараз согласные. Да-да, согласные, не сомневайся, – поспешил он заверить, заметив удивлённый взгляд Николая, – Даже Надька наша и то один раз ходила. Ей, думаешь, этот маникюр нужон? Да ни хрена! А все одно: раз прогресс, то и она вместе со всеми за кудрями и крашенными ногтями понеслась.
– Надька? – все-таки не поверил Николай.
– Я не про то, – кивнул Иван и продолжил сразу, чтобы не сбиться с мысли, – Я не против того, чтобы она туда ходила. Мне, конечно, на её красные ногти смотреть – глазам больно, как шкуру содрали, но это – лишь бы ей нравилось. Я тебе про то говорю, что народ наш, и особенно бабы, прогресс-то по-своему понимают. Попробовал было наш председатель про телефоны в каждом доме заговорить; пока ведь только у десятка они есть. И что думаешь?
– Что? – Николай жевал горох.
– Остальные не хотят их иметь, не хотят даже за них такую малость, как три рубля в месяц, отдавать. И то правда, нашим мужикам трёшку лучше пропить.
– Стой, но ведь это каменный век без телефона. Ладно мужики, им трепаться не пристало. Ну, а женщины-то что ж? Неужели не понимают, насколько это удобно?
Николай подошел к грядке с луком и теперь лениво смотрел на выпраставшуюся из-под майки голую, такую же жилистую как конечности, спину Ивана.
– Ой, Коляня, темнота ты и ничего в деревенской жизни не смыслишь, – не разгибаясь ответил тот, – Наши тётки, такие как Савельевна, помнишь её?, ради того чтобы где-нибудь на улице постоять да потрепаться, полдеревни рады оббежать. Зачем им телефон? Скука! В него ни поголосить, так, чтобы слышали все, ни пожалиться, чтобы весь мир о твоей беде вмиг знал.
– А если случай какой и надо милицию или скорую вызвать?
– Туда дорогу и без телефонов все знают, дожидаться помощи не будут.
– А если что посерьёзнее?
– Тогда все одно к Лукичу бегут.
«Лукичом» в деревне звали председателя совхоза Рогожина Петра Лукича.
– Ясно, – как-то рассеянно ответил Николай, принимая из рук Ивана очередной пучок зеленого лука-перо. Задумавшись, он по привычке принялся жевать правый ус. С приездом в родную деревню жизнь обернулась для Кравцова каким-то новым, до этого плохо распознанным углом, несущим пока только благодать и удовлетворение.
– Может часок похрапим? – неуверенно спросил он у Ивана, ушедшего, наконец, с грядки.
– Согласен целиком и полностью, – пьяно и весело крякнул Иван, и они пошли в дом.
Глава четвёртая: Смотрины
Родительская изба Кравцовых была полна народу. Приглашенные взрослые размашисто гуляли за обильно накрытым столом. Во главе, как тому и предполагал случай, сидел Николай. По его левую руку села Лариса. Далее примостился Иван. Тут же за ним плюхнулась на лавку Верка Латыпова. Зная игривые способности мужика в застолье, Надежда, ещё в самом начале вечеринки, заговорщически косанула подружке глазами на мужа и на приезжую. Сама Надежда, отказавшись от выпивки чтобы суетиться по хозяйству, то и дело сновала из сеней на веранду да от стола к разведенному во дворе огню. Там на вертеле жарилась баранья тушка. Подкладывая на блюда пищу или убирая освобождённую посуду, Надежда не могла держать Ивана в поле зрения. Верка, с первого же взгляда понявшая подругу, охотливо взяла на себя роль блюстителя семьи Белородько.
Долговязая и неприлично худая, Латыпова ела и пила с поразительным аппетитом. Разгул не мешал ей зорко следить за Иваном, и, чуть Верка замечала допущенную дерзость или сказанную неловкость, она тут же толкала Белородько в бок. Иван, надёжно засевший, поспешно отпихивался от бдений подружки жены, не поворачивая головы в её сторону. Фронт слева был для Белородько скучен: рядом с Веркой примостилась на краю лавки тётка Настасья. А с другого торца стола стоял табурет, на который то и дело коротко присаживалась Надежда. Три бабы, молодые и пожилая, вели меж собой скучные, с точки зрения разгулявшегося мужика, темы о детях, хозяйстве и здоровье. Гораздо приятнее было обращаться с разговором к сидящим напротив молодым Мишке Зуеву и Володьке Окуньку. Оба холостые и оттого дерзкие, они насилу усадили меж себя Анну и теперь, то и дело, петушились, заигрывая с ней.
Анна смотрела на их ухищрения пассивно, неохотливо отвечая на глупые пьяные вопросы и высвобождаясь, по мере надобности, от наваливающихся тел. Подбадриваемая взглядами и словами Ларисы, Анна все-таки была за столом самой молчаливой, если не считать и вовсе тихого по натуре Фёдора Латыпова – Веркиного мужа. Тот на любой вечеринке неслышным был, пока не заводили песню, и только сидел и трясуче хихикал на застольные шутки. Зато когда дело доходило до музыки, Фёдор был первым запевалой. Помимо того, что бог одарил неказистого Латыпова недюженной до запевов глоткой, никто лучше и чище него не выводил песенные мелодии, никто не знал песен больше.
Но сегодня до песен ещё дело не дошло, почему Фёдор оставался пока незамеченным и невостребованным. Сидя первым на краю лавки рядом с Надеждой, он мелко щурился на каждую из прибауток Ивана, имевшего их в запасе неисчислимое множество на любой случай. Вот и теперь, глядя на безуспешные ухаживания двух кавалеров, Белородько нет-нет, да и отпускал по этому поводу какую-нибудь зацепу.