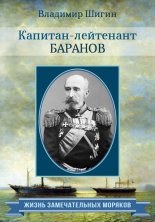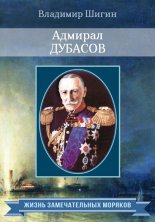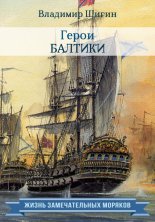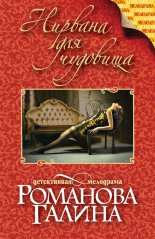Ларс фон Триер. Контрольные работы Долин Антон

© А. Долин, 2007, 2015, 2017, 2019, © Фото – Н. Хлюстова (глава 1), П. Перроне (глава 2), Д. Макаренко (главы 3–6), А. Долин (глава 7), © ООО «Новое литературное обозрение», 2019
Молоток и его хозяин
(вместо предисловия)
Книгу о Ларсе фон Триере я написал в 2004 году. Ее структура позволяла избежать хронологической последовательности, исследуя сквозные мотивы и приемы жизни и творчества датского режиссера. Прошло более десяти лет, и книга выходит вновь. Структура осталась почти такой же, хотя за это время очень многое изменилось. Триер снял еще пять полнометражных фильмов, принял участие в массе необычных проектов, впал в продолжительную депрессию и вышел из нее, получил несколько фестивальных призов и был изгнан из Канн как персона нон грата. Однако по-прежнему он – один из самых ярких и необычных режиссеров в мире, чьи поведение и фильмы вызывают яростные споры.
Внеся значительные изменения в каждую главу, я также добавил новую и эпилог, завершение книги о герое, которому чужда любая завершенность Первоначальная идея книги была в создании портрета гения, одержимого идеей контролировать все: не только свои картины, но и окружающую его вселенную. Время показало, что не менее важная черта режиссера – его способность изменять самому себе, отступаться от маний, преодолевать фобии и нарушать им же заданные правила. Воспитанный атеистами, он ударяется в иудаизм, затем переходит в католичество и в результате, после периода увлечения православием, вновь провозглашает себя неверующим. Изобретает уловки для повышения «градуса виртуозности» в операторской работе, затем отказывается от штатива и искусственного освещения, после этого вовсе изгоняет оператора и доверяет камеру компьютеру, чтобы в конечном счете вновь вспомнить о протяжных завораживающих планах, отсылающих к обожаемому Триером Тарковскому. Публикует манифест по поводу каждого следующего фильма, откровенничает на пресс-конференциях, чтобы после этого заклеить рот скотчем и отказаться от любых публичных выступлений. В своей непоследовательности Ларс фон Триер впечатляюще последователен.
Когда создавалась первая редакция книги, на русском языке не существовало ни одного серьезного труда о кинематографе Триера, и в Европе или Америке их тоже было совсем немного. С тех пор опубликованы десятки монографий, а по-русски изданы изумительная книга интервью Стига Бьоркмана и исчерпывающий опус Нильса Торсена «Меланхолия гения»[1]. Их авторам, говорившим с героем на его родном языке и проводившим с ним не часы, а дни и месяцы, удалось узнать и рассказать о личности Триера все, о чем только можно было мечтать, от детских лет до подробностей эротической жизни. Это позволило мне, вздохнув с облегчением, еще меньше думать о биографическом аспекте, сконцентрировавшись на фильмах.
С другой стороны, введя в энциклопедической «Нимфоманке» концепцию дигрессионизма, то есть рассказа с авторскими отступлениями, Триер подал мне идею расширить исследование его вселенной, добавив интерлюдии-дигрессии, посвященные важнейшим в его жизни культурным влияниям: Тарковский и Вагнер, Сад и Мунк. Список мог бы пополняться бесконечно – в него могли бы войти фамилии Ницше и Стриндберга, Кубрика и Боуи, Брехта и (почему нет) Гитлера. Увы, рамки книги не позволяли включить туда всех, чье творчество на том или ином этапе оказывало воздействие на фильмы ее главного героя. Тем не менее хочется надеяться, что даже эти краткие отступления позволили донести скрытую за ними мысль. Да, фильмы Триера с их раздражающими условностями, приблизительностями, нарочитыми небрежностями и колоссальными амбициями – нечто меньшее, чем кино, особенно если говорить о шедеврах великих режиссеров, на которые он пытается – в шутку или нет – равняться. Но они вместе с тем и нечто много большее: философия, живопись, литература, музыка. И просто колоссальная игра – всегда по неожиданным, только что учрежденным и до конца известным лишь самому автору правилам.
За прошедшие с момента публикации книги годы мне удалось еще несколько раз встретиться и поговорить с Ларсом фон Триером, что поставило еще одну трудную задачу. Почти все интервью, включенные в предыдущее издание, были взяты во время одной продолжительной сессии 27 ноября 2003 года. «Последующие встречи состоялись в Каннах в 2005-м (после премьеры «Мандерлея»), 2009-м (после премьеры «Антихриста»), 2011-м (после премьеры «Меланхолии») и 2018-м (после премьеры «Дома, который построил Джек»), а также в Копенгагене в 2007 году, в канун премьеры «Самого главного босса». Во-первых, каждое интервью было посвящено конкретному фильму. Во-вторых, за эти годы взгляды и творческие планы Триера претерпели изменения – иногда довольно радикальные. Поэтому я принял решение разбить интервью тематически, сопроводив каждый фрагмент указанием на год, когда состоялась беседа, и таким образом позволить читателю самостоятельно судить об эволюции режиссера.
Также в книгу добавлены интервью с некоторыми актерами, работавшими с Триером, – в частности с Дэнни Гловером, Стелланом Скарсгордом, Шарлоттой Гэнзбур, Стейси Мартин и Уиллемом Дэфо.
В ряду монументальных и концептуальных фильмов, снятых Триером в XXI веке, выделяется трехминутная короткометражка из проекта «У каждого свое кино», реализованного к юбилею Каннского кинофестиваля. Она называется «Профессии». В ней сам автор в смокинге смотрит – судя по всему, в каннском зале – собственный фильм. Рядом с ним сидит назойливый субъект, которому очень скучно. Поэтому он раз за разом пытается завязать разговор с соседом, рассказывая о своем бизнесе и автомобилях («По одному на каждый день недели»). Исчерпав темы, он интересуется у Триера: «А вы чем занимаетесь?» – «Я? – спрашивает тот. – Я убиваю!». И, выхватив откуда-то молоток, размахивается и ударяет зрителя по голове. А потом еще и еще. Кровь, мозги, обломки костей летят во все стороны, но окружающие испуганно помалкивают: никому не хочется навлечь на себя гнев режиссера-психопата. Тогда тот садится обратно в кресло, и сеанс продолжается.
Кто-то сделает из этого вывод о невменяемости Ларса фон Триера – и будет отчасти прав. Кто-то оценит его специфическое чувство юмора. Но и те и другие осознают, что смотреть его фильмы надлежит внимательно.
Эта книга – попытка ответить на вопрос «почему?».
Автор выражает благодарность Винке Виедеман, Вибеке Винделов, Фусун Эриксен, Лиз Миллер, Галине Симоновой, Игорю Лебедеву, Наталье Шталевой, Екатерине Ченчиковской, Марине Григорьевой, Александре Ливергант, Юрию Сапрыкину, Анне Наринской, Михаилу Ратгаузу.
И отдельное спасибо – моей жене и верному товарищу Наталии Хлюстовой, чей перевод «Догвилля», включенный в первое издание, не вошел в эту версию книги. Зато здесь осталась сделанная ею фотография.
Глава 1
Намек на биографию
На дворе стоял солнечный день – последний апрельский день 1956 года, – когда в одной из копенгагенских больниц появился на свет мальчик. Ингер и Ульф Триеры назвали младенца Ларсом. Ульф и Ингер были состоятельными людьми и государственными служащими, притом радикалами по убеждениям: отец – социал-демократ, мать – коммунистка, атеистка и сторонница свободного воспитания. Давая ребенку возможности для самоопределения, она надеялась создать независимую личность: сегодняшние миллионы зрителей могут судить, удалось ли ей это. С юности Ингер общалась с интеллигенцией крайне левых убеждений – в том числе с известными в Дании писателями Хансом Шерфигом, Отто Гельстедом и Хансом Кирком. Как позже утверждал режиссер – и, кажется, не шутил, – она осознанно планировала родить ребенка с «художественными генами», поэтому настоящим отцом Ларса стал вовсе не Ульф, а некто Фриц Михаель Хартман, ее подчиненный и тоже чиновник (в отличие от Ульфа, в его родословной было несколько музыкантов и композиторов). Имя своего биологического отца Ларс узнал гораздо позже, мать открыла ему секрет перед смертью – когда Ульф Триер давно уже почил с миром. Молодой режиссер решил повидаться с единственным оставшимся в живых – и незнакомым – родителем. Он нашел отца, побеседовал с ним четыре раза… никто не знает о чем, потому что на пятый раз девяностолетний Хартман закрыл перед неожиданно объявившимся великовозрастным ребенком двери и пригрозил, что в следующий раз вызовет адвоката.
Впрочем, отношения Ларса с Ульфом, которого он все детство считал родным отцом, были весьма близкими. Отец был значительно старше сына – когда тот родился, ему было под пятьдесят, а умер он, когда Ларсу стукнуло восемнадцать. Ульф был прирожденным провокатором (работа в министерстве, впрочем, не давала ему возможности часто проявлять это качество): Ларс вспоминает, что стыдился своего пожилого отца, когда во время прогулки тот внезапно начинал хромать, изображая инвалида, или залезал в витрину магазина, чтобы взять под руку манекен и застыть на месте. Ульф был наполовину евреем; в семье демократов и коммунистов-интернационалистов над самой возможностью национальной самоидентификации посмеивались. Ларс в шутках не участвовал. Он хотел ощущать себя евреем, бродил по старому еврейскому кладбищу в кипе, даже пару раз зашел в синагогу. Все это, чтобы потом обнаружить, что в нем нет ни капли еврейской крови. Чтобы компенсировать это хоть чем-то, Ларс изучил свое генеалогическое древо и выяснил, что со стороны матери приходится отдаленной родней семье фон Эссен, к которой принадлежала жена Августа Стриндберга. Стриндберг – первый кумир Ларса, о нем он написал в январе 1976-го статью «На грани безумия», позже опубликованную в одном из копенгагенских журналов.
Будущий режиссер был мальчиком хилым, нервным. Шести лет от роду отсиживался часами под столом, собрав любимые игрушки, потому что боялся ядерной войны. Чуть позже Ларс начал страдать от мигрени. Пропагандируемое матерью свободное воспитание имело неожиданное воздействие на Ларса. Родители никогда не давили на него, позволяли как угодно распределять свободное время. В результате ребенок стал более ответственным и делал домашние задания раньше всех одноклассников, первым бежал к ненавистному зубному врачу, сам придумывал для себя систему приоритетов и правил. Он ведет себя так до сих пор: эксперименты с «Догмой-95» и театральными декорациями в «Догвилле» это доказывают лучше любых фрейдистских исследований. Именно воспитание, инициированное Ингер Триер, привело к тому, что Ларс не окончил среднюю школу, поскольку не смог адаптироваться к авторитарной системе образования. Он просто ушел из школы, и родители не возражали: обучение основным предметам продолжилось на дому, а после и вовсе прекратилось. Два-три года от подросткового до юношеского возраста Ларс провел, шатаясь без дела, попивая белое вино и изредка предаваясь непрофессиональным опытам с кистью, палитрой и холстом. Тогда он еще не был уверен, кем хочет стать, художником или все-таки писателем. В тинейджерские годы он написал несколько романов и разослал по издательствам – от самых респектабельных до тех, где публиковался исключительно мусор в мягких обложках. Отказали ему всюду, и слава богу: иначе, возможно, на свете не было бы режиссера Триера, а был бы прозаик.
Кинематограф пришел в жизнь органично. Одиннадцатилетний Ларс Триер сам нарисовал мультфильм «Путешествие в Тыквенную страну». Продолжительность – две минуты. Главные герои – три кролика: розовый, зеленый и серый. Они скачут по поляне, жонглируют головами и вообще наслаждаются жизнью. Потом откуда ни возьмись возникают зловещие существа, состоящие, похоже, из капустных голов, и похищают одного кролика. Спасение является в образе красного червячка верхом на ручном ките: они помогают братьям вернуть жертву разбойного нападения. В этой феерической работе Триер уже проявляет ключевые свои качества: изобретательность, фантазию, структурное мышление и парадоксальное чувство юмора.
Дядя Ларса, Борге Хорст, был известным в Дании документалистом. Маленькая восьмимиллиметровая камера попала в руки Ларса от матери. С тех пор самым заветным его желанием стало обладать другими необходимыми для съемки аксессуарами. Особенно его интересовали возможности монтажа. В старом магазине Ларс купил за 150 крон старинный шестнадцатимиллиметровый проектор. Ингер приносила сыну с работы старые пленки, а он учился монтажу дома сам. Некоторые кадры раскрашивал вручную, как делали во времена Жоржа Мельеса. Сегодня он вспоминает, что больше всего в те годы его впечатлили документальный фильм о повадках тараканов и сцены допроса Жанны д’Арк. Как Ларс понял позже, наряду с кусками научно-популярной ленты ему попались фрагменты из легендарного фильма датчанина Карла Теодора Дрейера.
В двенадцать лет Ларс снялся в главной роли в подростковой картине Томаса Виндинга «Тайное лето». В интервью юная звезда уверяла, что заинтересовалась съемками как техническим процессом, а фильм вышел не очень хорошим. Проча себе большое будущее, он называл себя гением. В семнадцать лет Триер впервые попробовал поступить в Копенгагенскую киношколу. Ему отказали. Однако это не охладило начинающего автора, который вступил в ассоциацию кинематографистов-любителей под названием «Filmgrupp-16». Годовой взнос составил 25 крон, а Ларс уже мог себе это позволить – ведь дядя взял его подрабатывать редактором в Государственный кинофонд. Там по вечерам наш герой монтировал материал, отснятый в заброшенных ангарах «Filmgrupp-16». Тогда он сделал два фильма, каждый примерно по полчаса: «Садовник, выращивающий орхидеи» и «Блаженная Менте». Именно их он представил на вступительном экзамене, когда вновь пришел в Киношколу. На сей раз приемная комиссия не сопротивлялась.
Здесь можно остановиться. Биография Ларса фон Триера останавливается там, где начинается творчество. Режиссер дает фору исследователям, добровольно открывая нехитрые тайны своего происхождения и детства. Дальше – как ведется в Дании, тишина. Никто толком не знает, был ли день или ночь и какой была погода 30 апреля 1956-го, когда он родился на свет, да и кому это может быть интересно? О жизни Ларса фон Триера вряд ли напишут книгу, поскольку никогда реальные факты не смогут стать более увлекательными, чем плоды воображения самого режиссера. Косвенное доказательство тому – прошедшая незамеченной и представляющая сугубо научный интерес картина «Эрик Ницше: юные годы», поставленная Якобом Тюсеном в 2007 году по собственному сценарию Триера (в титрах названного «Эриком Ницше»). В ней с близкой к документальной точностью рассказывается о злоключениях Триера во время обучения в Киношколе – от поступления до съемок дипломного фильма.
Демаркационная линия между биографией и творчеством состоит всего из трех букв: «фон». Голубая кровь в венах Ларса Триера никогда не текла, указывающую на дворянство частицу «фон» он прибавил к своей фамилии без всякого на то права. Случилось это именно тогда, когда он делал свои первые фильмы – в титрах «Садовника, выращивающего орхидеи» уже значится горделивое «Ларс фон Триер». Дедушку режиссера звали Свен Триер. Из Германии он писал домой письма, подписывая их Св. Триер, но там эту подпись неправильно поняли и ошибочно стали величать господина Триера «господином фон Триером». Так что все началось с семейного анекдота, а уже после Ларс нашел в этом «фон» дополнительные смыслы (кроме самого очевидного – болезненного самовозвеличивания): Стриндберг в годы своей душевной болезни в Париже подписывал письма: Rex, то есть «Король», а Ларс хотел быть похожим на Стриндберга; американские джазисты величали себя герцогами или графами (Duc Ellington, Count Basie). Впрочем, это было свойственно и некоторым режиссерам, например Штернбергу, прибавившему к фамилии абсолютно фиктивное «фон».
Отнюдь не Штернберга Ларс фон Триер считает своим учителем. «По углам его детской» стоят другие авторы. Это датчанин Карл Теодор Дрейер, швед Ингмар Бергман, русский Андрей Тарковский и американец Стенли Кубрик. Высокомерный Дрейер, слышавший лишь свой внутренний голос, равнодушный к коммерческому успеху и все равно глубоко уязвленный его отсутствием, – режиссер-деспот, по-всякому мучавший своих актеров и особенно актрис. Затворник Бергман, не выносивший журналистов и не любивший давать интервью, но без малейшего стеснения писавший пространные документальные романы, где рассказывал немало стыдного о себе: от того, как в детстве наложил в штаны, до увлечения нацизмом в юношестве. Замкнутый Тарковский, окруженный верными апостолами и растворивший биографию в фильмах – самый личный из них, «Зеркало», Триер называет своим любимым. Нерелигиозный еврей Кубрик, синефил и самоучка, космополит и перфекционист, взламывавший популярные жанры.
Всем четверым присущи закрытость и снобизм в сочетании со специфическим творческим эксгибиционизмом, самобичеванием, саморазоблачением. Триер захотел вписаться в этот ряд – и вписался. Правда, Тарковский успел перед смертью посмотреть одну из первых работ Триера, и она ему совершенно не понравилась. Бергман не ответил на письмо с предложением присоединиться к манифесту «Догмы-95» и только значительно позже объявил, что, дескать, юноша сам не подозревает, какой талант в нем скрыт. Удачнее получилось с Дрейером (видимо, потому, что мэтр давно сошел в могилу) – Триеру удалось ангажировать для съемок вставной новеллы в «Эпидемии» его оператора Хеннинга Бендтсена, который позже работал и на «Европе». С Кубриком Триер виртуально познакомился через одно рукопожатие – с Полом Томасом Андерсоном, последователем и фанатом американского гения.
Как образцовый персонаж эпохи постмодернизма, режиссер не просто выстраивает свою биографию, но и ориентируется на сознательно выстроенные биографии своих кумиров. Получается это у него, впрочем, далеко не всегда. Триер культивирует миф о своей недоступности и затворничестве, но все коллеги, продюсеры и большинство актеров отзываются о нем как о милом и застенчивом человеке. Тщательно подчеркиваемый индивидуализм плохо сочетается с имиджем лидера – хотя бы лидера «догматического» движения. Правда, Триер нарочно не приехал в Канны в год первого своего подлинного триумфа, когда фильм «Рассекая волны» был удостоен Гран-при, а Бергман не явился в те же Канны получать беспрецедентную в истории фестиваля Пальму Пальм.
В детстве и юности Ларс фон Триер смотрел очень много фильмов – и не только Дрейера, Бергмана, Кубрика и Тарковского. Среди картин, в наибольшей степени повлиявших на него, он называет осуществленную студией Диснея экранизацию «Детей капитана Гранта» Жюля Верна и «Ночного портье» Лилианы Кавани. С определенного момента Триер почти перестал смотреть чужие фильмы. Так же произошло и с его биографией: сперва она была очень насыщенной, достойной приключенческого романа, а потом вдруг исчезла вовсе, уступив место слухам и домыслам, достойным желтой прессы. Последняя известная точка – 1996 год, когда Триер оставил жену и мать двоих дочерей, Сесилию Хольбек-Триер (известный в Дании режиссер фильмов для детей, она оставила себе двойную фамилию), чтобы жениться на учительнице младших классов Бенте Фреге, которая родила ему двух сыновей. Их трогательный роман во всех деталях рассказан в книге Торсена: режиссер сначала признался в любви Бенте, а потом, еще не получив от нее окончательного ответа, пошел разводиться с женой. Завести интрижку на стороне Триер элементарно не мог.
Так ли важны многочисленные анекдоты для истории кинематографа? Ведь, по сути, биография Триера отныне прослеживается в сухих фактах карьеры. Попал с дебютом в конкурс Каннского фестиваля и взял там приз. Кардинально менял стиль в каждом втором, если не каждом последующем фильме. Работал с самыми выдающимися актерами со всего мира. Получил в Каннах Гран-при и «Золотую пальмовую ветвь». Реформировал кинематограф при помощи манифеста «Догмы-95», от которого позже осознанно отрекся. Снял с десяток великих картин и еще полдесятка выдающихся.
Взяв частицу «фон», Ларс Триер превратился из реального персонажа в придуманного – почти мифического, достойного собственных фильмов. Отказавшись от идеи проследить биографию режиссера, любой его внимательный зритель без труда может проследить его эволюцию в качестве экранного персонажа. Начав с живописи, зацикленный на собственной персоне фон Триер создал целую серию автопортретов, используя все техники ХХ века – от Магритта до Шагала. На последнем, самом масштабном (метр на два), автор остановился, окончательно перейдя к кино. Видевшие самые первые, любительские опыты фон Триера вспоминают, что один из них – бесконечно длинный и неподвижный крупный план лица режиссера. Камера становится зеркалом – закономерный процесс: позднее Триер не раз заставлял своих актеров, а чаще актрис, смотреться в камеру.
Он – и за неимением лучшего, и из юношеского эксгибиционизма – снялся в главной роли в садомазохистском «Садовнике, выращивающем орхидеи». Во втором фильме, «Блаженной Менте», появлялся в облике шофера, молчаливого вуайериста и свидетеля сексуальных утех. Эпизодическим наблюдателем Ларс фон Триер станет во многих следующих своих фильмах. Роль, сыгранная им в «Элементе преступления», обозначена в титрах как Schmuck of Ages: бритый наголо режиссер играет ночного портье – еще аллюзия на Кавани – крошечной гостиницы, в которой останавливаются главные герои. Наверное, не случайно именно в этом отельчике происходит самая откровенная эротическая сцена фильма, хотя ни из чего не следует, что за ней подглядывает пресловутый Schmuck. Куда более двусмысленную роль отвел себе Триер в «Европе». Его персонаж, названный попросту Еврей, промышляет тем, что за вознаграждение спасает от трибунала высокопоставленных нацистских офицеров, свидетельствуя о том, как они ему помогали в годы геноцида, во время войны. Ложный мученик и фальшивый спаситель: полное иронии амплуа.
Самый глубокий и откровенный автопортрет, предложенный режиссером своим зрителям, мы встречаем в «Эпидемии», фильме, снятом между «Элементом преступления» и «Европой». Здесь он сыграл две главные роли – самого себя и собственного героя, доктора Месмера. Триер неизменно говорит о себе как о посредственном актере, а в случае с «Эпидемией» это еще и стоило ему разгромных рецензий: «худший фильм года», по признанию большинства датских критиков. Здесь Триер продемонстрировал основные свои качества. С одной стороны, показался в самом будничном виде, обнажил без особого пиетета рабочий процесс и разделся, хоть и не в кадре, чтобы лечь в ванну, а с другой – совершил несколько вполне цирковых трюков. Например, под пристальным наблюдением камеры оператора Бендтсена пролетел над полями на нижней ступени веревочной лестницы, спущенной с вертолета. Этот фильм – идеальная иллюстрация банальнейшего, но от этого не менее важного заявления Триера: «Все мои герои – это я сам».
Последним появлением режиссера в кадре собственного фильма стал сериал «Королевство». На титрах каждой серии автор выходил к публике в смокинге – по словам добывшего его Бендтсена, принадлежавшем самому Дрейеру, – и бабочке, чтобы прокомментировать увиденное и пригласить зрителей на следующую встречу «как с божественным, так и с дьявольским». Сам режиссер утверждает, что в этих фрагментах стоял перед камерой в одних трусах – его фигуру, затянутую в чопорный смокинг, камера показывала только до пояса, и потому нужды в штанах не было. Авторские комментарии, сопровождающие титры, – очевидно остроумная находка, моментально дистанцирующая от только что увиденных кошмаров, – важны еще и тем, что Триер окончательно ставит себя вне границ фильма. В следующий раз он появляется как голос за кадром – в «Идиотах», в роли анонимного интервьюера, и в «Самом главном боссе», в роли рассказчика.
Любопытное совпадение: с того момента, как Триер перестает быть актером, он становится героем многочисленных документальных фильмов о создании фильма: сперва «Преображающий» Стига Бьоркмана о «Рассекая волны», затем «Униженные» (о съемках «Идиотов»), «Выставленные» и «Очистившиеся» (о «Догма»-движении) Йеспера Яргиля, а также «100 глаз фон Триера» Кати Форберт (о «Танцующей в темноте») и, наконец, «Признания “Догвилля”» Сами Саифа. Особняком стоит документальный фильм телекомпании «Arte» «Free-dogma», смонтированный из телемоста четырех режиссеров, снимавших самих себя на видеокамеры. Кроме Триера, предвосхитившего здесь метод «автосъемки», использованный им же позже в авангардном фильме «Д-день», и продемонстрировавшего публике свое умение плавать на каяке, в эксперименте приняли участие участники «Догмы» Лоне Шерфиг и Жан-Марк Барр, а также знаменитый немецкий режиссер Вим Вендерс, не участник «Догмы», но живо ею интересующийся. Впрочем, идейное первенство Триера даже в этом коллективном проекте не подлежит сомнению.
Озвучив своеобразный «дневник съемок» в «Признаниях “Догвилля”», он появлялся в последнем кадре картины. Входя в кабинку, оборудованную автоматической камерой, где каждый из актеров фильма позволял себе жаловаться на причуды режиссера, Триер довольствовался тем, что отрицательно мотал своей упрямой головой: «Все равно ничего не скажу».
Скромник, способный раздеться догола на публике. Патологический эгоист, взявший под крыло на собственной студии десятки талантливых режиссеров. Трудоголик, находящий время на компьютерные игры и плавание на каяке. Исключительно отважный неврастеник, который, по собственным словам, боится всего на свете, кроме кинематографа. Все это – Ларс фон Триер.
Ларс фон Триер – человек
(интервью)
Насколько важно для вас существование книг о режиссерах и что вы думаете о книгах биографического толка?
Не знаю, важно ли это. Знаете, когда я был совсем юн, моим идолом был Дэвид Боуи. Это был человек с Марса, его энергия и сила казались мне невозможными! Не просто икона, но живой источник энергии. И самое странное в том, что его личность была очень важна в те годы. Разумеется, музыка тоже, но невозможно было игнорировать его личность. Вы всегда можете сказать: «Он всего лишь человек, как все мы» – и, разумеется, будете правы. Все мы люди… Но для меня, когда я был студентом, был важен не только Боуи-музыкант, но и Боуи-человек, не только Тарковский-режиссер, но и Тарковский-личность.
Тарковский – действительно самый важный для вас режиссер? Что именно связывает вас с ним так тесно?
Он появился на моем горизонте в подходящее время, я как раз учился в Киношколе. Помню, как впервые увидел по каналу шведского телевидения маленькую сцену из «Зеркала» и был потрясен: «Господи, неужели это возможно?» Это тот эпизод, в котором доктор приходит к женщине где-то в чистом поле, когда забор падает. Я был потрясен тем, что такая, по идее обыденная сцена кажется фантастичной и будто пришедшей из иного мира. Я до сих пор преклоняюсь перед Тарковским. Очень важно для меня «Зеркало», в еще большей степени – «Солярис». «Сталкер» – великий фильм, но в свое время казался слишком… слишком современным, что ли. Уверен, что если посмотреть его сейчас, эта иллюзия пройдет. Кстати, мне куда меньше нравятся те фильмы, которые Тарковский снял в Западной Европе, «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Как я это понимаю, он был вырван из естественной среды, каковой для него был СССР. Единственное государство, в котором могли появиться на свет его фильмы, – в этом я убежден на сто процентов. В современной России Тарковский был бы невозможным явлением. Кто бы платил за его фильмы? Никто. Да и политическое давление лишь способствовало развитию его таланта. Кстати, Тарковский смотрел мой первый фильм, «Элемент преступления». И знаете, что он сказал? «Очень слабо».
И что вы думаете о том, что книга о вас выйдет на родине Тарковского?
Это кажется мне очень-очень странным фактом. Пожалуй, приму его в качестве комплимента. С Россией у меня связан целый ряд переживаний сентиментального толка: ведь я был коммунистом! Тогда еще не распался Советский Союз, все мы смотрели в его сторону… кстати, я уверен, никаких причин к тому не было. Моя мать была убежденной коммунисткой, отец – социал-демократом. А мой родной брат, работающий здесь, на моей студии «Zentropa», пожалуй, и есть последний коммунист, оставшийся во всей Дании. Он до сих пор верит в правое дело Советского Союза, ни разу там не побывав… Интересно, что сейчас там, в России, поделывают коммунисты? О современной России я не знаю ничего. Слышал, что у вас в Москве есть проблемы с мафией.
Вернемся к биографиям. Насколько они важны для анализа творческого почерка?
Творчество не может не быть связанным с конкретным человеческим обликом. Мне кажется абсолютно нормальным, что, интересуясь тем или иным явлением в искусстве, вы не обходите вниманием и человека, который скрывается за этим явлением. И не потому, что считаете его сверхъестественным: просто вам хочется сделать его членом своей семьи, а для этого необходимо быть в курсе деталей. С этой точки зрения книги, которые я читал о Бергмане и Тарковском, очень повлияли на меня. Не знаю, важно ли было их читать, но очень соблазнительно!
На фактах вашей жизни эти книги как-то сказались?
Весьма вероятно. Могу ли я дать конкретный пример? Помню одну книгу Бергмана, в которой было много иллюстраций, кадров из его фильмов. Рассматривая их, я много думал о самом себе… Или в институте, когда я много читал… Нет, никаких примеров. С этими биографиями – как с книгами, скажем, о бобрах: кому-то они безумно интересны, из них узнают много нового, но самим бобрам глубоко наплевать на существование этих исследований. Более того, бобр никак не может использовать такие книги себе на пользу!
У вас не было желания рано или поздно написать автобиографию? Как это сделал ваш кумир Бергман.
Да уж, у него здорово получилось… У меня на памяти было немало забавных эпизодов, но это, скорее, смешные случаи из жизни. В общем, можно составить целый юмористический сборник. Вообще-то, я планировал написать небольшую книгу, которая должна была называться «Догма». Но потом я использовал это название в иных целях, как вы знаете; так книги и не получилось. Не знаю. Может, когда-нибудь что-нибудь и напишу. Если время будет. Или если проживу так долго.
Есть ли в вашей жизни факты, от которых вы хотели бы избавиться – не дать им попасть в ваши биографии?
Я сделал когда-то фильм, который назывался «Садовник, выращивающий орхидеи», и долгое время не хотел его никому показывать. Но однажды очень авторитетный человек, писатель, сказал мне: «Ты не имеешь права так поступать. Художник должен быть откровенным в таких вещах. Худшее, что можно сделать, – это отказаться от того, что ты создал: такой поступок – воплощение дурного вкуса». Я согласился с ним. Вспомним опять Тарковского или Боуи: я хотел бы знать не только их лучшие, но и худшие стороны.
Разные люди, с которыми вы работали, дают вам самые разные характеристики. Можете попытаться определить, что вы за человек?
В основном я очень милый человек. Я стараюсь изо всех сил, чтобы людям было хорошо, чтобы они хорошо себя чувствовали… Актеры в том числе. И мне приятно, когда меня любят. Но я очень упрям. Когда хочешь что-то совершить, вынужден быть упрямым. Если пишешь книгу, можешь написать в ней практически все, что пожелаешь, а затем продать ее с тем или иным успехом. Но кино – совсем другое дело: слишком много людей вовлечено в его производство. Стремление контролировать процесс делает тебя упрямым, и, разумеется, быть упрямым не слишком приятно. Никто не хочет конфликтов, а я их просто ненавижу, но не боюсь. Иногда я иду на конфликт, потому что обязан это сделать.
Вы часто даете интервью, рассказывая прессе о деталях своей личной жизни?
Практически никогда.
Почему?
Потому что я хочу делать фильмы. Лучше я свое время на что-нибудь другое потрачу. Вы своей жизнью занимайтесь, а я буду своей, насколько это возможно. Если я буду назначать журналистам встречи, беседовать с ними и все такое, это будет занимать полдня. А еще полдня я не смогу работать, потому что мои ресурсы не бесконечны. Я свой выбор сделал. Знаю, все говорят – «ну и сволочь». Что ж, прошу прощения, но выбор в жизни надо делать четко.
Вы – человек, живущий исключительно работой: во всяком случае, при поверхностном взгляде складывается именно такое впечатление. Откуда же у вас время на видеоигры?
На них я трачу время, которое мог бы потратить на просмотр других фильмов; вместо этого играю в «Silent Hill». Игра, кстати, крайне жестокая и наверняка американская. Мои дети меня не понимают, они предпочитают игры с автомобильными гонками.
2003
Отступление: Тарковский
«Посвящается Андрею Тарковскому». Когда этот титр возник на экране в финале «Антихриста», зал в Каннах начал смеяться и свистеть. Самый дикий, нелепый, необъяснимый, возмутительно-эпатажный фильм датского провокатора – и Тарковский, это ж надо! Не иначе, Ларс фон Триер опять смеется над великим режиссером, не пожалев самого святого.
Так ли велика пропасть между ними – классическим модернистом, в творчестве которого идея авторского кино достигла апогея, и глумливым провокатором-постмодернистом, на котором эта идея, кажется, исчерпала себя? Как отражается тотальная многозначительность и серьезность Тарковского в разрушительной и столь же тотальной иронии Триера?
О страстной любви Триера к фильмам Тарковского известно давно. Любимый режиссер с первых лет в Киношколе, он вдохновил датчанина на его студенческие работы и дебютный «Элемент преступления». Триер добился того, чтобы эта картина была показана Тарковскому; но тому она очень не понравилась (по меньшей мере так гласит апокриф). Этот казус никак не повлиял на любовь непризнанного ученика к высокомерному мэтру. Каждый последующий фильм Триера – доказательство своего права идти след в след за Тарковским. Его незавершенный проект «Измерение», который должен был сниматься тридцать лет, был вдохновлен концепцией «Запечатленного времени» Тарковского. Впоследствии, уходя все дальше от его эстетики, прилежно скопированной в «Картинах освобождения», «Элементе преступления», «Медее» и отчасти «Европе», Триер постепенно обретал собственный, ни на что не похожий, язык. Но по-прежнему преследовал Тарковского, как Ахиллес черепаху.
Их пути, разделенные культурными и историческими эпохами, параллельны. Русский режиссер с его мечтами об экранизации «Гамлета» и принц-самозванец кинематографа датского королевства: их сближают пижонство, эпатаж, сомнительная репутация, страстная любовь фанатов и непримиримая ненависть всех остальных. От их приверженности к небольшой группе одних и тех же актеров-друзей, которые получают то главные роли, то малозначительные эпизоды (Гринько, Солоницын, Янковский, Юзефсон у Тарковского и Скарсгорд, Кир, Барр, Дэфо у Триера), до одержимости тотальным контролем, чтобы и камера, и монтаж, и декорации, и звук были в руках одного человека: режиссера. Они не вместе, но всегда рядом, схожие, как русская «т» с латинской.
Заимствованные у русского гения атрибуты – темы, мотивы, образы, артефакты – переполняют кинематограф Триера. Их поиск может превратиться в увлекательное сафари. Здесь обожаемые Тарковским лошади, терзаемые, как в «Андрее Рублеве», по-всякому: ломающие шеи в «Элементе преступления», горящие заживо в «Мандерлее», предвещающие гибель планеты в «Меланхолии». Здесь яблоки, которых Триер не жалеет, как не жалел Тарковский, – например, в «Догвилле», где героиня буквально тонет в них, или в «Меланхолии», где другой героине жених дарит целый яблоневый сад. «Охотники на снегу» Питера Брейгеля-старшего и органная полифония Иоганна Себастьяна Баха. Но все это – мелкие оммажи, умышленные отсылки, мало что меняющие принципиально в самом строе мысли и киноязыка Триера. Куда важнее глубинная преемственность на уровне идей, персонажей, даже сюжетов, – закамуфлированная, но при ближайшем рассмотрении очевидная. Оказывается, каждый фильм Тарковского отпечатался на сетчатке глаз Триера, без единого исключения.
«Иваново детство»: отсюда у Триера лейтмотив Второй мировой войны. Его партизаны из «Картин освобождения» – наследники советских бойцов, приемной семьи Ивана, так непохожей у Тарковского на регулярное воинское соединение. Бойцы невидимого фронта, лесные братья и сестры, ведущие собственную войну вдали от поля боя, в лесах и оврагах. Они в «Картинах освобождения», снятых с точки зрения противника – немецкого офицера, – вершат правосудие, ослепляя его. Триер любит перевертыши: в «Европе» партизаны – члены секретного общества «Вервольф», состоящего из беглых нацистов. Совершая один теракт за другим, они сражаются с оккупационными властями; почти эротическая притягательность зла соблазняет и невинного американца Лео, который пытался оказаться над схваткой. Ясноглазый идеалист, наслаждающийся европейской экзотикой, он верит в четкое разделение добра и зла, правильного и ложного – и без труда его предтечу можно увидеть в лейтенанте Гальцеве. Его взгляд на войну наивней, чем у главного героя, двенадцатилетнего разведчика Ивана, вся судьба которого в фильме разделена между снами о другой жизни и неотвратимой смертью в финале. В точности как судьба Сельмы в «Танцующей в темноте».
В «Ивановом детстве» начинаются все лейтмотивы Тарковского, унаследованные и переосмысленные Триером. Текущая вода, зримый образ движущейся вечности, «запечатленного времени», – здесь почти Стикс, на другой берег которого перебирается мальчик. От канализации, по которой плывут, в буквальном смысле, пересекая границы подземного мира, герои «Элемента преступления», вода приводит Триера к прологу «Меланхолии», где его Жюстина, что твоя Офелия (опять «Гамлет»), плывет по течению – похоже, тому же, с кадров которого начинался «Солярис». Яблоки, лошади – они ведь тоже отсюда, из «Иванова детства».
«Андрей Рублев»: можно ли сказать, что у Триера есть хотя бы один фильм, в котором героем становится альтер эго, Художник с большой буквы? Вероятно, нет, к людям творческих профессий датчанин относится подчеркнуто иронично. И Средневековье у него возникает лишь однажды, в «Медее», поставленной по неосуществленному сценарию другого отца-вдохновителя, Дрейера. В ее суровых северных пейзажах можно угадать отсылку и к изобразительному аскетизму «Андрея Рублева».
Главное, что взял Триер из этого фильма, однако, связано с другим: сложной и напряженной религиозной проблематикой, которая для него – еврея, католика, атеиста – начиная с «Эпидемии» (там она возникает почти еще в шутку) становится центральной. Безблагодатность верующих, блюдущих букву, но не дух священного закона, – тот идейный и эмоциональный стержень, на который нанизана интрига «Рассекая волны». Можно не сомневаться, что финальный звон запрещенных в сектантской общине колоколов – из финальной новеллы «Андрея Рублева». Должна ли вера давать прощение, тепло и любовь, которые, вопреки пережитым кошмарам татарского набега, Рублев выражает в своей фреске «Страшный суд», или ей положено стращать смертных, учить их смирению и покорности? Думая над этим вопросом более-менее всю жизнь, Триер выносит его на открытое обсуждение в «Нимфоманке», в главе, которая так и называется: «Западная и восточная церковь», а посвящена, естественно, садомазохистским сексуальным практикам. Отправной точкой для дискуссии становится русская икона «в духе Рублева», висящая на стене комнаты главного героя картины Селигмана.
«Солярис» подарил Триеру еще один ключ ко всему его творчеству – по меньшей мере начиная с «Рассекая волны». Датчанин делает со всем своим кинематографом точно то же самое, что Тарковский сделал с переосмысленным им и переписанным романом Станислава Лема: переносит центр тяжести с раздираемого внутренними противоречиями мужчины на фигуру женщины. Пусть она слеплена из невиданных нейтрино, как Ева – из ребра Адама, именно ей определять судьбу бытия. Умирая раз за разом и возрождаясь заново, она обречена на муки – и способна искупить посредством их чужие страдания, спасти душу мужчины. Из Хари Тарковского – созданной с неслыханным даже для режиссера-перфекциониста трудом, от выбранного на энный раз цвета волос до тембра голоса, который был найден при помощи уловок звукорежиссера, – родились одна за другой Бесс, Карен, Сельма, Грейс, Жюстина и Джо. В этом фильме Тарковского, которого даже поклонники считали автором предельно далеким от сексуальности в любых ее проявлениях, Триер нашел источник для изысканного эротизма, отягощенного едва ли не первородным грехом. Хотя и в языческих ритуалах праздника Ивана Купалы в «Андрее Рублеве», и в ключевой сцене «Жертвоприношения» этот мотив ощутим столь же отчетливо.
«Зеркало» – самый важный фильм для обоих, Тарковского и Триера. Родился из замысла «Исповеди», картины, которую русский режиссер собирался снимать скрытой камерой, как интервью. От этой идеи остался пролог, в котором юношу лечат от заикания. Точно такое обрамление, с интервью в документальной манере, у Триера получили «Идиоты». «Зеркало» – фильм о родителях, прежде всего о матери: мать Триера, открывшая ему тайну его зачатия уже на смертном одре, стала невидимой героиней доброй половины его картин, включая безжалостную мать Бесс в «Рассекая волны», сыгранную Лорен Бэколл хозяйку плантации в «Мандерлее», саркастичную героиню Шарлотты Рэмплинг в «Меланхолии» и «холодную суку» (больше о ней ничего толком не сообщается) из «Нимфоманки». Властная и самоотверженная материнская любовь, снятая, опять же, будто скрытой камерой, – одна из главных тем «Танцующей в темноте». Но и отец в триеровских картинах – персонаж невероятно важный, хоть появляется ненадолго и мимолетно, как отец в «Зеркале»: прежде всего это, конечно, глава гангстеров, любящий папа и идейный оппонент Грейс в «Догвилле» и «Мандерлее». В «Нимфоманке» в самом начале героиня рассказывает о родителях, называя отца лучшим человеком, которого она знала. Его смерть становится предметом для отдельной главы – единственной, связанной с сексом лишь косвенно, посвященной на самом деле ужасу ухода в мир иной и потери контроля над собственным телом. Неудивительно, что снята она на черно-белой пленке, протяжными медленными планами, напоминающими именно о Тарковском.
Однако «Зеркало» важно, конечно, не только поэтому. Жгучая и вместе с тем уклончивая исповедальность Тарковского унаследована Триером в полной мере. Он никогда и нигде не говорит о себе напрямую и, вслед за Тарковским, практически игнорирует профессиональный аспект собственной биографии, концентрируясь на психологии и интимных переживаниях. Впервые недвусмысленно ярко это проявляется в двух кризисных фильмах, снятых Триером один за другим: «Самом главном боссе» и «Антихристе». В обоих случаях режиссер расщепляет свой портрет на два противоположных и при этом схожих элемента: в «Самом главном боссе» два персонажа-автопортрета еще и встречаются в кинозале на сеансе «Зеркала». Сходным образом построена и «Нимфоманка», где, как и в «Антихристе», зеркало составлено из двух половинок – мужской (рациональной) и женской (интуитивной).
В «Нимфоманке» же напрямую цитируется знаменитая сцена с левитацией матери – в случае Триера речь идет о непроизвольном оргазме героини, поднимающим ее над землей. А предпоследняя глава, практически бессюжетная и лирическая, называется «Зеркало». В ней Джо отправляется в клуб анонимных сексоголиков, пытаясь вылечиться от нимфомании, но потом выясняет, что изгнать чувственного демона из своей квартиры все равно не удастся, даже если убрать из дома все намекающие на секс предметы и заклеить зеркало. Самое важное живет в мыслях и памяти – идея, на которой построен и фильм Тарковского.
«Сталкер» – это прежде всего Зона. Именно ее, пространство вне географии и привычных координат, воспроизводит Триер в своих ранних фильмах, начиная с «Картин освобождения» и заканчивая «Европой». Там же он использует метод сотворения условного мира, не привязанного к конкретному и опознаваемому хронотопу, который также применялся в «Солярисе» и «Жертвоприношении». Подобно Тарковскому, который выстраивал этот ландшафт кустарно, вручную, любовно складывая в единую картину обломки эпох, культур и цивилизаций, Триер остраняет родную Европу, превращая ее в постапокалиптическое царство хаоса и неуверенности.
Но «Сталкер» – это еще и родина персонажей-идеалистов, которые становятся главными для Триера, отражая все его мании и фобии, все сомнения в возможности рационального постижения мира и его усовершенствования. Таковы Писатель и Ученый, два интеллектуала, возомнившие о себе слишком много и решившие спасти человечество, дойдя до заветной, исполняющей желания Комнаты. Сам Сталкер другой, он блаженный, юродивый, правопреемник так и не осуществленного Тарковским князя Мышкина – и праотец блаженных героинь Бесс, Карен и Сельмы, «золотых сердец» Триера. От задуманного Тарковским «Идиота» к сделанным Триером «Идиотам».
«Ностальгия» – фильм, выразивший чувство, которое Тарковский считал специфически русским, тоской по оставленной родине. Тем не менее датчанин разделяет его и выражает в своих картинах, герой которых так часто оказывается странником, случайно занесенным судьбой в неуютное и незнакомое место. Вернувшийся в Европу Фишер, покинувший родной дом Месмер, навестивший историческую родину Лео Кесслер; швед Стиг Хелмер и исландец Финнур; иммигрантка Сельма, беглянка Грейс, ощущающая себя чужой на собственной планете Жюстина. Все они чужаки, как Крис на Солярисе, а Андрей Горчаков и его вымышленный прототип Павел Сосновский – в Италии. И для каждого преодоление физической дистанции менее значимо, чем внутреннее путешествие через пересохший бассейн со свечой в руке. Сжигающий себя блаженный Доменико, сыгранный Эрландом Юзефсоном – актером-фетишем Бергмана, которого боготворит и Триер, – еще одна модификация юродивого, впервые явленного Сталкером.
Наконец, «Жертвоприношение», еще одна, более глобальная история о самосожжении. Из нее рождается тот вселенский пожар, которым Триер завершает «Меланхолию» – свою картину о Конце Света. В ней, как и у Тарковского, Апокалипсис показан минимальными средствами и превращен в испытание для героев – большинство из них ликует, и лишь один (у Триера одна) решает выстроить неправдоподобное убежище ради спасения своих близких. Интересно и то, что «Жертвоприношение» родилось из замысла под названием «Ведьма», в котором колдунья-служанка Мария помогала господину Александру избежать катастрофы. Это возвращает нас к «Антихристу», фильму о сожжении ведьмы.
Читая статьи и лекции Тарковского, трудно найти там точки соприкосновения с Триером. Однако в дневниках Тарковского можно отыскать замыслы неснятых фильмов, очень похожие на то, что делает Триер. На «Антихриста» – сразу два. Первый: «Почему-то вспомнил сегодня идею – “Двое (оба) видели лису”». И второй: «Новая Жанна д’Арк» – история о том, как один человек сжег свою возлюбленную, привязав ее к дереву и разложив костер под ее ногами. «За ложь». Дерево, кстати, тоже было фетишем для Тарковского – от первого фильма до последнего, где оно играет уже центральную роль в символическом ряде картины. Когда в «Нимфоманке» отец героини водит ее в лес и показывает деревья, сравнивая их с людьми, она пускается на поиски собственного дерева и в конце концов находит на одинокой скале согнутое, искореженное непогодой, но не сломленное. Если Триер и видит в этом дереве себя, то корни его – где-то в фильмах Тарковского.
В «Антихристе», который Триер называл важнейшей своей работой, он достигает того, за что Бергман восхвалял Тарковского. «Фильм, если это не документ, – сон, греза. Поэтому Тарковский – самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да что, кстати сказать, ему объяснять?» На этом, необъяснимом, пора закончить краткий экскурс в «тарковский» бэкграунд датского режиссера. А напоследок констатировать: как бы этот факт всех ни раздражал, именно Ларс фон Триер – Тарковский сегодня. С одной важной поправкой: у него, Тарковского эпохи постмодернизма, в отличие от великого предшественника, – превосходное чувство юмора.
Глава 2
Освоение пространства
Принято считать, что Ларс фон Триер не путешествует. Его фобия к перелетам и далеким переездам – факт, но такой же непреложный факт – то, что многие фильмы режиссера сняты в других странах, хоть и ближайших к Дании: Швеции и Германии. Состав артистов всегда интернационален, проблемы и ситуации – глобальны. Если он и домосед, то специфический. Да, Америка для него – слишком отдаленное место, и туда он пока не собирается. Но до Канн, южной оконечности континента, северянин Триер добирался неоднократно: в первые годы своей карьеры на поезде, впоследствии – на автомобиле. Известно, что предложенный ему каннской дирекцией авиабилет на мировую премьеру «Элемента преступления» он обменял на три железнодорожных билета в вагон второго класса, для себя и своих постоянных на тот момент коллег и соавторов, оператора Тома Эллинга и монтажера Томаса Гисласона. Что опровергает еще один миф – о зацикленности режиссера на себе и пренебрежении к коллегам.
Он действительно не приезжал в Канны в год своего первого триумфа – когда за «Рассекая волны» ему был присужден Гран-при. Однако тот нервный срыв не помешал Триеру посещать все последующие фестивали, на которые приглашались его картины. До Венеции к премьере «Пяти препятствий» он не добрался, зато в Берлин на первый показ нецензурированной «Нимфоманки» приехал, щеголяя перед зрителями в футболке с надписью «Persona non grata. Selection officiel» и не сказав ни публике, ни прессе ни одного слова. Трудно утверждать с полной уверенностью, в чем причина выбора несуразно дорогих гостиниц, где Триер обычно селится, приезжая на фестивали (его дом и тем более студия в Дании выдержаны в спартанском духе): то ли это компенсация за психологический дискомфорт, то ли своеобразная акция протеста.
Нехватку личного опыта в области путешествий Ларс фон Триер восполняет фильмами. Их действие чаще всего разворачивается вдали от Копенгагена – в далекой Европе или Америке. Отдаление от предмета и среды описания с самого начала карьеры режиссер подчеркивает на языковом уровне. Уже второй фильм Триера, «Блаженная Менте», снят на французском, которого режиссер не знает. Остроумно отстранившись от чужого литературного материала (впоследствии все, за исключением «Медеи», картины он снимал по собственным сценариям), Триер полностью сконцентрировался на изображении, демонстративно не придавая значения диалогам. Не слишком они, по признанию автора, важны и в его англоязычном полнометражном дебюте, стилизованном под американский нуар «Элементе преступления». В «Эпидемии» персонажи-сценаристы пытаются придать своему будущему фильму вселенское значение, переводя его с родного датского на английский. В «Европе» английский язык маркирует главного героя, который приезжает в Европу из Америки. Действие «Рассекая волны» и «Нимфоманки» происходит в условной Великобритании, «Танцующей в темноте», «Догвилля» и «Мандерлея» – в столь же условных США. Но и во вселенских «Антихристе» и «Меланхолии» герои разговаривают по-английски.
Немаловажный смысл применения английского языка – интеграция в интернациональный контекст. Триер не стремится в Голливуд, но исповедует сознательный и последовательный космополитизм, в духе привитого матерью коммунизма: даже его мобильный телефон звонит мелодией «Интернационала». Те актеры, которые переходят из одного триеровского фильма в другой, по происхождению – европейцы, снимающиеся в англоязычных фильмах: немец Удо Кир, француз Жан-Марк Барр, швед Стеллан Скарсгорд, француженка Шарлотта Гэнзбур.
Ларс фон Триер любит обосновывать свою эстетическую стратегию, выбор сюжетов и персонажей, а также конкретных изобразительных технологий впечатлениями детства. Многократно упоминая о повлиявших на него фильмах, режиссер никогда не забывает назвать «Детей капитана Гранта» – своеобразную Библию путешественника, морскую кругосветку: из нее, по словам Триера, вышли все «водные» сцены его фильмов. Впрочем, напоминают они и о бесконечных потоках и заводях из картин учителей и кинематографических кумиров режиссера, судьбы которых прямо связаны с путешествиями. Бергман надолго уезжал из Швеции, жил за границей на правах эмигранта во время громкого скандала с налогами, снимал фильмы с американскими продюсерами («Змеиное яйцо») и на немецком материале («Из жизни марионеток»). Дрейер не был ни понят, ни любим на родине: он работал в Швеции («Вдова пастора»), Норвегии («Невеста Гломдаля»), Германии («Михаэль») и Франции («Страсти Жанны д’Арк»). Тарковский покинул советскую Россию и дал своему первому европейскому фильму название «Ностальгия». Йорген Лет уехал из Дании, чтобы поселиться на Гаити.
Любопытный факт: в карьере Ларса фон Триера можно найти примеры обращения к большинству жанров современного кино. Нет только одного: road movie, «фильма дороги». Герои Триера прибывают издалека или отправляются в незнакомые места, но процесс путешествия практически всегда остается за кадром. Лишь в самом исповедальном и эксгибиционистском фильме, «Эпидемии», Ларс вместе с соавтором сценария Нильсом отправляется на автомобиле в соседнюю Германию. Окружающий мир, увиденный из окна, подчеркнуто безлик и бесцветен, как и бесконечно одинаковая земля, наблюдаемая доктором Месмером с вертолета, на котором он облетает зачумленные равнины. Краски в повествование привносит рассказ Удо Кира, с которым Ларс и Нильс встречаются в Кельне, – его повесть о рождении под бомбами союзников (полностью фиктивная, хотя и воспринятая многими зрителями как реальность) оказывается куда более увлекательным путешествием, чем фактические передвижения сценаристов. Путешествия, на сей раз по железной дороге, мы встречаем и в «Европе». Железнодорожная компания «Zentropa», куда поступает работать проводником главный герой, не позволяет ему преодолевать пространство, а, напротив, замыкает в малодружелюбной тесноте узких коридоров и неуютных купе, в которых его периодически настигают сердитые клиенты или строгие экзаменаторы, решающие вопрос его трудоустройства. Не случайно именно вагон поезда, из которого невозможно выбраться по собственной воле, становится в конечном счете могилой незадачливого американца.
Одна из (и, по мнению режиссера, самая удачная) короткометражек, снятых Триером в Киношколе, называется «Ноктюрн». Семиминутная зарисовка, перегруженная загадочными символами, напоминает о лучших образцах видеоклипов 1980-х. Ее сюжет – беспокойная ночь, проводимая героиней накануне отлета из родного города. Единственная сюжетообразующая деталь – авиабилет «Копенгаген – Буэнос-Айрес»: возможно, самый дальний маршрут, пришедший в голову молодому режиссеру? В финале «Ноктюрна» девушка с чемоданом выходит из дома на рассвете и в последнем кадре бросает взгляд на небо, чтобы увидеть стройно летящих в неизвестном направлении птиц. Эта невозможность полета, которую пытается преодолеть лишенный крыльев человек, стала фактически отправной точкой зрелого творчества Ларса фон Триера.
Чужестранец
В дипломной работе «Картины освобождения» Триер впервые применил драматургическую модель, ставшую позже фирменной, вплоть до «Антихриста» и «Нимфоманки»: построил предельно загадочное пространство, ни разу не показанное общим планом, и заставил взаимодействовать в нем двух персонажей, мужчину и женщину. Мы не знаем о них практически ничего: ни черт характеров, ни продолжительности отношений, ни взаимных обязательств. Известны только имена – Лео, Эстер – и географически-историческая ситуация. Действие происходит на следующий день после окончания Второй мировой войны в Копенгагене, где солдаты и офицеры немецких войск готовятся к приходу союзников. Нацист Лео вновь встречается с былой возлюбленной, датчанкой. Он в Дании – оккупант, внезапно, в течение одного дня, превратившийся в нежеланного иностранца. Двусмысленность его положения очевидна: придя на чужую территорию для того, чтобы ее подчинить, в результате он оказался пленником. Пейзаж предательски меняется. Сначала вокруг Лео – инфернально-огненные закоулки (первая сцена снималась на заброшенной фабрике) неидентифицируемого лабиринта. Потом он вроде бы находит точку знакомых координат, Эстер, но их любви, похоже, пришел конец. Отношения лишь сохраняют видимость для того, чтобы привести Лео к закономерному трагическому финалу: он оказывается в лесу – якобы для того, чтобы спрятаться от союзников. Именно там его настигает кара партизан. Пытаясь скрыться, герой оказывается в ловушке по воле и вине своей бывшей возлюбленной. Лес становится не укрытием, а чужим и угрожающим местом, где нетрудно заблудиться. Это и происходит – за кадром – с Лео, которого ослепляют. Лишают зрения и тем самым последнего шанса найти выход из ситуации и пейзажа.
Характерна нетривиальная точка зрения, выбранная Триером: родной город показан глазами врага, чужака, иностранца. Совпадение этих определений в одном персонаже обусловлено историческими фактами, но в дальнейшем и в куда менее конфликтных ситуациях любой пришелец в фильмах Ларса фон Триера будет становиться нежеланным и подлежащим наказанию и/или изгнанию. Для двух из трех своих трилогий режиссер выбирает название с указанием на географию: в первой («Элемент преступления», «Эпидемия», «Европа») это Европа, рассматриваемая как чужое и незнакомое пространство, в третьей, начатой «Догвиллем», – США. В своих фильмах Триер предлагает одну за другой разнообразные модели столкновения персонажа с незнакомым ему пространством.
В «Элементе преступления» рассматривается ситуация эмигранта, приехавшего на родину после многолетнего отсутствия: отвыкнув от знакомых реалий, не успев понять суть произошедших изменений, детектив Фишер оказывается один на один с неизвестной Европой. В «Эпидемии» Ларс фон Триер и Нильс Ворсель (не авторы сценария, а персонажи) едут в Кельн на правах туристов, чтобы выслушать своеобразную городскую легенду в исполнении своего приятеля Удо Кира. Меж тем, герой фильма доктор Месмер отправляется вглубь родного континента, контуры которого искажены после страшного мора, – открывает землю заново как первопроходец-миссионер. В «Европе» в Германию приезжает иностранец, чьи корни опять-таки лежат здесь, в неведомой стране, прекраснодушный американец Леопольд. В «Танцующей в темноте» мы сталкиваемся с ситуацией еще одного эмигранта – матери-одиночки из Чехословакии, Сельмы. В «Догвилле» мы видим Грейс, которая попадает в чужой ландшафт, не выезжая за пределы необъятной родины – США; в отличие от Месмера, она не путешественник, а беглец. Нельзя не обратить внимание на еще одну деталь: даже в тех картинах, сюжетная основа которых не предполагает появления странника в незнакомых краях, все равно сохраняется общая конфликтная схема.
Единственный раз в жизни Триер осуществил постановку не по своему сценарию. Это дань почтения автору нереализованного сценария, духовному отцу и учителю Дрейеру, – телевизионный фильм «Медея», основанный на трагедии Еврипида. Вряд ли можно считать случайным, что, выбрав раз в жизни чужой – даже дважды чужой – сюжет, Триер остановился именно на «Медее»: истории нелюбимой жены, которую мужчина оставляет ради молодой красавицы царской крови, истории иностранки, которую муж вывез из далеких стран, чтобы потом бросить. Ясон оставляет Медею в краю, далеком от родного дома, где ничто и никто не может поддержать ее, защитить ее права. Жуткое решение героини отомстить мужу, убив его невесту, а заодно общих с ним детей – поступок человека, которому нечего терять. Действие мифа о Медее должно происходить в Древней Греции, но Триер переносит его в скандинавские широты, придавая антуражу сходство с бытом викингов. Режиссер вновь рассказывает о чужеземце в своей родной стране, и вновь с его точки. Этим путем достигается двойной эффект: отстранение знакомого пейзажа, показанного глазами неофита, и создание непроницаемого, загадочного героя, в душе которого ни зритель, ни сам автор читать не в состоянии.
Принесший известность Триеру телесериал «Королевство» – о призраках и демонах, поселившихся в крупнейшей копенгагенской больнице. Очевидно, что мифологическое пространство огромного госпиталя (на что указывает и название) соотносится с Данией как таковой. Но есть в этом мире и свой пришелец, главный отрицательный герой – шведский врач Стиг Хелмер, гениально сыгранный Хьюго-Эрнстом Ярегардом. Это единственный персонаж, без которого сериал не может существовать: именно поэтому задуманное в качестве трилогии «Королевство» так и осталось двухчастным, неоконченным, после безвременной кончины Ярегарда. Швед – ярый националист, ненавидящий все датское, но неизменно вызывающий симпатию зрителей. Ведь, несмотря на то что именно Хелмер стал причиной психического заболевания девочки Моны, которую он оперировал, он в больнице – чуть ли не единственный нормальный человек. Стоя на крыше госпиталя, глядя в сторону скрытого за покровом ночи шведского берега и призывая на моральную помощь национальные тотемы: «Абба! Вольво! Улоф Пальме!» – он пытается создать островок здравого смысла в царстве безумия вокруг себя.
Точно так же действует еще в одном датском проекте Триера – комедии «Самый главный босс» – покупатель IT-фирмы, исландский бизнесмен Финнур, роль которого поручена самому знаменитому в Исландии кинорежиссеру Фридрику Тору Фридрикссону. Он бесконечно орет на своих деловых партнеров и никак не может простить им присвоения бесценных исландских саг. Но и в самом деле, как бы ни было неприятно поведение чужака-наблюдателя, именно он позволяет нам увидеть те странности, которые так привлекают незнакомца в Дании. Пародируя эксцентричных датчан, Триер признается им в любви – странного обаяния полны все без исключения образы «Королевства», от вечной симулянтки, любительницы спиритических сеансов фру Друссе до фанатика науки, патологоанатома Бондо, пересаживающего себе печень с саркомой; менее колоритны, но столь же уникальны персонажи «Самого главного босса» – сотрудница, каждый раз впадающая в панику от звука работающего принтера, или выходец из деревни, норовящий подраться с начальником. Не случаен в этой галерее и иностранный специалист, который так и не овладел датским языком (его играет обреченный на это трагикомическое амплуа Жан-Марк Барр). Лишь швед в больнице, все врачи которой состоят в тайной масонской ложе, и исландец в офисе, где работают одни чудаки, пытаются сохранить остатки рассудка, хотя со временем и им приходится начать вести себя крайне странно. Портреты Хелмера и Финнура – вопиюще неполиткорректные, но отнюдь не ксенофобские. Каждый из них – нормальный, средний, банальный человек, не желающий признавать возможность существования нереального, волшебного, иного мира.
В «Королевстве» дело доходит до удивительного парадокса, когда, сражаясь с безумием больничных порядков, Хелмер выходит за границы логики и отправляется на Гаити, чтобы обучиться вудуистской магии и при ее помощи извести особо отвратительных врагов (один из них – добродушнейший начальник и покровитель шведа). Триер даже вводит в действие специального персонажа-проводника, тоже очевидного иностранца, который везет Хелмера на Гаити, – чернокожего лаборанта играет актер Майкл Симпсон. В этом сюжете выходит за пародийную аллюзию на Йоргена Лета, эмигрировавшего из Дании на Гаити в поисках более чистых источников кинематографического вдохновения.
Образ чужака с первого фильма передается Триером через межрасовый контраст, обеспеченный присутствием чернокожего актера и персонажа, хотя бы и на второстепенных ролях; недаром современная Дания мечется между взаимоисключающими имиджами самой толерантной страны мира и вотчины скрытой ксенофобии, которой посвящена большая доля сатирической продукции. В ранних картинах эти роли исполняет Майкл Симпсон, чья чужеродность в «Эпидемии» показана особенно выразительно – через небольшой эпизод, в котором таксист неожиданно начинает от души смеяться над самим Триером, а тот чувствует себя с каждой секундой все более неуютно, не понимая причин смеха. Другой чернокожий, исповедующий нетрадиционные методы лечения, спасает от смерти фру Друссе и доктора Бондо, вырывая зараженные органы из их тел и сразу пожирая. Среди чудовищ Догвилля – чернокожая уборщица и ее дочь-инвалид, по своему социальному статусу наиболее близкие Грейс, но объединяющиеся с остальными в угнетении безгранично доброй героини. Наконец, в «Мандерлее» различие черного и белого человека становится главным предметом исследования – теперь в меньшинстве уже белые, попадающие в мир чернокожих; перевертывание ситуации лишь усугубляет ощущение чужеродности, которое неминуемо испытывает в предлагаемых обстоятельствах каждый герой Триера.
В «Рассекая волны» нет иностранцев, действие разворачивается в замкнутой общине. Завязка конфликта – появление в деревне чужака Яна, городского работяги с нефтяных вышек. Его женитьба на Бесс поначалу кажется воплощением возможного счастья, но после тяжелой травмы, навеки превращающей Яна в лежачего больного, именно чуждый местным жителям образ мысли становится причиной финальной трагедии. В «Идиотах» нет ни иностранцев, ни чужаков: сам взгляд придуривающихся персонажей на окружающую Данию превращает их если не в пришельцев, то в детей, открывающих будничный мир ежедневно. Шокирующая развязка обеспечена лишь тайной прошлого Карен, новичка, а значит, чужака, в круге «идиотов». Тот же финальный шок, хотя и другого рода, обеспечивает иной секрет, хранимый до последнего момента героиней «Догвилля», Грейс. Жюстина из «Меланхолии» сама ставит себя в положение изгоя, отказываясь принимать правила игры, навязанные социумом и семьей. Джо из «Нимфоманки» в самом деле изгоняется: таков ее осознанный выбор.
С одной стороны, иностранец – персонаж страдающий, с другой, опасный именно по причине своей чуждости: можно понять окружающий мир, не желающий впускать в себя пришельца. Лео из «Картин освобождения» – одновременно и мученик, и оккупант, убийца и преступник (зритель остается в неведении – действительно ли он пытал партизан и заслужено ли его наказание). Фишер из «Элемента преступления» чувствует себя настолько некомфортно в чуждой и даже враждебной среде, что со временем перевоплощается в опасного маньяка. Месмер из «Эпидемии», желая спасти мир, несет в него бациллу чумы. Медея лишает жизни собственных детей. Леопольд из «Европы» поневоле становится сообщником фашистских партизан. Желающий добра своей наивной жене Ян толкает ее к проституции в «Рассекая волны». Даже безобидная Сельма в «Танцующей в темноте» совершает жестокое убийство. Что до беглянки Грейс, то исходящую от нее угрозу жители Догвилля чувствуют с первой секунды – и, как показывает финал, они правы. Черные рабы с плантации Мандерлей в одноименном фильме встречают ту же героиню (сыгранную уже другой актрисой) чуть более гостеприимно, но к финалу мы понимаем, что и они от нее не ждут ничего хорошего: просто им необходима новая хозяйка. В финале Грейс оказывается заложницей парадокса: ее берут в плен, чтобы она наказывала непокорных негров и заменила немилую демократию привычными репрессиями.
Более абстрактные и отстраненные от конкретных времени или пространства «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка» уже избавлены от пришельцев или иностранцев. Тем не менее главные героини всех трех картин чувствуют себя отчужденными от мира, в котором живут: одна из них ведьма, другая постоянно находится в депрессии, третья одержима сексом. Недаром в начале «Меланхолии» Жюстина оказывается гостьей на собственной свадьбе, до которой никак не может добраться – лимузин не способен проехать по узкой горной дороге. Главный же чужак и незнакомец, встреча с которым сулит вселенскую катастрофу, – незваная планета Меланхолия, неожиданно возникающая в небе.
Пункт назначения: Европа
Первые три полнометражных фильма Ларса фон Триера складываются в трилогию «Е» – или «трилогию Европы». Однако основные ее темы заявлены еще в «Картинах освобождения». Один из безымянных персонажей – многочисленных фашистских солдат и офицеров, оказавшихся перед лицом смерти в Копенгагене, – безуспешно пытается соединиться с фатерляндом по телефону, произнося в трубку одно за другим названия немецких городов. Германия в картинах Триера – одно из воплощений таинственной и часто непривлекательной Европы. Немцы – люди умные, они, в отличие от американцев, не обижаются на датского режиссера, поскольку понимают, насколько условны как эта Германия, так и весь континент по версии Триера. Сам режиссер объясняет свой выбор самыми тривиальными причинами: «Глядя в сторону Европы из Дании, прежде всего мы видим Германию: с точки зрения датчан, это и есть Европа… что, разумеется, ошибочно, поскольку существует еще большая страна под названием Франция, страна в форме сапога под названием Италия, но на датском горизонте они менее заметны». В результате большая часть географических названий «Элемента преступления» звучит по-немецки, герои «Эпидемии» едут из Дании в Кельн, действие «Европы» происходит в послевоенной Германии – кажется, сразу после событий «Картин освобождения». На этом и Германия, и вся «европейская» тема внезапно исчезают из триеровского творчества, чтобы уступить место комическим конфликтам датчан со шведами («Королевство»), а после – путешествиям в Шотландию («Рассекая волны») и США («Танцующая в темноте», «Догвилль», «Мандерлей»). Правда, самый странный и личный свой фильм, «Антихрист», режиссер тоже поехал снимать именно в Германию.
Как обнаружил сам режиссер уже после съемок «Картин освобождения», в нем течет немецкая кровь. Однако искать сложных объяснений германофилии (или фобии?) Триера, может, и не нужно, поверив на слово самому режиссеру, – по его утверждению, ему доставляет удовольствие само звучание немецких топонимов. Литания с их перечислением начинается в «Картинах освобождения» в диалоге с бестолковой или просто отсутствующей телефонисткой; то же перечисление немецких населенных пунктов, так и не появляющихся на экране, возникает в «Эпидемии» (сцена путешествия Ларса и Нильса) и «Европе» (станции, которые минует на пути следования поезд). Вспоминая самые интимные моменты детства, в своем монологе в «Эпидемии» Удо Кир (в реальной жизни – немец, живущий вне Германии) рисует картины рушащегося во время войны Кельна. Правда, даже с ним герои разговаривают по-английски. Триер, убежденный антиглобалист, смиряется с переходом мира на новое эсперанто – английский, однако тем более зловещей и угрожающей выглядит та атмосфера взаимонепонимания, которая царит среди людей, нашедших общий язык. Напротив, немецкий с самого начала связан с ностальгической, домашней темой.
Тем не менее первая трилогия все же посвящена не Германии, а Европе в целом. Ее видение Триером формулируется наиболее отчетливо и последовательно в «Европе». Сюжет повторяет «Америку» Франца Кафки – писателя, близкого Триеру. В романе Кафки молодой неопытный европеец прибывает в таинственную, страшную, но и прекрасную страну Америку, где сперва ему покровительствует странный родственник, дядя, а потом он делает несколько роковых ошибок, которые, по замыслу автора, должны привести к фатальному финалу. В «Европе» полностью копируется структура интриги, разве что герой Триера Лео Кесслер чуть старше Карла из романа Кафки. Есть и дядя, и неприятности, и концовка, не дописанная, но обозначенная чешским писателем в дневниках. Известно, что сам Кафка в Америке никогда не бывал и считал этот факт стимулирующим творческий процесс. Точно так же как далекий, недоступный и незнакомый мир, трактует свою родную Европу Ларс фон Триер. Даже при учете некоторой отдаленности Дании от центральной части континента дистанцирование здесь предстает метафорой, приемом, а никак не отражением реальной ситуации.
Место действия трех первых фильмов Триера – не реальная Европа, но воображаемая объединенная Европа будущего. Странные фантазии «Элемента преступления», нечетко обозначающие время действия, критики поначалу в один голос называли футурологическими. Стоит обратить внимание хотя бы на то, что главные герои – Фишер, Озборн, Ким и Крамер – лишены либо имен, либо фамилий, и определить их национальную принадлежность практически невозможно (полноценные и, кажется, американские имя и фамилия есть лишь у воображаемого маньяка-киллера Гарри Грея). Верный своей схеме «чужак в краю чужом», Триер в каждом из трех фильмов создает ситуацию, в которой герой, давно живущий вне Европы, приезжает в нее издалека и не узнает. Сыщик Фишер из «Элемента преступления» давно обитает в Каире, откуда и отправляется в Европу, доктор Месмер из «Эпидемии» будто заново открывает родной край, выкошенный чумой, а американец Леопольд из «Европы» впервые видит страну, откуда исторически происходит и о которой тщетно грезил столько лет.
В каждой из трех картин по-своему разрабатывается образ объединенной, мутировавшей Европы. В «Элементе преступления» это просто земля, «где все изменилось», воплощение неустойчивой коллективной памяти, оставившей неточный отпечаток в сознании главного героя. Некоторые образы фильма можно считать символическими картами Европы: архив, большая часть которого утонула в сточных водах и перестала быть различимой глазом, или морг, в котором орудуют замечательные специалисты с, похоже, окончательно атрофированными чувствами. В «Эпидемии» границы между странами стирает уничтожившая, по всей видимости, большую часть населения чума: кошмарная абстракция поддерживается библиотечными эпизодами, в которых звучит реалистическое описание Великой Чумы, уничтожившей пол-Европы много столетий тому назад. В «Европе» опустошенная Европа переживает послевоенный шок после насильственного гитлеровского объединения и не знает, что делать с этим единством: отсутствие нацистского порядка обернулось анархией. Поэтому железнодорожные перевозки, которыми занимаются центральные герои картины, превращаются в уникальный способ вновь связать порвавшуюся нить, соединить отдаленные точки единой линией. Но и эта связь – не более чем иллюзия, поскольку ни выйти за пределы поезда на долгое время, ни сменить обстановку, ни сбежать от преследующих его сомнений главный герой не в состоянии. В завершающем фильме трилогии особенно очевидна связь мифологии Триера с историко-географическими реалиями и эхом Второй мировой войны. Три из четырех его европейских фильмов так или иначе развивают тему нацизма и его последствий. В «Картинах освобождения» и «Европе» предлагается послевоенный пейзаж, в «Эпидемии» о военном времени вспоминает Удо Кир. Да и вообще нацизм – та же чума, от этого клише не избавиться.
Мор, война, опустошение и разброд – такой предстает объединенная Европа в изображении Триера. Описывая собственную одержимость Европой или приписывая ее персонажам, режиссер будто избавляется от континента, уничтожает его, стирает с карты, лишает конкретных примет, превращает в условный знак. Снимая трилогию, режиссер двигался назад по вымышленной хронологии. В «Элементе преступления» создается впечатление мира после крушения, катастрофы, в котором больше не имеют значения границы, национальности и языки. В «Эпидемии» рисуется картина этой катастрофы – чумы, становящейся причиной гибели всего живого на континенте. Наконец, в «Европе» появляются более-менее конкретные очертания нового мира накануне рождения (то ли скандинавское мифологическое обновление земли после Рагнарёка, то ли заря обычного послевоенного строительства). Таким образом, апокалиптическая ситуация закольцовывается.
Триер использует различные метафоры для обозначения «европейского» пространства. В «Европе» континент предстает железнодорожной сетью – будто незащищенной человеческой ноге опасно ступать на эту землю, и лишь рельсы и поезда могут позволить беспрепятственно передвигаться из одной точки в другую. В «Эпидемии» континент становится братской могилой – ведь при предполагаемых горах трупов, мертвых тел на пустошах условной Европы практически не видно; подразумевается, что прах успел стать прахом и земля потеряла имя, избавившись от населявших ее людей. Наконец, в «Элементе преступления» и отчасти в «Картинах освобождения» возникает образ континента как свалки, своего рода пикника на обочине.
Эта ситуация позволяет соединять несочетаемые образы и предметы, не заботясь о следовании здравому смыслу и логике, думая лишь о необходимом эмоциональном эффекте. В «Картинах освобождения» и «Элементе преступления» мы видим именно такую немотивированную помойку, которая в «Эпидемии» и «Европе» объясняется послевоенным или чумным кризисом цивилизации. Как лишенные прямых функций предметы, так и пустоты между ними позволяют создать алогичное абстрактное пространство, в котором и разворачивается действие. Дисгармонирующие образы – по классическому рецепту швейной машинки и зонтика на анатомическом столе – дезориентируют зрителя. Той же цели служит манера раннего Триера избегать общих планов, снимать долгими тревеллингами, запутывая и не позволяя понять, как выглядит помещение и какой оно величины. Пытаясь найти хоть какую-то систему координат, зритель ищет объяснения увиденным формам, читая их как символы. Здесь его ждет ловушка: однозначного прочтения не предполагается. Отвечая на вопрос о птицах в первых кадрах «Картин освобождения», Триер заявил, что очень любит символы, но теряет к ним интерес в тот момент, когда кто-то дает им ту или иную трактовку. Здесь уместно вспомнить о розовом бутоне из «Гражданина Кейна», так и не объясненном образе из шедевра Орсона Уэллса – одного из особо почитаемых Триером режиссеров.
Расширение пространства за счет сокращения общих планов приводит к противоположному результату: создается клаустрофобическое ощущение, столь родственное эстетике Кафки. Ощущение закрытого подвала или котельной-тюрьмы в «Картинах освобождения» усиливается суицидальными эпизодами. В «Элементе преступления» крошечные комнатки гостиниц или маленькие неудобные автомобили исчезают лишь на берегу непреодолимых водоемов, будь то лабиринт подземной канализации или озеро-море. В «Эпидемии», спасаясь от чумы и выживших людей, доктор скрывается в пещере-норе. А сценаристы фильма, въезжая в тоннель, придумывают попутно вставной сюжет с похоронами заживо одной из второстепенных героинь, медсестры – немедленно на экране возникает образ женщины, просыпающейся под землей в заколоченном гробу (на эту роль Триер мстительно определил свою нелюбимую жену Сесилию).
В «Европе» герой не может выбраться за пределы мчащегося к неизбежному крушению поезда, и глухая стена сменяется иллюзией двери или окна, забранных решеткой (в финале та становится причиной гибели Лео). Неуютное самоощущение в замкнутом пространстве подчеркнуто тем, что по сюжету оно всегда незнакомо: отель вместо дома в «Элементе преступления», чужой дом или поезд в «Европе», полное отсутствие жилья в «Эпидемии». Даже обжитый кем-то другим дом выглядит абсурдно неприспособленным для нормального повседневного быта: достаточно вспомнить занавеску из дома Озборна в «Элементе преступления», которую по специальному указанию режиссера повесили снаружи окна, чтобы она мокла под искусственно созданным дождем. Однако почти всегда Триер неожиданно дает своим персонажам, а заодно и зрителям, вдохнуть свежего воздуха, резко меняя убогую обстановку замкнутого пространства на почти безграничный открытый пейзаж. Самый очевидный контраст мы наблюдаем в «Эпидемии», когда Месмер покидает свое убежище и выходит на солнце. Но и раньше, когда он летит над полями на веревочной лестнице, спущенной с вертолета, вдруг открываются немыслимые и непреодолимые просторы. В сущности, они столь велики, что перед их величием человек оказывается не менее беспомощным, чем перед запертыми дверьми каморки. Помимо своей воли попав в обманчиво-спасительный лес, Лео из «Картин освобождения» оказывается связанным по рукам и ногам, а затем ослепленным. Его финальное вознесение над лесом, синхронно с восходом солнца, есть не что иное, как смерть. Так же и в «Элементе преступления» таинственная секта прыгунов с тросом находит в прыжках не только освобождение, но и гибель. По Триеру, человек – существо несвободное, столкновение со стихией для него хорошо кончиться не может.
Лишая пространство Европы цивилизованного облика, Триер, как заправский алхимик, разлагает его на четыре первоосновы – воздух, землю, огонь и воду. Адский огонь полыхает в окрашенной алым преисподней, где ждут своей участи нацисты из «Картин освобождения»; стремясь выжить, Лео ищет спасения в желтых интерьерах дома своей возлюбленной, где ветер колышет занавески, а затем окончательно отдается воздушной стихии, расставаясь с жизнью в зеленых декорациях леса (разные части фильма окрашены режиссером по-разному). Земля превращается в безразличное огромное кладбище тщетных человеческих стремлений и надежд, не метафорически, а вполне конкретно: трудно воспринять иначе мусорные холмы и равнины «Элемента преступления». Но, конечно, наибольшее внимание режиссер уделяет воде, вновь повторяя в этом Бергмана и Тарковского. Триер любит воду, он часами принимает ванну – этот процесс запечатлен в «Эпидемии», а в свободные часы плавает вокруг дома на каяке.
В «Элементе преступления» вода заполняет собой все, стирая столь необходимые следователю Фишеру отпечатки пальцев убийцы: будь то канализация, разделяющие дома каналы или открытый водоем. Нельзя забывать, что Фишер прибыл в Европу из Каира, ставшего его вторым домом, где вода в дефиците. Так и в «Эпидемии» мы не увидим очищающего огня, который, согласно традиции, один лишь и способен побороть чуму (по утверждению одного из персонажей, зачумленный город был предан огню). Зато в кадре все заливает болотистая вода – разносчик болезни. Другая «жидкая стихия», вино, тоже становится поводом для разговора о своего рода заразе – виноградной тле. А в «Европе» в воде находит свой конец наивный проводник-американец в исполнении Жан-Марка Барра. Вода окружает героев со всех сторон – постоянно льет дождь, который, по словам режиссера, позволяет лучше обрисовать силуэт человека и создать контрастную картинку. Европа Триера – затопленная Атлантида. Позже, покидая Европу, режиссер прощается и с водной болезнью: в «Рассекая волны» бушующая морская вода уже четко отделена от суши, в «Идиотах» водная стихия заключена в рамки обычного бассейна, а в «Танцующей в темноте» оборачивается маленькой и грязной речушкой по колено. «Догвилль» и «Мандерлей» – первые окончательно сухопутные фильмы Ларса фон Триера.
Человек, не путешествующий в реальности, Триер одержим путешествиями воображаемыми, картами и планами. Перечисление немецких городов в «Картинах освобождения» сопровождается тревеллингом по заводской свалке, на которой песочные бугорки или отработанные детали напрямую соотносятся с произносимыми географическими названиями. В «Элементе преступления» города, в которых Гарри Грей совершал убийства, будучи отмеченными на плане местности, превращаются в инициал «H»; кривоватая литера становится путевой картой для Фишера. В «Европе» говорит сам за себя невольный схематизм железнодорожных путей, соединяющих пункты назначения. В «Эпидемии», где собственно путешествие никак не отмечается графически, есть крайне важный эпизод, в котором Ларс и Нильс пытаются набросать план будущего сценария, вычерчивая на стене квартиры его схему, напоминающую маршрут на карте. Точно таким же образом сам Ларс фон Триер – не персонаж фильма, а реальный человек и режиссер – нарисовал на стене своего кабинета в студии «Zentropa» пятнадцать лет спустя план выдуманного города Догвилля, прилепив в условные квадратики домов фотографии актеров-персонажей. А позже этот план с поразительной точностью перешел из воображения автора в картину, декорации которой сводятся большей частью к «картографической» разметке на полу павильона. Таким образом радикально не похожая на первые фильмы режиссера американская часть его творчества во многом унаследовала приемы и методы перемещения в пространстве, освоенные Триером на заре карьеры.
Пункт назначения: Америка
Вновь Кафка. Во время написания своего первого – не оконченного и не опубликованного при жизни – романа «Америка» Франц Кафка, кажется, даже гордился тем, что не побывал в стране, где происходит действие его будущей книги, и намеренно допускал некоторые неточности, вроде обнаженного меча вместо факела в руке статуи Свободы. Не логично ли было предположить, что использовавший в своих ранних фильмах сюжетные мотивы «Америки» Ларс фон Триер тоже захочет рано или поздно снять фильм о стране, в которой он не был и в которую не собирается ехать? Так и произошло с наступлением нового тысячелетия, сперва в «Танцующей в темноте», а затем в «Догвилле» и «Мандерлее».
Благосклонный прием, оказанный «Танцующей в темноте» и «Догвиллю» в России (первый фильм, несмотря на «Золотую пальмовую ветвь», встретил в Европе массу критических отзывов и не имел успеха в Америке, «Догвилль» не удостоился ни одного международного приза и принес весьма скромные сборы), объясняется не столько изысканными вкусами нашей публики или агрессивным настроем в отношении Соединенных Штатов, сколько национальной культурной традицией. Задолго до Кафки Достоевский «отправил» героя «Преступления и наказания» Свидригайлова в Америку – где писатель также никогда не был, но к которой не уставал возвращаться в книгах, – что приравнивалось к переходу в мир иной, самоубийству. Все одержимые демонами персонажи «Бесов» приехали в Россию из Америки, туда же хотел бы бежать с Грушенькой Митя Карамазов: характерно, что в голливудской экранизации романа с Юлом Бриннером именно бегством в США и кончилось дело. А для русских читателей Достоевского Америка долго еще оставалась страной загадочной, недостижимой, волшебной: местом действия «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, в котором слово «Канзас» звучало не менее волшебно, чем «страна Жевунов». Советский железный занавес и холодная война лишь усилили стереотип Америки как зазеркалья – для одних со знаком плюс, для других с минусом и только в России могла появиться на свет песня «Гуд-бай, Америка, где я не был никогда». С этой же Америкой, в которой он не был, здоровается и прощается в своих поздних фильмах Ларс фон Триер.
Американцы появились в фильмах Триера задолго до того, как он сам отважился «отправиться» в США. Еще в «Картинах освобождения» Лео находит Эстер в ее доме, где та крутит любовь с заокеанским солдатом-освободителем. В конфликте он не участвует, и даже отмщение Лео – дело рук датского сопротивления, а не строгих судей из-за океана. Всесильный, но безразличный наблюдатель, вынужденный ограничиться второстепенной ролью: таков американец в этом фильме. Более полный портрет пришельца из США – и уже не частный, а групповой – создан в «Европе», интрига которой зеркально повторяет сюжет «Америки» Кафки. Главный герой, прибывший в Германию из Америки Леопольд Кесслер, – персонаж столь же пассивный, сколь и его тезка-немец из «Картин освобождения». К моменту его прибытия в послевоенную Германию там уже правят бал американские военные власти. Их представитель – влиятельный полковник Харрис (эту роль исполняет культовый актер Эдди Константин, сыгравший когда-то главную роль в повлиявшем на «европейскую» трилогию «Альфавиле» Жан-Люка Годара), друг железнодорожного магната Хартмана, в семью которого попадает и Леопольд. Именно Харрис, воплощающий закон, прикрывает служившего нацистам Хартмана и приводит в его дом подкупленного Еврея, чтобы тот официально обелил коллаборациониста. Он же предлагает главному герою работать на союзников и следить за тайным сопротивлением выживших нацистов (некоторые из них прячутся в доме Хартмана).
Двойная мораль американца усиливает конфронтацию сторонников нового порядка с приверженцами сокрушенного старого. В еще более сложной ситуации оказывается Леопольд, которому чуждо двуличие. Простодушный герой, памятуя, что война закончилась, пытается остаться нейтральным, оценивая окружающих по их человеческим качествам, а не по лагерю, к которому они принадлежат. Именно это позволяет обеим сторонам использовать его в своих целях. В итоге он из-за своего неведения становится организатором крупнейшего теракта, результат которого – его собственная гибель. Поневоле в нестабильный мир Европы пришлый американец приносит несчастье.
Кафкианская составляющая проявляется и в «Эпидемии», из которой следует, что связующим звеном между фильмами датского режиссера и романами австрийского писателя был именно сценарист Нильс Ворсель. Перед кульминационной сценой Нильс разглагольствует о своей любви к Америке, которую бы не худо воплотить в фильме рано или поздно. Он даже рассказывает анекдот о своей переписке с девушками из Атлантик-Сити, с одной из которых он чуть было не познакомился – если бы не ее чопорная тетушка, воспрепятствовавшая контакту молодых людей. Комический эпизод невольно напоминает сцены ухаживания Карла Россмана за богатыми американскими наследницами в той же «Америке».
«Танцующая в темноте» стала первым «американским» опытом Ларса фон Триера. К тому моменту вышел и получил широкое признание в Дании эпохальный фильм учителя Триера, документалиста Йоргена Лета «66 сцен из Америки» (в 2003 году он снял и продолжение, «Новые сцены из Америки»). Снятый с позиций путешественника-антрополога, этот фильм с бесстрастным юмором и без видимого смысла соединял друг с другом неподвижные планы-картинки из жизни чужого континента. Вдохновленный Летом, но и одержимый желанием с ним посоревноваться – это желание не оставляло его вплоть до их совместного фильма-состязания, «Пяти препятствий», – Триер тоже отправился исследовать Америку. Разумеется, воображаемую: причин нарушать обет и совершать реальное путешествие на другую сторону земного шара не было. Решение сделать США местом действия «Танцующей в темноте» объяснялось несколькими факторами. Во-первых, по сюжету режиссеру было необходимо связать воедино эстетику классических мюзиклов и высшую меру наказания, причем непременно через повешение (практиковавшееся в 1950–1960-х годах именно в Америке). Во-вторых, международный состав актеров, в том числе голливудских, логически приводил к выбору места действия. В-третьих, после самого датского и самого реалистического фильма Триера, «Идиотов», ему хотелось сменить обстановку на как можно более фантастическую, выдуманную – недаром немалая часть «Танцующей…» происходит в воображении главной героини, – и здесь вновь идеальным выбором представлялась Америка.
Подбор актеров красноречив. В основном европейцы играют персонажей наивных и симпатичных: главную роль, иммигрантки Сельмы, – исландка Бьорк, ее лучшей подруги Кэти – француженка Катрин Денев, влюбленного в нее шофера грузовика – швед Петер Стормаре, любящего сына Джина – другой швед Владица Костич, доброго окулиста – немец Удо Кир, лояльного, хотя бы временами, менеджера на заводе – француз Жан-Марк Барр. Напротив, роли губителей героини исполняют сплошь американцы: отчаявшегося полицейского – Дэвид Морс, его глуповатой жены – Кара Сеймур, поневоле подводящих Сельму танцора Олдрича Новы и ее хореографа Сэмуэля – звезда мюзикла Джоэл Грей и Винсент Паттерсон соответственно.
За исключением этого правила, в котором тоже есть исключения, ничего антиамериканского в фильме нет. Америка выбрана столь же волюнтаристски, как родина главной героини. Когда Триера спросили на пресс-конференции в Каннах, почему ее зовут Сельма – имя-то не чешское! – он, ничуть не смущаясь, ответил: «Разве? А я был уверен, что чешское». Реальная этимология имени проста – одну из дочерей режиссера зовут Сельмой. Так же и Америка не узнается в деталях, за исключением звездно-полосатого флага у дома полицейского – как театральная декорация, он напоминает зрителю, где тот находится. Точно ту же функцию выполняет флаг в «Догвилле».
И все же выбор Америки как места действия не случаен. Рассказывая о судьбе очень маленького человека (фабричная работница, иммигрантка, мать-одиночка, да еще и слепнущая – кто может быть мельче?) в очень большой и могущественной стране, Триер просто не мог перенести действие картины в Данию, Германию или Великобританию. Чувство безнадежности и беспомощности перед лицом правосудия чужой страны рождается из географического отдаления: между героиней и ее покинутой родиной находится огромный океан. Америка в представлении Триера – воплощение системного массового мышления. Отсюда огромные заводы, где каждый работает одинаково быстро и хорошо (слепому там не место), отсюда судебный процесс, на котором убийца полицейского не может быть оправдан (даже если он – женщина и инвалид в придачу). Нарушая общепринятые законы – откладывая деньги, на которые полагается жить, не покупая сыну на день рождения велосипед, скрывая слепоту, – Сельма обрекает себя на гибель. Стоит ей высказать свое мнение о бывшей и новой родине на заводе, как невинные слова превращаются в роковое свидетельство на судебном процессе: «Она хвалила коммунизм». Но, странное дело, Америка отнюдь не представляется Сельме империей зла. Напротив, именно в этой стране она получает возможность вылечить болезнь глаз единственного сына, осуществив то, ради чего покинула родину. Кроме того, в Америке производят лучшие на свете мюзиклы. Когда эти слова звучат на суде, они вызывают у аудитории смех – им невдомек, что для Сельмы сентиментальные кинокомедии с песнями и плясками могут служить полноценным оправданием многих мучений и бед.
Для Триера не Голливуд, а вся Америка – полноценная фабрика грез. Только на этой почве может Сельма мечтать о мюзиклах, в которых она исполнит главную роль, и даже едва не сыграет на сцене в «Звуках музыки». Сохранив детские и юношеские воспоминания об американском кино, Триер воспроизводит их в «Танцующей в темноте», и все эмоциональные противоречия картины объясняются парадоксальными взаимоотношениями голливудских жанров. Гипертрофированная жестокость триллеров и детективов выливается в почти невыносимую сцену убийства Сельмой полицейского Билла. Суровое социальное кино дает о себе знать в эпизодах на заводе. Завораживающий формализм судебных драм чуть пародийно переосмыслен в сцене суда, а мрачная атмосфера тюремного кино – в заключительной части фильма. И если все это дисгармонирует со счастливыми и снятыми в иной стилистике (с использованием ста неподвижных камер вместо одной подвижной) танцевально-вокальными номерами из мира мюзикла, то не меньшую дисгармонию рождает тривиальное сравнение любого жанрового фильма со всеми хрестоматийными мюзиклами Голливуда. Мюзиклы стоят особняком, потому их и выбирает Триер.
Топография Америки в «Танцующей в темноте» включает всего несколько пунктов: завод, дом с трейлером в саду, больница, самодеятельный театр, здание суда, тюрьма. Симптоматично, что два главных места действия – завод и дом – соединены друг с другом железной дорогой, напоминающей о «Европе». На сей раз клаустрофобическое настроение создается без участия поезда и вагонов, поскольку обусловлено лишь слепотой Сельмы. Рельсы служат ей путеводной нитью, что является прозрачным намеком на опасный путь, на который ей предстоит вот-вот ступить ради единственного сына. Еще более аскетическую и скупую схему Америки представляет «Догвилль», карта которого – она же и есть сам город – нарисована мелом на полу съемочного павильона. Государство представлено одним населенным пунктом где-то в Скалистых горах – не зная, где это, Триер выбрал их исключительно за сказочно звучащее название. Население не превышает пятнадцати человек вместе с детьми. Когда-то городок был шахтерским, теперь здесь выращивают яблоки и шлифуют старые стеклянные стаканы, придавая им сходство с дорогим хрусталем; тем и живут. Весь пейзаж – невидимые глазу горы: это город-тупик, в который ведет дорога из ближайшего города. Дальше – обрыв. Догвилль состоит из одной центральной улицы и двух переулков, нескольких жилых домов, магазина, церкви и гаража единственного здешнего грузовика. На смену анонимным, но материальным пространствам «Танцующей в темноте» приходят воображаемые, но обладающие поэтическими названиями места: город, прозванный Собачьим, центральная улица Вязов, на которой не растет ни одного вяза, «Старая скамейка» (отчего она так зовется, бог весть, но аккуратная подпись мелом не позволяет забыть о названии). Впрочем, никакой идеологии в этих названиях нет – один сплошной прием: Триер отдает себе отчет, что нельзя быть условным во всем, где-то понадобятся и конкретные детали. Скажем, названия.
«Танцующая в темноте» была фильмом, действие которого лишь происходит в Америке. «Догвилль» – концептуальное произведение, открывающее трилогию «U.S.A.», по поводу которой режиссер дает детальные объяснения. По словам Триера, его взбесили упреки американских журналистов в Каннах после премьеры «Танцующей…» – почему, дескать, он снял картину о стране, в которой никогда не бывал? «Вы ведь сняли фильм о Касабланке, в которой не бывали», – парировал Триер и, как человек упрямый, решил посвятить Америке три фильма. Представляя «Догвилль» в Каннах, автор сопроводил его дотошным комментарием. По нему выходило, что «это Америка, но увиденная с моей личной точки зрения», что «это не исторический или научный, а эмоциональный фильм».
«В моих “американских” фильмах я отражаю ту информацию, которая доходит до меня, и свои чувства по ее поводу, – рассуждает Триер. – Разумеется, это не вся правда, поскольку я там не бывал (и все же могу утверждать, что знаю о США больше, чем создатели “Касабланки” о Касабланке)». Еще: «Будучи ребенком, я узнал, что, если тебе дана сила, надо быть справедливым и добрым, а этого в Америке мы не видим. Я очень люблю тех американцев, с которыми знаком лично, но в моем фильме больше от образа страны, в которой я не бывал, но к которой испытываю некоторые чувства. Я не считаю американцев более злыми людьми, чем остальные, но и не вижу, чем они лучше людей из государств-изгоев, о которых так любит говорить господин Буш. Я думаю, люди более или менее одинаковы повсюду. Что я могу сказать об Америке? Власть развращает. Это факт. И кстати, раз они так могущественны, я могу над ними смеяться – ведь этим я не причиню вреда Америке, так?» И наконец: «Я верю, что жители Догвилля были хорошими людьми, пока не появилась Грейс, так же как я уверен, что Америка была бы прекрасной, прекрасной страной, если бы в ней жили лишь миллионеры, играющие в гольф. Это было бы замечательное, мирное общество, но сейчас это не так, насколько мне известно. К сожалению, там живет и немало неудачников».
Но Триер не был бы собой, если бы не лукавил. Не случайно в другом месте и в другое время он говорил, что у всех жителей Догвилля – датские лица. Дело тут отнюдь не только в том, что прототипы художник всегда ищет рядом с собой. История, рассказанная в «Догвилле», универсальна, и изобразительная условность заставляет зрителя выстраивать предполагаемое место действия самостоятельно. Те, кто ненавидит Америку или, напротив, болезненно реагирует на любую критику в ее адрес, могут увидеть в фильме памфлет, но любой человек, способный к абстрактному мышлению, будет рассматривать картину как общечеловеческую притчу. Если бы не забавная реплика Тома Эдисона-младшего в самом начале картины – «мне кажется, эта страна о многом забыла», – по тексту диалогов невозможно было бы догадаться, что имеется в виду некое конкретное государство, а не выдуманный город из сказочного королевства.
Тем не менее упрямый Триер на каждом шагу напоминает незначительными и никак не связанными с основным сюжетом деталями, что место действия – Америка. Это для него – способ настоять на своем, а заодно заняться игрой с чужими стереотипами. Как только мы слышим радио, музыка сменяется речью президента США; Том тут же выключает приемник. Главное собрание жителей Догвилля, после которого меняется их отношение к пришелице, проходит 4 июля (одна из глав, на которые, по обыкновению, разбит фильм, так и называется – «В конце концов Четвертое июля»), и детский хор поет под американским флагом гимн. Всего несколько секунд, смешных и беззлобных, воспринимается как заставка в стиле Брехта: «Напомним, сейчас вы находитесь в США». Действие происходит якобы в годы Великой депрессии, но выражается это лишь в реплике садовода Чака, который ругает собственных детей, давших сторожевой собаке Моисею кость с мясом: нам, дескать, самим есть нечего. Только ведь и эта фраза скорее характеризует мизантропический характер персонажа, чем социально-экономическую обстановку.
Штамп следует за штампом. Америка – значит, флаг и День независимости. Великая депрессия – значит, голод и гангстеры в широкополых шляпах, разъезжающие на черных кадиллаках. На самом же деле нехватка провизии – лишь формальный повод, позволяющий горожанам угнетать терпеливую гостью. Гангстеры же занимаются противоправными действиями за кадром, лишь в последней сцене выполняя волю Грейс. Поэтому невозможно воспринимать в качестве серьезной политической критики даже самое откровенное высказывание Триера об Америке – фон финальных титров, нарезка фотографий из времен Депрессии под сопровождение классической песни Дэвида Боуи «Young Americans». Это момент чистого саморазоблачения американцев: автором фотоснимков, бесхитростно смонтированных Триером, было правительство США, документировавшее социальную катастрофу в 1930-х годах, а затем поместившее эти кадры в Национальный архив, где они и хранились. Ошеломляющий контраст с тремя часами антиреалистического действа – не идеологического, а эстетического свойства, и наибольшее впечатление на зрителя в любом случае производит библейский размах произошедших в картине событий, а никак не нужда, в которой находились когда-то какие-то американцы, по преимуществу давно сошедшие в могилу.
Остроумная игра с общими местами заметна и в кастинге картины. Пожилые звезды Голливуда, давно почитаемые Триером, Филип Бейкер Холл и Бен Газзара, были выбраны на роль провинциальных обывателей – более респектабельный Холл стал местным столпом общества, а Газзара получил роль слепого, позволив зрителям сравнить образ агрессивного и самоуверенного слепца на своей территории с беззащитным ослепшим чужаком из «Танцующей в темноте». Шарм кинозвезды старого Голливуда Лорен Бэколл перевоплотился в пошловатую повадку провинциальной торговки, а ее младшей сестрой и подпевалой было суждено стать звезде уже европейской, музе Бергмана Харриет Андерссон. Джеймс Каан отлично подошел на роль главы гангстеров: это уже не импульсивный бешеный мачо, каким он был в роли Сонни в «Крестном отце», а задумчивый философ, доросший до статуса дона Корлеоне. Наконец, фаворитка европейских режиссеров и главная чужеземка современного американского кино, австралийка Николь Кидман, получила роль беглянки Грейс, угнетаемой и используемой коренными жителями США. Французские критики сделали забавное наблюдение: возлюбленного героини Николь Кидман зовут Томом, и наверняка в этом можно прочитать намек на Тома Круза, много лет бывшего мужем актрисы. На протяжении всего фильма она ждет от любимого мужчины помощи – тщетно, а в финале, к общему восторгу, лично подносит пистолет к его виску: «Некоторые вещи приходится делать самой». Думал об этом Триер или нет (известно наверняка, что еще на стадии написания сценария он надеялся взять на главную роль именно Кидман), остается неизвестным.
Всегда найдется место и для более глобальных трактовок: многие прочитали образ Грейс как воплощение Европы, которую Америка спасает от нацизма, чтобы затем многократно унижать и насиловать. Все вроде бы сходится, кроме одного – внимательно посмотрев предыдущие фильмы Триера, любой поймет, что режиссер далек от того, чтобы винить в несчастиях Европы американцев. Те, кого оскорбил «Догвилль», готовились к оскорблению. Недаром эмоциональный шок, в который повергла Европу «Танцующая в темноте», прошел в США вовсе не замеченным – узкий прокат и единственная анекдотическая номинация на «Оскар» за лучшую песню свидетельствуют об этом. Прямые цитаты из «Танцующей…» в «Чикаго» вовсе не были замечены американской прессой, а заслугу Триера в воскрешении моды на ретромюзиклы продолжают отрицать. «Догвилль» заставил одного из американских журналистов написать, что впечатление от фильма сравнимо с просмотром в замедленном воспроизведении документальных кадров с самолетами Усамы бен Ладена, врезающимися в башни Всемирного торгового центра. Разумеется, это комичное преувеличение.
«Дорогая Венди» – следующий «американский» сценарий, написанный Триером после «Догвилля» и до второй части трилогии, «Мандерлей». В нем отдельно взятый американский городок использован как условный плацдарм для развития различных поведенческих моделей – точно так же как и в «Догвилле». Самый непривлекательный из персонажей, играющий в добряка шеф полиции (вновь, после «Танцующей в темноте»), любит разглагольствовать о «судьбах этой страны»: его умозрительный патриотизм, как и умозрительный страх горожан перед мифическими бандитами, позволяет свершиться кровавой бойне в последней сцене. Вновь Триер изображает США как страну утопий или, лучше сказать, страну-утопию, где предполагаемое и воображаемое – счастливые судьбы героев мюзиклов, доброта простых и честных бедняков, равные возможности различных неудачников – занимает место реального. А над этим воображаемым пространством реет звездно-полосатый стяг, эмблему с которым надевают на грудь идущие на смерть стрелки-«денди», готовые сразиться в безнадежном поединке с доблестными правоохранительными органами.
Если включать в заявленную Триером и все-таки им не законченную трилогию «U.S.A.» поставленную по его сценарию Томасом Винтербергом «Дорогую Венди», можно будет считать проект завершенным. А запланированный «Васингтон» так и не был снят из-за провала «Мандерлея». Причиной неуспеха картины – более категорического и явного, чем в случае «Догвилля», радикализм которого впечатлил даже многих из тех, кому фильм не понравился, – стал полный повтор формального решения. Зрителя уже не удивляло пространство – пусть на этот раз начертанное не белым мелом на темном полу павильона, а, наоборот, черным углем на светлом фоне, но при этом организованное точно так же, как в «Догвилле». Сюжет вновь представлял собой путешествие Грейс в обособленный уголок Америки, символически воплощающий США как таковые, и столкновение ее прекраснодушия с суровой реальностью. Желая сделать как лучше, она лишь доводила ситуацию до кризиса, хотя на этот раз эскорт из гангстеров переводил ее из разряда жертв в категорию угнетателей. Даже финальный моральный парадокс мало кого всерьез взволновал.
Один из самых оригинальных и подрывных фильмов Триера может быть (и вновь ошибочно) расценен как первый неподдельно антиамериканский в его карьере. Ведь речь идет о рабовладельческих и рабских инстинктах – наследии самого мрачного периода национальной истории, язвы которого, по версии датского провокатора, не излечены Гражданской войной и реформами ХХ века. Полвека спустя после отмены рабства на плантации Мандерлей рабы по-прежнему служат белым господам, а те хлещут их кнутом и ранжируют по категориям, занесенным в особую книгу, «Закон Мэм» (в роли старой Мэм, умирающей в первых кадрах фильма, вновь занята подружившаяся с режиссером Лорен Бэколл). Взявшись исправить ситуацию, принесшая в Мандерлей демократию Грейс наводит там новые порядки, но ее неспособность изменить человеческое мышление отражается именно в неумении прочесть местные топонимы и разобраться в географии. Она приказывает вырубить «Сад старой дамы», чтобы починить прохудившиеся крыши в хижинах рабов, и в результате пыльная буря приносит на плантацию бурю и неурожай. Схематизм нарисованной на земле усадьбы в данном случае идеально отражен в схематичном мышлении героини-освободительницы и легко с ней соглашающихся зрителей. Так же ошибочно видеть в «Мандерлее» манифест, направленный против лицемерия Америки, не желающей по-настоящему освобождать бывших рабов и признавать их равными. Речь в фильме идет, скорее, о рабской участи любого человека, подчиненного законам общества: падающая в объятия брутального негра-одиночки Тимоти Грейс с наслаждением испытывает это рабство и на себе. Слабость и несовершенство людей – вот единственный закон, куда более жестокий, чем могло бы прийти в голову любому плантатору.
Как обвинять Триера в нападках на Америку, если в каждом новом фильме он уносится фантазией именно туда, становится, по собственному выражению, ею одержим, помещает туда все свои страхи и свои надежды, а значит – неминуемо любит, хотя и по-своему, ту землю? Родную Европу режиссер лишал знакомых очертаний, размывал и деформировал, а Америку он, напротив, творит заново и реконструирует. Не избавляется от нее, как от Европы, – напротив, на свой лад стремится к ней. А желание стать в позу провокатора, чтобы из чистого задора дразнить всесильные США, вызывает, скорее, симпатию.
Пункт назначения: космос
Новый поворот в причудливом маршруте Ларса фон Триера – «Антихрист»: в этом фильме попросту нет места действия (адрес на конверте, если всмотреться, предполагает ту же Америку, но больше ни одного намека на это нет). Пространство предельно условно, даже главные герои, Он и Она, вовсе лишены имен, а по-английски говорят исключительно для удобства зрителя. Ну, и еще потому, что Уиллем Дэфо – американец, а Шарлотта Гэнзбур – наполовину англичанка. В прелюдии к фильму режиссер впервые со времен «Эпидемии» возвращается к стилизованному изысканному черно-белому изображению, то есть демонстративно вновь отсылает к миру воображаемого, которому и посвящена картина.
Пока мужчина и женщина занимаются сексом, их ребенок выбирается из кроватки и залезает на подоконник. Его завораживает снег, медленно падающий с неба, и он делает шаг навстречу снегу – падает из окна и разбивается. Смертельное движение навстречу природе – то самое, вектор которого становится в «Антихристе» решающим. Переживая боль утраты, родители решают отправиться в загородный дом, в лес, где провели с ребенком прошлое лето. Подальше от цивилизации, от умствований, от логики. Поэтому лес, где происходит большая часть действия, хочется написать с большой буквы: Лес. Это пространство, позволяющее героям, в прямом смысле слова, выйти в астрал, забыв о географии, обществе и даже времени (в Лесу нет ни мобильников, ни гаджетов, ни иных видов связи с остальным миром).
Если раньше Триер создавал искусственную Европу из сотен живописных обломков, то теперь он довольствуется найденным в Германии природным ландшафтом, остраняя его при помощи радикального замедления движения: переход в эту сновидческую зону делает угрожающим любое колыхание травы или ветвей на ветру, а обычный дождь начинает казаться вестником апокалипсиса. Главные герои фильма воспринимают Лес по-разному. Для мужчины это пространство, очищенное от дополнительных смыслов, своеобразный детокс для ума. Для женщины, связывающей Лес с воспоминаниями о погибшем сыне, глубинным смыслом наполнен каждый мостик через ручей, пересечение которого вдруг становится серьезным подвигом. Это возвращение символизма по-триеровски, когда ни один из образов не подлежит однозначной расшифровке. Вместо предполагаемого излечения – перехода женщины на рациональную сторону – мужчина-логик заражается безумием, то есть способностью видеть за каждым явлением скрытый смысл. Одушевление природы происходит через сны, видения и галлюцинации, которые с каждой минутой все крепче соединяются с реалистическим пластом происходящего. И вот уже лисья нора оказывается убежищем для мужчины, за которым гонится олицетворенный Антихрист – его сошедшая с ума жена-ведьма.
Бывший рай – недаром герои прозвали свой лесной домик «Эдемом» – осквернен явлением человека, давно изгнанного из всевозможных парадизов: теперь у него, стоит ступить на эту почву, земля горит под ногами, в буквальном смысле. «Природа – церковь Сатаны», – сообщает Она Ему. Безобидные улитки, прячущиеся в траве насекомые, сыплющиеся с ближайшего дуба на крышу домика желуди – все они начинают казаться знамениями грядущего несчастья. Животные же – не менее важные для художественного строя картины, чем актеры-люди, – активно участвуют в происходящем (возможно, Триер таким образом пытается искупить вину перед лошадьми, которых он, по примеру Тарковского, мучил на съемках «Элемента преступления», и безвинно убитым ослом Люцифером на съемках «Мандерлея»). Косуля с мертвым плодом, агрессивная ворона, выпотрошенный лис, произносящий в камеру ключевую реплику: «Хаос правит миром!» – в финальных титрах специально отмечено, что никто из них не пострадал. Все трое суть воплощенная природа, обретшая сознание и голос, ожившее пространство, не согласное быть лишь фоном для человеческих страстей. Неудивительно, что к финалу животные превращаются в олицетворения трех стихий, давших подзаголовки главам, на которые разделен фильм: Скорбь, Боль, Отчаяние (мистификатор Триер также называет их «Тремя нищими»).
Ближе к финалу, в кульминационный момент, обездвиженный множественными травмами герой смотрит в ночное небо и видит, как звезды складываются в силуэты косули, лиса и вороны. «Нет таких созвездий», – протестует он едва слышным голосом. В этом крохотном эпизоде – зародыш следующего проекта режиссера, фильма-катастрофы «Меланхолия». Тот же Лес, превращенный бесконечным замедлением в заколдованное пространство, предстает уже в увертюре к фильму как земное отражение космического парада – явления невесть откуда взявшейся планеты Меланхолии, чья орбита неожиданно пересеклась с орбитой нашей планеты. Отныне Триеру недостаточно вселенной, построенной им на Земле, он управляет и светилами.
«Меланхолия» разделена на две половины. Первая, названная по имени главной героини «Жюстина», рассказывает о ее неудавшейся свадьбе в роскошном замке (фильм снимался в замке Тьолонхольм в Швеции), где живет с мужем и сыном ее родная сестра. Все идет не так, на Жюстину (лучшая роль Кирстен Данст) волнами накатывает депрессия, мать сыплет обвинениями, отец трусливо скрывается, и в итоге она всех посылает подальше – от босса, готового предложить ей повышение, до ни в чем не повинного жениха. Это земная часть. Вторая, названная именем прагматичной сестры Жюстины, семейственной Клэр, – небесная. В ней к Земле приближается космическое тело, столкновение которого с нашей планетой – поначалу маловероятное, в финале уже неотвратимое – приговаривает к высшей мере все живое, но излечивает Жюстину от затяжной депрессии.
Земная, насквозь искусственная, гармония воплощена в картинном поместье на берегу моря и расположенном на его территории поле для игры в гольф – главном предмете гордости владельца замка Джона (Кифер Сазерленд). Именно это регулярное выморочное пространство донельзя раздражает Жюстину, которая постоянно норовит как-то его осквернить: то помочиться в одну из лунок, то заняться на поле сексом с самым ничтожным из гостей, клерком-карьеристом. Именно мертвящее совершенство срежиссированных свадебных ритуалов уничтожает в ней те чувства, которые, как кажется в начале фильма, она еще питает к родным и жениху. Жюстина, конечно, один из многочисленных автопортретов Триера: она разрушает окружающее именно потому, что оно слишком идеально организовано. Зато летящая к Земле Меланхолия не просто интересует, но сексуально возбуждает ее. Нагая, раскинувшись на берегу, она купается в холодном свете голубой планеты-убийцы, призывает ее: совокупление приравнено к смерти и тем самым привлекательно. Под воздействием магнитного поля Меланхолии сбивается и скучная земная регулярность. Насекомые, животные и птицы разлетаются кто куда, почва теряет плотность и превращается в трясину, перестают функционировать даже самые совершенные механизмы, а воздетые к небу пальцы героини освещаются огоньками святого Эльма.
Героиня Шарлотты Гэнзбур в «Антихристе» называла природу церковью Сатаны; Жюстина в «Меланхолии» последовательнее – она называет злом, подлежащим уничтожению, всю жизнь на земле. Однако перед племянником «железная тетя», настаивающая на честности в любой ситуации, решает разыграть последний спектакль: собрать шалаш из собранных в лесу ветвей и убедить ребенка, что это шаткое строение защитит его от верной гибели. Что это – капитуляция Триера перед неизбежной для кинематографа потребностью в утешительном вранье? Вероятно, нет: волшебный домик – метафора умозрительных построек, примером которых является любой из фильмов режиссера. От жестокой жизни и тем более смерти это убежище не спасет никого, но даст иллюзию, которая позволит сохранять спокойствие до самого финала. В этой анекдотичной конструкции – эхо нарисованного мелом Догвилля и начертанного углем Мандерлея, условная Германия «Европы» и стены больничного «Королевства». В ней и ответ на вопрос о том, что человек способен противопоставить приговору безжалостной природы: воображаемое убежище собственной черепной коробки.
Превосходную метафору лабиринта, в котором человек заперт пожизненно и из которого не выберется, пока не разберется в самом себе, представляет декорация первой сцены «Нимфоманки» – третьей части «трилогии депрессии», начатой «Антихристом» и «Меланхолией». Кирпичный двор, который со стороны кажется замкнутым, место финальной конфронтации героини, одержимой сексом Джо (вновь Гэнзбур), с ее бывшим возлюбленным и приемной дочерью. Но пока об этом никак не догадаться: неподвижная, еле дышащая, избитая и униженная женщина лежит на земле под падающим с небес снегом. Выход из этого пространства – диалог с самой собой, со второй, до поры до времени скрытой ипостасью своего я, по-мужски рациональной. Это второе я, которому в «Антихристе» была дана профессия психотерапевта, в «Нимфоманке» оказывается одиноким холостяком Селигманом, приглашающим Джо в свою квартирку – выпить чая с молоком и прийти в себя. Собственно, этот чай – единственное указание на то, что действие, возможно, происходит в Великобритании (позже на экране невзначай мелькнут фунты стерлингов и автомобили с правым рулем).
Комната, больше похожая на монашескую келью, где Джо исповедуется Селигману, – пространство замкнутое, темное, ночное. В нем закоулками и тупиками лабиринта оказываются немногочисленные артефакты, каждый из которых служит зачином для очередной главы жизнеописания Джо: рогалик, кассетный магнитофон, книга, картина, икона, зеркало, искусственная муха для рыбалки. Селигман – тюремщик поневоле, стремящийся использовать каждый из объектов как ключ, чтобы выпустить пленницу. Скажем, муха создает параллель с наживкой, переводя разговор о сексе из опасного морального поля в естественно-физиологическое, а кассетник помогает превратить полигамию героини в полифонию по образцу Баха или Палестрины. Однако сама героиня, пленница собственной природы, жаждет другого освобождения: как замечает она сама, ее единственный грех – склонность ждать от заката «чего-то большего». Умозрительный мирок Селигмана довольствуется, напротив, меньшим, случайно отраженным на кирпичной стене солнечным зайчиком (отсветом того «альпенглюнена», которым наслаждалась в «Догвилле» Грейс). Поэтому финал фильма, парадоксально рифмуясь с зачином, происходит и вовсе в абсолютной тьме, избавляясь от обманчиво-оптимистичного обещания солнца, которым привык довольствоваться Селигман.
В урбанистической «Нимфоманке» почти уничтожены приметы конкретной страны или города. Мир увиден героиней «сквозь тусклое стекло» (если употребить выражение, использованное в Библии и, вслед за ней, Бергманом). Триер дословно переводит метафору в визуальные образы. Сначала это полупрозрачная дверь в купе первого класса, где Джо впервые в жизни займется оральным сексом; потом – дверь в офис ее босса, которым оказывается когда-то лишивший ее невинности Джером; наконец, дверь в коридор дома, где принимает своих клиентов садо-мазо-гуру К. Вырваться к ясности она способна лишь в редких воспоминаниях о детстве, когда боготворимый Джо отец-врач водил ее в ближайший парк любоваться на деревья. Позже, в тяжелые моменты жизни, она утешается, листая альбом с собранным много лет назад гербарием. Каждый фильм Триера – такой же гербарий, напоминание о существующей где-то рядом, прекрасной, но недоступной испорченному и слабому человеку, природе.
Гуляя по парку зимой, отец Джо рассказывает ей о том, что когда опадают листья, обнажаются души деревьев – трогательно некрасивые, заслуживающие любви в еще большей степени. Он показывает ей и ясень, и тополь, и липу, а потом «свое дерево» – дуб. Поиск гармонии и смысла жизни героиней, проходящей через любовь и ревность, распутство и стыд, одиночество и преступления, – это поиски своего дерева, которое удостоверит ее право на естественное, правомочное существование среди не похожих на нее особей. Не случайно многие важные события ее жизни происходят именно там, в парке: она знакомится с новыми любовниками, встречает после долгого перерыва возлюбленного, принимает решение изменять мужу, потом объясняется с подопечной, которую удочерила и которой готовится передать криминальный бизнес. Но дерево удается отыскать в момент самого глубокого кризиса. Оставшись без семьи, друзей и коллег, Джо забирается в безлюдные края и на горе – через пропасть – встречает одинокое, согнутое под гнетом стихий, но не сломленное дерево. Это щемящее окончательное, чисто романтическое – в духе Каспара Давида Фридриха – признание своей неприкаянности и одиночества явно относится не к одной только Джо, но и к ее создателю Ларсу фон Триеру.
Пункт отправления: Дания
Даже управляя вселенной, он остается датчанином до мозга костей. На пике популярности Ларс фон Триер вдруг заявляет о намерении прервать любые путешествия – даже виртуальные, кинематографические – и снять в качестве следующего фильма малобюджетную комедию на датском языке. Премьера «Самого главного босса» назначена на скромнейшем Копенгагенском международном фестивале. Этот фильм – вероятно, наименее претенциозный из всего наследия Триера, – лучше других свидетельствует о его преданности Дании.
«Самый главный босс» – рассказ об одной датской IT-компании, фактический руководитель и владелец которой Равн (сотрудники считают его всего лишь юристом) решает продать бизнес исландцам, забрав все вырученные деньги себе. В том числе деньги за таинственный продукт под названием «Brooker-5», разработанный шестью «стариками», основателями фирмы. Для осуществления незаконной сделки он нанимает безработного актера Кристофера (Йенс Альбинус, игравший в «Идиотах» тезку этого персонажа), который должен сыграть роль приехавшего из Америки «самого главного босса», невидимого начальника: на него Равн привык сваливать все непопулярные решения. Осмотревшись на месте, познакомившись с сотрудниками и проведя первый тур переговоров с вечно недовольным исландским бизнесменом Финнуром, Кристофер понимает, что теперь для него дело чести – как-то помешать мошеннику. Однако его связывает подписанный договор, кроме того, согласно его внутреннему кодексу чести, роль надо сыграть до конца.
Изобретенный Триером трюк с компьютером, заменяющим оператора (так называемый automavision), помогает снимать офисную Данию будто шпионской камерой – неброско, даже неуклюже, с холодным парадоксальным юмором. Голые безликие помещения, где над неизвестными проектами корпят служащие, – те же схематичные павильоны «Догвилля» и «Мандерлея», только без брехтовской позы. Однако, как и там, только люди имеют значение – и их взаимоотношения позволяют выстроить комедию, не погружаясь в профессиональные детали. «Самый главный босс» – вторая, после «Идиотов», попытка (недаром трое актеров пришли в проект оттуда: кроме Альбинуса это Хенрик Прип и Луиза Миериц) нарисовать коллективный портрет датчан. Они наивны и простодушны – как крестьянин Горм (Каспар Кристенсен), бросающийся бить морду неожиданно объявившемуся начальнику, – но отходчивы и добры: стоит показать немного напускного тепла, и стокгольмский синдром берет свое. Одна сотрудница (звезда «Догмы» Ибен Хьеле) готова отдаться боссу, ничего не требуя взамен, другая, более застенчивая (Мия Лине) собирается и вовсе выйти за него замуж, невзирая на перспективу увольнения.
Датчане для Триера – те же дети: на них он смотрит со снисходительной нежностью многодетного отца и симпатией закоренелого инфантила. Такими они представали еще в «Королевстве», где, под презрительными взглядами шведа Хелмера, гонялись за привидениями и боролись с невежеством посредством участия в масонской ложе. Неизменным это качество оставалось в «Идиотах», где, изображая умственно отсталых, хулиганы-интеллектуалы демонстративно и концептуально впадали в детство: дурачились в общественном бассейне, обходили дома с аляповатыми рождественскими поделками, беззастенчиво били на жалость, издеваясь над политкорректными согражданами. В «Самом главном боссе» главной причиной, заставляющей Равна (на его роль не случайно выбран Петер Ганцлер, со времен популярного «Итальянского для начинающих» привыкший играть роли трогательных симпатяг) врать своим коллегам, оказывается не жажда наживы, а желание быть всеобщим любимцем. Договариваясь с Кристофером о встрече на нейтральной территории – Триер пользуется этим для кратких экскурсий по любимым местам датчан, – Равн приводит его то в кино, то к киоску с хот-догами, а один из раундов переговоров происходит на крутящейся карусели, под мороженое. Этот уютный и трогательный тотальный детский сад – Дания, которая в глазах Триера совсем не похожа ни на мифическую Европу, ни на придуманную Америку.
Но со своей натурой режиссер ничего поделать не может. Умиляясь соотечественникам, он время от времени отъезжает вместе с камерой куда-то в сторону, показывая на общем плане уродливое здание (в его недрах и разворачивается почти все действие) и иронически комментируя происходящее. Он, как когда-то Хелмер, а теперь – крикливый и скандальный Финнур, не менее истово ненавидящий датчан за сентиментальность и мягкотелость, готов наказать их за прекраснодушие, как наказывает сама жизнь. Недаром его герой-актер изображает босса, приехавшего издалека – разумеется, из Америки. На самом же деле сам Кристофер – датчанин, который поклоняется иностранному авторитету, мифическому гениальному драматургу Гамбини. В хорошей драматургии роли злодеев всегда привлекательней и интересней ролей героев, так что «самый главный босс» все-таки в итоге покажет себя с худшей стороны. И это тоже типичный Триер, чьим развернутым и откровенным, в немалой степени карикатурным, но от этого не менее правдивым автопортретом остается этот скромный фильм.
Хотел ли Ларс фон Триер быть боссом? Как вышло, что режиссер, очевидно ориентирующийся на классическую модель поведения гения-затворника, оказался вдруг лидером целого движения и главой крупнейшей в стране киностудии? Парадокс или закономерность? Да, он действительно не общается с журналистами, боится путешествий, живет отшельником, позволяет себе неполиткорректные высказывания. Тем не менее, собрав все доступные сведения о нем, понимаешь, что он типичный представитель своего народа, который, если верить путеводителям, придает огромное значение мнению окружающих и включенности каждого в ту или иную общность. Желание быть «одним из» проходит красной нитью через всю биографию Триера, включая полуанекдотические факты, вроде его одержимости иудаизмом, многократных посещений синагоги и соблюдения кашрута в ранней юности. Позже режиссер узнал, что его отец-иудей не был его биологическим родителем, и решил сделаться коммунистом, как мать. Максимально отгородившись от внешнего мира, не приехав даже в Канны, где триумфально прошла премьера фильма «Рассекая волны», а позже он был награжден, два года спустя Триер явился на каннской лестнице с манифестом «Догмы». Представить себе любого из его духовных учителей с радикальным манифестом собственного сочинения невозможно: ни Дрейер, ни Тарковский, ни Бергман никогда не согласились бы будоражить общественность подобным образом.
Ларс фон Триер никогда не выходит на люди, даже в родном Копенгагене, но это не мешает ему оставаться настоящей звездой. Победа «Танцующей в темноте» в Каннах сравнивалась газетчиками с победой датской футбольной сборной. Дошло до того, что в прокате с успехом прошли документальные фильмы известного режиссера Йеспера Яргиля о Триере и методах его работы (особенно «Униженные» – дневник съемок «Идиотов»). При упоминании национального гения № 1 – Дрейера – почти каждый устало закатит глаза к потолку, от имени Билле Аугуста презрительно сощурится – променял своих на «Оскар», а назовешь Триера, и глаза загорятся. «Ларс, он такой скромный!» – говорят с умиленной улыбкой датчане, любящие Триера братской любовью.
Братьями Ларс фон Триер окрестил троих своих товарищей по манифесту «Догма», неизменно оставаясь – хотя бы на правах автора идеи – старшим. «Я с самого начала не понимала, в чем смысл последнего пункта манифеста “Догмы”, почему имя режиссера не должно быть упомянуто в титрах – кажется, чистый выпендреж, – утверждает продюсер «Идиотов» Винка Видеман, – но в Каннах я внезапно все поняла: когда Томас Винтерберг вышел получать награду за “Торжество”, он поблагодарил со сцены жюри, он был горд и, только сойдя со сцены, вдруг понял, что забыл о главном – сказать спасибо братьям по “Догме”. Думаю, смысл в этом: в усмирении личной гордыни». Специфический коллективизм – плод «обета целомудрия», который, возможно, мог родиться только на датской земле.
Ведь первое свойство датского кино, которое бросается в глаза, – это его семейственность. Даже попросту посмотрев внимательно на титры нескольких датских фильмов, можно увидеть постоянно повторяющиеся фамилии: речь идет вовсе не об однофамильцах, а о родственниках, мужьях и женах, братьях, сестрах. Разве что не отцах, поскольку современное датское кино – явление молодое, и все основные его представители – люди одного поколения. Недаром Сесилия Хольбек-Триер оставила фамилию бывшего мужа: это свидетельствует и об авторитете бывшего «анфан террибля», и об общей ориентации на семейные ценности. А принадлежность Триера к «семье», как в буквальном, так и в «мафиозном» смысле, объясняется прежде всего общими корнями: все, за незначительным исключением, датские кинематографисты – выпускники Копенгагенской киношколы.
Поступить в эту Киношколу непросто. Здесь идет строгий отбор, платное обучение не предусмотрено вовсе. Все курсы читают на датском, и иностранных студентов тут никогда не было. Наконец, каждый абитуриент обязан представить как минимум две киноработы: другими словами, неофитам или чужакам сюда проникнуть нелегко. Правда, в Дании существует немало киноателье («workshop’ов»), куда, по идее, может прийти со своим проектом любой. Его научат снимать кино и помогут с профессиональным оборудованием. Только денег не дадут. Искусство требует если и не жертв, то вложения энергии и таланта. Самое известное из таких ателье функционирует непосредственно в здании Киноинститута – сюда открыт доступ любому, кто пройдет со своим проектом комиссию, состоящую большей частью не из продюсеров, а из собратьев-режиссеров. Никаких ограничений на тематику или жанр нет: хоть анимация, хоть рекламный ролик или видеоклип, тем более игровой или документальный, короткометражный или полнометражный фильм. Будь талантлив, остальное приложится. Обстановка в ателье на верхнем этаже Киноинститута сведет с ума любого неподготовленного визитера: молодые (по преимуществу) люди снуют туда-сюда, между монтажными и звуковыми студиями, что-то пишут на компьютерах, вглядываются в экраны, на которых пытаются разобрать результаты собственного труда. Вещи в беспорядке набросаны на старую софу, которую не выбрасывают уже лет тридцать. Она тут на правах музейного экспоната – на ней когда-то спал Ларс фон Триер. Впрочем, обстановка в основных помещениях Киноинститута мало чем отличается: повсюду творческий беспорядок и висят боксерские груши. «Чтобы режиссеры, которым отказали в их проекте, могли срывать зло не на нас», – шутят здесь.
Чуть более упорядоченной выглядит сама легендарная Киношкола – небольшое двухэтажное здание, увитое плющом, рядом с которым можно наблюдать живописную стоянку велосипедов. Центральный холл открывается входящему сразу; здесь же перекусывают во время больших перемен студенты, тут находится и предмет гордости – огромная полукруглая аудитория, она же кинозал. У входа – старый, на вид корабельный, колокол, который возвещает о начале занятий. Или очередного сеанса. Простор, открытость природе – многие учащиеся с задумчивым видом бродят по внутреннему дворику, – распространенность вширь, а не ввысь сразу бросаются в глаза. На нескольких факультетах обучаются всем кинопрофессиям, кроме актерской. Все актеры датского кино – выпускники Театральной школы, которая находится здесь же рядом. Студенты двух учебных заведений проходят обязательную стажировку друг у друга. Самый известный из факультетов Киношколы – сценарный, возглавляемый живой легендой, учителем всех без исключения датских кинематографистов Могенсом Руковом (он не только учил Триера, но и помогал ему во многих начинаниях, был консультантом на съемках «Идиотов» и придумал название «Догвилль»). Сегодня Руков больше разъезжает по разным странам с семинарами и учебными программами по датскому кино, чем преподает на родине. Что, впрочем, никак не сказывается на его престиже в Киношколе. Кстати говоря, отчасти благодаря ему просветительско-миссионерская деятельность стала одним из главных направлений работы датского Киноинститута: под началом Рукова группы датских кинематографистов разъезжают по всему миру (после Лондона и Парижа они приезжали в Москву, а затем и в Петербург), объясняя коллегам на наглядных примерах феномен своей «новой волны».
Киношкола располагается в самом странном районе Копенгагена, неподалеку от так называемого «свободного государства Кристиания» – тут старые дома были отданы бездомным, которые образовали на свой страх и риск подобие коммуны. Повлиял ли их пример на руководство Киношколы, бог весть, однако основные принципы, исповедуемые нынешним ректором Полом Несгаардом, в чем-то напоминают о Кристиании: преподаватели предоставляют ученикам абсолютную творческую свободу, для дипломной работы может быть выбрана любая тема и форма, зато обязательно воспитываются корпоративная этика и чувство товарищества. Может показаться, что эта установка то ли советская, то ли американская, но факт есть факт: в современном кино, стремящемся к оригинальности и самобытности, датчан выделяет цеховой принцип. Они все – дети правительственной политики 1960-х, когда было принято судьбоносное решение об открытии Киношколы (собственно, феномен Триера стал первым плодотворным итогом действий государства, направленных на выращивание новых кадров в области кино). Они все – равные среди равных.
Вторым по значимости учреждением датского кино является Копенгагенский киноинститут. Его функция – посредническая; он определяет, какие фильмы получат господдержку. Его здание находится в самом центре Копенгагена, в двух шагах от главной пешеходной улицы и непосредственно напротив Королевского парка, где расположен летний дворец правящего семейства. Сотрудники института очень серьезно объясняют, что нарочно выбрали для конференций и встреч зал, огромные окна которого выходят на ворота парка, чтобы в свободные минуты любоваться природой. Эта неожиданная встроенность громоздкого современного здания со множеством переходов и скрытых коридоров (там же находятся архивные помещения и музей кино) в естественный контекст вообще характерна для Дании – ту же гармонию с окружающей средой можно найти в расположении любой из киностудий или Киношколы.
Знаменитая «Zentropa» тоже выглядит как студенческий кампус. Флаг независимого кинематографического конгломерата «Филмбиен» реет над скромным киногородком под Копенгагеном. Здесь работают Ларс фон Триер, Лоне Шерфиг, Томас Винтерберг, Серен Краг-Якобсен, Сусанна Биер и многие другие. Невысокие домики под красной черепицей, идиллическое зрелище бывшего военного лагеря, превращенного в кинематографическую лабораторию. Посреди – столовая со шведским столом, у которого кормятся все здесь работающие, без исключения. Тот же Триер, бегающий от журналистов, ест здесь со всей своей семьей, которая в период особо напряженной работы над картиной буквально поселяется в киногородке.
На постаменте меж павильонов установлен танк времен Второй мировой войны, преподнесенный Дании в дар правительством США. Руководство «Филмбиена» просило у властей разрешения забрать танк себе, но им ответили, что правительство не вправе продавать или отдавать столь дорогой дар. Теперь, вполне в духе склонного к абсурду датского кино, ежегодно на студию приезжают правительственные эксперты, проверяющие, исправна ли техника. Другая здешняя достопримечательность – сауна с бассейном на открытом воздухе: склонный к водным процедурам Триер активно использует их, периодически купаясь даже зимой (рекордным было погружение в минус пять градусов, рассказывают здесь). На лужайке у бассейна стоят малоприличные статуэтки крашеных гномов с обнаженными гениталиями – артефакты, когда-то принадлежавшие тем же американцам.
«Zentropa» – еще и прибыльная студия. Феномен датского кино – не только художественный, но и коммерческий. Над любым датским мультиплексом в первую очередь светятся афиши национальных премьер, а голливудские гиганты нередко получают более скромное место и время в репертуаре. Поделом: ведь и публика предпочитает свое. Ежегодно в десятке самых популярных фильмов оказывается как минимум пять датских, и что самое поразительное – причиной тому не только патриотизм датчан, но и разнообразие репертуара: фильмы для детей и взрослых, анимация, авторское кино, «Догма», семейные комедии, проблемные драмы, даже политические и исторические полотна – ленты на любой вкус.
Фильмы самого Триера становятся кассовыми хитами сравнительно редко. Правда, случаются сенсации, вроде кассового успеха разруганного и провалившегося по всему миру «Антихриста». Однако в целом после сенсационного успеха «Королевства» ни одного подобного чуда больше не случалось. Как ни странно, это ничуть не мешает датчанам воспринимать его как национальное достояние и живого гения. Его многочисленные выходки давно никого не удивляют, хотя традиционно возмущают многих: особенно консерваторов и радикальных либералов (одни критикуют его за вольнодумие, другие – за последовательную неполиткорректность). Но и к этому все уже привыкли. Его решение вернуть королевской семье врученный ему орден Даннеброг – причем вернуть через десять лет после вручения – было воспринято с ухмылкой, без негодования. У датчан слишком хорошее чувство юмора, чтобы обижаться на человека, благодаря которому многие узнали о существовании их страны.
Однажды, приехав в Копенгаген и сняв комнату в большой квартире, я узнал, что дочь хозяев была занята в хореографической массовке «Танцующей в темноте». Другой раз своими впечатлениями от случайной встречи с Триером делилась продавщица в торговом центре. Наконец, продавец шляп рассказал о своей жене, подруге детства режиссера, которую зовут Бесс, как героиню «Рассекая волны»: по уверению шляпника, немалую часть ключевых эпизодов картины Триер уже снимал на любительское видео в школе. Да, Ларс фон Триер – самый главный босс датского кинематографа. Но, как и в одноименном фильме, все подозревают, что он только прикидывается злым начальником, а на самом деле – свой парень и милейшей души человек.
Ларс фон Триер – путешественник
(интервью)
Вы действительно не любите путешествовать?
А вы, что, любите?
Люблю.
А я ненавижу!
Можете объяснить, почему?
Оказываешься непонятно где, тебя уже не окружают знакомые предметы… Я только что приехал из Байройта, где работаю над оперным циклом Вагнера, и в очередной раз понял, как хотел бы никуда не ездить и оставаться дома. Оставаться в своей квартире не в пример приятнее, чем куда-то ехать.
Так это причины рациональные, а не патологический страх авиаперелетов?
Этот страх тоже имеет место: он – часть общей картины. Одна мысль о том, чтобы находиться в самолете… ужас, просто ужас. Самое в этом неприятное – тотальная потеря контроля над происходящим. То же самое происходит, когда оказываешься в огромном городе, которого совершенно не знаешь. Это провал в хаос.
Этим объясняется то, что героем ваших фильмов так часто становится иностранец или путешественник?
Может быть. Помню, когда я был ребенком, у меня часто повторялся один и тот же кошмар: я иностранец, незнакомец, и у меня нет дома. Мои фильмы – своего рода ностальгия по тем снам. Быть бездомным… невыносимо.
Вы начинали с фильмов о Европе. Почему вы покинули ее, чтобы отправиться в иные края – вначале в Шотландию, потом в США?
Шотландия – тоже Европа, хотя и не та, что в моих ранних фильмах. Для меня нет разницы – Шотландия, Америка, Россия: я отправляюсь туда по воле воображения, а оно всегда ведет в места, которых не знаешь. Кстати, Шотландию мне было легко полюбить – через короткое время я чувствовал себя там как дома. Замечательная страна, где живут чудесные люди… куда лучше, чем Англия. Я чувствую себя гораздо хуже, когда оказываюсь в Восточной Европе. Например, в Польше, где я снимал «Европу».
Откуда пришел образ той, абстрактной Европы, где происходит действие трех первых ваших картин?
Мой интерес к Европе в те годы определялся вкусами моего соавтора Нильса Ворселя – очень интересного человека. У него было немало любопытных мыслей о Европе вообще и Германии в частности… Он очень интересовался Кафкой, Томасом Манном, любил «Волшебную гору». Я, правда, тоже немало читал Кафку и был одержим общими с Нильсом идеями. В ту Европу нас увлекала фантазия. Поначалу мы с Нильсом хотели осуществить экранизацию одной книги, но так и не выкупили права; в итоге появился ряд фильмов по оригинальным сценариям.
Может, это связано с разговорами об объединении Европы? Что вы вообще думаете об этом проекте?
Для людей моего поколения такое объединение было кошмарной идеей – мы считали, что речь идет о проекте богачей, которые хотят заработать еще больше денег, а простые люди при этом окончательно потеряют значение. Но вот что интересно: в последнее время я неоднократно встречал людей из Германии или Франции, которые настаивают на противоположной точке зрения. В основном молодежь. Так вот, по их мнению, именно объединение Европы поможет избежать этих опасностей. Безусловно, объединение – вещь хорошая, но, с другой стороны, когда создается большой союз, мнения многих людей не учитываются, а, по-моему, это плохо.
Многие считают, что вы ненавидите Америку, но так ли это? Ведь ваша увлеченность американской темой свидетельствует, скорее, об обратном…
Мы многое знаем об Америке, многое видели, и глупо было бы утверждать, что все это мне не нравится. Мне не нравятся некоторые американские политические деятели. Наверное, одни американцы пришлись бы лично мне по душе, а другие – нет. Невозможно и бессмысленно говорить, что любишь или ненавидишь ту или иную страну в целом. Но Америка особо интересна, поскольку претендует на то, чтобы быть Новым Миром: это само по себе потрясающе.
«Догвилль» называют антиамериканским фильмом. Вы согласны с этим определением?
«Антиамериканский» – сильно сказано. Я не чувствую, что мой фильм – антиамериканский. Да, я настроен критично по отношению к США, мне не нравится, как там обращаются со слабыми и бедными людьми, – за это отвечает государственная система. Однако к пропаганде близки только финальные титры под песню Дэвида Боуи, которые сопровождаются фотографиями времен депрессии. Самое забавное, что все эти фотоснимки – собственность американского правительства; они сами фотографировали людей в те годы, а теперь эти кадры находятся в свободном доступе, копирайт на них не стоит. Это замечательно интересно: самый антиамериканский материал есть плод деятельности самих американцев.
Если бы это зависело от вас, как бы вы хотели изменить Америку?
Прежде всего я избавился бы от оружия массового поражения. Потом начал бы кампанию «Освободите Америку!». Честно говоря, я удивлен тем, что так мало журналистов обвиняли меня в нападках на США. Это хорошо, потому что я не делал антиамериканский фильм. Как и в случае с «Танцующей в темноте», которая вовсе не была направлена против США. В моих фильмах нередко случаются ужасные вещи, где бы ни происходило действие.
Я хочу всего лишь спасти Америку! Поверьте, для меня это настоящая страна неограниченных возможностей, очень красивая, где живут хорошие люди. Но, по-моему, что-то в Америке не так. Дело не в Буше. Он, конечно, полный идиот, но я не думаю, что он самостоятельно принимает решения. Человек, который может обратиться к нации 11 сентября и сказать: «Ужасно, что эти люди погибли!» Кто, кроме американцев, сочтет это достаточным? Президент констатирует, что случилось что-то ужасное… Я на месте американцев был бы разочарован. Но я уверен… нет, я не уверен ни в чем. Кроме того, что не поеду в Америку.
Не поедете?
Нет-нет, ни в коем случае. И в Россию тоже не поеду. Впрочем, пока я не планирую делать фильм о России. Я родом из маленькой страны, и для меня все большое – настоящий ад. Правда, я был коммунистом. Раньше. Вот и вдохновение для «Догвилля» я черпал в театральной системе и пьесах Бертольда Брехта – например, «Трехгрошовой опере». Кажется, опять становлюсь социалистом… Сделал политический фильм.
А «Танцующая в темноте» не была политическим фильмом?
Не знаю. В некотором смысле к политике имеет отношение буквально все, но в новом фильме больше политической иронии, чего-то в этом духе.
Американское влияние вы тоже ощущали? Или Брехтом дело ограничилось?