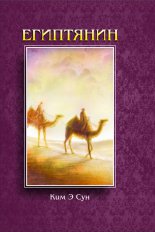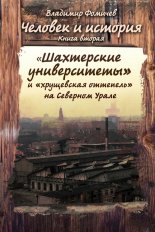Малахитовый бегемот. Фантастические повести Смирнов Алексей

Мы стали пить водку.
– Павлина, – прохрипел Сарафутдинов, – сегодня он вывесил пятерых подряд. В том числе девчонку-скрипачку, довольно известную. Ходил со складной лесенкой, ночью, и вешал. Я эту артистку видел. Такая шустрая, играла фантастический спектакль о будущем. Там, значит, везде… наступила оттепель, все растаяло и утонуло… города плавают, вокруг всякие пираты и акулы…
– А почему так сладко? – спросила я. – Ты так про нее говоришь, что неровен час, весь потечешь. Понравилась скрипачка? Может, мне тоже скрипку купить?
– Ты что, ты что? – забормотал генерал, отшатнувшись и защитившись жестом. – Какой сладко, я рассказываю тебе!
– Ты лучше расскажи, кто у меня похозяйничал, – перебила я и выпила граммов сто или сто пятьдесят, сама не разобрала, будто вылила в мойку. – И объясни, как эта сволочь сумела миновать все кордоны. Где записи с камер?
– Камеры были выключены, – Сарафутдинов не смотрел на меня. – Консьержа допрашивают. Он клянется мамой, что ничего не видел, не слышал и просто не помнит.
Я согласно покивала.
– Очень хорошо. Выключены. А он не помнит. Сарафутдинов, прекрати вилять. Откуда ветер? Кому понадобилось меня напугать?
Генерал опустил глаза, налил полстакана и тоже выплеснул в себя, будто в волшебный рукав, из которого хлынут далее блевотные лебеди, пруды, дворцы и прочая сказка. Ему было очень неуютно.
– Павлина, – теперь он не хрипел, а клекотал, – что за объекты ты продаешь? Пять штук. Пять объектов – пять трупов за ночь.
Меня будто под дых ударили. Этого я не ожидала. На миг я потеряла лицо.
– Что – объекты? Почему объекты, при чем тут они?
Сарафутдинов навалился на стол мифическим красным быком, огнедышащим Минотавром; от него несло луком, чесноком и спиртным.
– Павлина, дело плохо. Я был у министра. Наверху идет бой. Ты мухлюешь с ведомственным имуществом – и вот тебе, как на заказ, убивают из детдома, убивают из детского сада, подряд… Тем более сейчас, когда все с ума сошли с этими детьми. Дети, Павлина, нынче политика, от заграницы их спасли, а ты все торгуешь!
– Но этот маньяк и раньше убивал, – пролепетала я. – Ты сам рассказывал, Сарафутдинов…
– Э, мало ли что убивал! Может, он раньше не нарочно убивал! Может, важные люди посмотрели и подумали: ай, как хорошо убивает! Пусть еще немножко убьет для нас…
Тогда я налила себе доверху.
– И что из этого, Сарафутдинов, что теперь делать? Чего ты от меня хочешь?
– Я не знаю, чего хочу, – мой генерал убрался со стола и подвигал челюстью туда-сюда, туда-сюда. – Ты понимаешь, в каком я положении? Если это ихний маньяк, то как мне быть – искать его или нет? А если найду – закрывать или пусть гуляет? Наши верха против ваших верхов, Павлина. Министр мне понятно намекнул! Я его прямо спросил: что, не ловить? А он мне: зачем не ловить – очень ловить!
– Так что же тебе непонятно?
Сарафутдинов закатил глаза, и на их месте образовались влажные перепелиные яйца.
– Да как же он прямо мне скажет, что не ловить! Он сам не знает! Может, это не наш маньяк, а просто сам по себе… Мне самое время пулю в лоб, вот что. Как ни сделай – все виноват!
– Ну уж пулю, Сарафутдинов. Не смеши меня.
Я прикончила стакан и чуть успокоилась.
– Аккуратнее с этой недвижимостью, Павлина. Костей не соберешь. Там едет каток! – Генерал поднял палец. – Вониной не останется, будет лепешка.
Мне вдруг пришла в голову невозможная мысль.
– Послушай, Сарафутдинов. Говоришь, их нынче ночью поубивали?
– Не знаю, когда поубивали, эксперты работают. Но развесили ночью, да. А почему спрашиваешь?
– Сегодня ко мне явились все пятеро. Начальники этих точек. Прибыли дружно, как один. Я, конечно, всем разослала уведомления, но все-таки странно, что они друг о друге узнали и объединились. Их крольчатники ничем не связаны – разве что все они детские.
– И что с того?
– Обожди, не гони. Я раскидала их, но не в этом дело. Вдруг это кто-то из них?
Сарафутдинов тупо уставился на меня.
– Ну да, – продолжила я. – Кто-то один, который душегуб, сгоношил остальных, и все они пришли.
– Зачем? – потрясенно отпрянул генерал.
– Тебе лучше знать! – я повысила голос. – Ты же плетешь про интриги, не я! Послал бы ты к ним людей – пусть выяснят, кто зачинщик. Может быть, его-то ты и ловишь.
– Но это же бред, душа моя.
– А он, по-твоему, нормальный?
Сарафутдинов помотал башкой. Не то от выпитого, не то от переживаний он стал из красного коричневым, а также лиловым и сизым, и я забоялась, что его обнимет кондратий.
– Глупость какой-то ты мне сказала, – изрек он в итоге, путаясь в падежах и родах. – Пьяная болтаешь.
– Ну, тогда думай сам, – разрешила я. – Тогда не знаю, какого черта ты вообще заладил об этих трупах. Если заговора нет, то и плевать я хотела! Объясни мне лучше, как так вышло, что мне квартиру перевернули вверх дном. Кто заказал, кто наехал, куда ваши смотрели? Если министры на ножах, то может, твои у меня и рылись?
– Павлина, – зарычал мой генерал.
Тут вошел какой-то пенек, от которого пахло псиной.
– Товарищ генерал, – позвал он негромко. – Можно вас на минутку? Вам надо взглянуть.
Сарафутдинов грузно встал, потопал за ним в прихожую; я допила и направилась следом. В дверях я чуть не врезалась в сарафутдинову спину – живой комод, перекрывший проем. Пришлось его потеснить.
Сарафутдинову показывали находки: ножницы с иглами, все бурое от крови.
Глава 9. Билет в цирк
Оттепель! [От издательства: см. выше] Движение в поднебесье, аромат перемен. Навстречу с фекальных газонов восходит почвенный пар; все перемешивается, имея в себя от всякого жившего и живущего. Разливается влага, оживают чудовища, лениво кружатся города, распространяющие эфирные кольца; сверху взирают ангельские полки, упрятанные в небесную сбрую, их сдерживает могучая рука. Все, что истлело, воспаряет и распадается на частицы: вот оно было, и вот не стало – что есть истина? так вопрошает отчаявшийся микроскоп, напирая на «что». Она расползлась под пальцами, которые тоже ничто. Отчаянию вопреки, оттепель обещает надежду и не обманывает. Что-то высокое смещается, налезает пластами само на себя, сулит пролиться и даровать расцвет садам и болотам. Оголодавшие птицы достраиваются падалью и собираются петь.
Рукопись
Я простодушно попросила Сарафутдинова выбросить все эти якобы вещественные доказательства. Пожимала плечами и спрашивала, на что они ему сдались – это же очевидный абсурд. Кому-то вздумалось глупейшим образом подставить меня. Неизвестный принес в мой дом эти предметы и учинил погром, благо не видел другого способа привлечь к ним внимание органов. Я же сама и вызвала полицию. Он правильно рассчитал.
Однако Сарафутдинов замялся, заюлил и начал плести какую-то дичь о резонансных делах. Он заявил, что ему-то, дескать, все совершенно очевидно, но люди непосвященные могут решить иначе. Они, сказал он, способны вообразить, будто я чем-то связана с душегубом. Они, по его мнению, даже могут подумать, что я сама наняла этого полоумного, имея целью дискредитацию и обесценивание ведомственных объектов. Короче говоря, какая бы между нами ни существовала связь, она была налицо.
Мое терпение лопнуло, я вспылила.
– Да зачем же квартиру громить? И на кой мне черт доносить на саму себя?
Пряча глаза, мой генерал объяснил:
– Может, вы что-то не поделили, и он пошалил сам. – Сарафутдинов прижал к груди руки: – Клянусь, Павлина, я так не думаю! Но ты же знаешь людей.
Я свела руки, вытянула их. Мои пухлые королевские ручки, на которых он столь упоенно сосал пальчики, что однажды без малого подавился квадратным перстнем. Мои цепкие лапки с алыми коготками, которыми я дразнила и ковыряла его слоновью мошонку.
– Арестуй меня, Сарафутдинов. Доставай свои браслеты.
В моем предложении имелось двойное дно. Мы надевали наручники, когда располагались к запретным и острым проникновениям. Чаще их надевала я – генералу. Он понял, опасливо оглянулся – оперативники так и шныряли вокруг, ничто не могло укрыться от их внимательного сыскного взора. Я ничего не добилась. Сарафутдинов не стал меня арестовывать, но я заметила мелькнувшее замешательство, молниеносное раздумье. При виде запястий в нем сработал рефлекс – на него полсекунды; другая половина пошла на работу мысли. То есть он не исключал. Эта сволочь пусть коротко, но прикинула: да или нет.
– Пиши фамилии, Сарафутдинов, – велела я, и он покорно вынул девственно чистый блокнот. – Торт, Бомбер, Тыквин, Булка и Молчун. Последняя – псевдоним, я не помню, как его звать по жизни. Это кто-то из них. Или все вместе. Они хотят моей крови.
– Ты мне глупость сказала, Павлина. Все это совпадение.
– Не дури. Совпадение слишком многозначительное. Ты знаешь сам.
Генерал вздохнул и сдвинул на загривок фуражку. Тулья оказалась на одной линии с его плоским лицом, и только челюсть торчала, подобная каменному крыльцу.
– Ну, или может быть так, Сарафутдинов: ты сам подбросил мне эту дрянь. Вот уж тебе никакие консьержи не помеха. Я так и скажу, если спросят.
– Павлина, – зарычал мой генерал, но я уже знала, что нащупала сокровенную точку джи, и дожимала.
– Наверху потекло говно, ветерком потянуло, и ты тоже завонял. Решил пришить мне этими иглами сраные песочницы с читальными залами. Вообразил, что ваша берет? Не связывайся с военными, Сарафутдинов.
– Ты лучше посмотри, не взяли ли чего, – буркнул он. – Золото, камни, деньги! Документы какие-нибудь.
– Почем мне знать, чего там не хватает, – отмахнулась я. – Не суетись, я посмотрю, посмотрю. Я уже посмотрела. Нам обоим понятно, что все на месте.
Но мы, разумеется, все проверили снова и выяснили, что я была права. С документами генерал и вовсе сморозил глупость. Мне сделали виртуальный диск, произведенный от десяти других, тоже виртуальных; ни одна сволочь не могла до них докопаться, если я не хотела, а то немногое, что неизбежно оказывалось на бумаге, я не хранила дома, это была собственность Министерства.
– Твои иголки, Сарафутдинов, – твердила я, хотя в голове понемногу складывалась другая версия. – Ты в курсе, что я записала на камеру, как ты меня харишь?
…Было глубоко за полночь, когда генерал выпроводил свою опергруппу. Моими посулами он хоть и был устрашен, но от улик не избавился и оформил их по всему протоколу. Я видела, как он разрывался: остаться или пятиться от меня дальше на случай чего? Он остался – на полчаса.
Тогда я решилась. Мы снова сидели в кухне и пили, только уже не водку, а коньяк.
– Знаешь, кто твой маньяк, Сарафутдинов? – спросила я. – Это Бомбер. Мое дело сказать, а дальше делай, как хочешь, только учти – если совсем забудешь, где берега, и наедешь на военных, никакой Бомбер тебе не поможет. Я буду тебя топить.
Генерал сосредоточенно чавкал. Ему нравилось послевкусие. Никогда этого не понимала, мне всегда хотелось скорее запить или зажевать. Привычки молодости, традиции ивановской коммуналки, откуда я родом.
– Зачем Бомбер? – хрюкнул Сарафутдинов. – Кто он такой?
– Директор цирка. Он фокусник и гипнотизер. Очень удобная профессия, чтобы снять охрану и залезть в дом. Это раз. Два: фокуснику проще простого приманить деток. Они потянутся строем, как зайчики. Вроде крыс, которых утопили. Не желаете ли, мол, пару билетов в цирк?
Генерал нервно облизнулся.
– Каких крыс утопили?
Я вздохнула. Столкновение культур, а если проще – пещерная серость.
– Забудь, это сказка. Он цирк охраняет, Сарафутдинов. Потому что именно в цирке он потрошит малышей. Отберут помещение – все вскроется.
– А почему он потрошит животы и шьет глаза? – глупо спросил Сарафутдинов, как будто я могла знать.
– Вот сам у него и выясни.
Тут он начал вздыхать, чесаться, ерзать и привставать, как будто не знал, куда себя деть. Ему вроде бы хотелось уйти – полагалось уйти, но в то же время хотелось остаться. Или полагалось остаться. Я не наивна и не считала, что он терзался служебной невозможностью погрузиться в мои жаркие соки. Я даже не думала, что он боялся оставить меня по той причине, что погромщик вернется и открутит мне голову. Его донимали другие сомнения. Он подозревал меня в намерении скрыться и просчитывал кадровые решения, которые повлечет за собой мое бегство. Остро запахло мускусом.
– Ступай, Сарафутдинов, – позволила я. – Иди, служи дальше. Я никуда не денусь.
– Точно будешь здесь? – встрепенулся он.
– Очень хорошо буду.
Я редко глумилась над его азиатскими оборотами, но сейчас был подходящий случай. Сарафутдинов ничуть не обиделся – напротив, он встал с великим облегчением, хотя я видела, что в нем рассеялись не все страхи.
– Павлина, не ходи никуда.
Он погрозил пальцем, прикидываясь, будто шутит шутки.
Мне не терпелось переодеться в китайский халат, я оставалась в тесном европейском костюме и вся взопрела. Мои розовые устричные складочки натерло за день, их саднило, микроскопические грязевые крошки растворялись и едко впитывались в распаренные поры, все было липко и душно.
Сарафутдинов ушел.
Я прошла в спальню, повалилась на ложе. Тварь, которая вломилась в мой дом, метнула подсвечник в потолочное зеркало. Я легла неудачно и отразилась так, что удар как будто пришелся мне аккуратно в чрево. Змеились ломкие трещины, и мне казалось, что на меня возлег многолапый паук. Скверная примета. Искаженное отражение возвращается к оригиналу и разбивает эфирное тело в согласии с причиненным ущербом.
Прибирать я не стала. Завтра. Это забота Фатимы.
Выпитое припечатало меня к покрывалу, и мне расхотелось переодеваться. Я просто таращилась в сердцевину стеклянного насекомого, но мысли подспудно варились, ворочались и складывались в пока еще не осознанное решение.
Утром я не поехала в ведомство – вместо этого я приказала ведомству явиться ко мне. Мелькнула мысль, что телефон уже слушают, но я отогнала ее. Как будто его раньше не слушали.
– Тёма, – сказала я, – ноги в руки и живо ко мне. Никому ни звука. Все отменить.
Тёмой звали моего капитана.
Я караулила его на выходе. Перед этим я заглянула в будку консьержа и кое-что ему объяснила.
– Слушай предельно внимательно, гнида, – я ухватила его вострую морду в горсть и дернула. – Я не знаю, кого ты вчера впустил. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Но если ты, бактерия, хоть намеком вякнешь, кого ты только что выпустил, я тебя урою. Я спроважу тебя в самый ад. Думаешь, мне конец? Не надейся. На тебя мне власти хватит.
Консьерж вдруг преданно заскулил – единым долгом звуком, не находя благоговейных слов. Он поджал обе лапки, словно сурок. Я толкнула его в кресло. Смахнула с пульта какую-то дребедень и вышла.
Тёма вошел при погонах, в сверкающих сапогах.
– Мы едем в цирк, – я развернула его к двери лицом. – У тебя пистолет заряженный?
Капитан пошел бархатными пятнами, но отрывисто кивнул.
Мне почудилось, что я угодила в дамский детектив. Но было ясно, что генерал не ударит палец о палец. А за ночь я окончательно уверилась в Бомбере и собиралась прижать его к ногтю.
Глава последняя.
Сергей Иванович
Рукопись
Ранней весной шапито простаивает. Бомбер напрасно намекал мне на якобы врожденное равнодушие к цирку. В детстве мне там нравилось. Я и цирк любила, и конфеты, и мороженое, и лимонад, и однажды обожралась в буфете до диатеза. Во втором акте вся исчесалась, разодрала волдыри, а я была в белых колготках, ножки полненькие такие, славные, как сейчас, и вот все измазала кровью да шоколадом. Воздушные шарики, флажки, петушки – мне все это покупали. В дыре, где я родилась, было целых два цирка, но не сразу, а подряд. Первый зачем-то взорвали, хотя он был еще ничего, а второй построили через пять лет. Я не собиралась идти по стопам руководителей старой формации и взрывать шапито. Под ним, конечно, не было никакой ракетной шахты. Я собиралась развернуть здесь образцовый военно-полевой храм, который работал бы в режиме круглогодичной инновационной выставки. Я не сказала об этом директору. Конфигурация шапито и соседство с кладбищем показались мне подходящими – кое-что надстроить, кое-что переставить.
Маржа не маржа, а цирк и вправду стоял без дела. Никакой крепкий хозяйственник не стал бы взирать на это спокойно. Будний день, обочина жизни; где-то шуршат грузовики, разлетается веером бурая грязь; потеплело, но пасмурно. Здесь же все вымерло, лишь изредка подает голос кладбищенское воронье. И шапито имел похоронный вид: расписанный в многие краски, но все равно темный от копоти. Над парой слонов из гипсокартона кто только не потрудился – на них начертали непристойности, их били, щипали, колупали попоны; может быть, в пьяном раже даже выкусывали из них фрагменты, продавили, сбили клыки, изрисовали хоботы так, что те превратились вовсе не в хоботы. Убогие аттракционы, качели и карусели ржавели и гнили, парковка обернулась гумном. Охрана – пенсионер в будке. Я коротко объяснила ему, кто мы такие, и знаком приказала сидеть, потому что он уже дернулся вытянуться во фрунт и глаза стали, как будто он сию секунду проглотил килограмм белены.
– Где директор?
Старый шептун отвечал, что Бомбер на месте, в помещении, а больше там и нет никого. Я велела ему контролировать, что называется, периметр, хоть это была и полная глупость, но ему так не показалось, он только кивал.
– Другой выход есть?
Юродивый, конечно, вообразил, будто я спрашиваю в противопожарном смысле.
– Есть! Даже два!
Я не стала его разубеждать, а про себя решила действовать тише. Можно было оставить Тёму снаружи, но я прикинула и поняла, что с ним мне будет спокойнее.
Мы с капитаном вошли внутрь. Невзрачное, с позволения сказать, фойе, пустые лотки, деревянные лавки. Я старалась держаться уверенно, но все же двигалась крадучись. Капитан расстегнул кобуру. Я предупредила его, что дело опасное. Мы проследовали по ипподромной дорожке к манежу. Помещение было куда просторнее, чем представлялось снаружи. Вымерший амфитеатр, мощный центральный шест для поддержания шатра. Другие шесты, промежуточные и боковые. Под куполом – сиротливая воздушная оснастка. Опилки, впитавшие неистребимый запах зверья; пыльные малиновые ковры, полумрак; бледные световые столбы, протянувшиеся высоко от каких-то не то окон, не то иных производственных отверстий.
Что-то упало, стукнуло и отдалось глухим эхом. Затем булькнул капитан. Я повернулась и увидела, как он медленно оседает на колени. Кровь тонкими фонтанами выплескивалась из перерезанных артерий. От капитана метнулась черная тень и спряталась за шторкой в десяти шагах от меня.
«Надо забрать пистолет», – спокойно подумала я, обратившись в мыслящую машину. Но кобура, понятное дело, уже опустела. Пуговка расстегнута. Пальцы иллюзиониста, стосковавшиеся по сценическому искусству.
– Бомбер, – позвала я. – На что вы надеетесь? Выходите, поговорим.
Капитан повалился ничком и остался лежать, мелко дергаясь прощальными сокращениями. Бомбер выступил из тени, целясь в меня. Он почему-то оделся в черный, с алой подкладкой плащ, и вскинул свободную руку нетопыриным крылом. На голове красовался цилиндр. Лицо у него было совершенно безумное – больное болезнью, а не просто пьяное от крови и разгула чувств.
– Как вы попали в мой дом? – спросила я лишь затем, чтобы занять его разговором.
– Ключики, – осклабился Бомбер. – В вашем кабинете, когда вы изволили любоваться фокусами. Откатал, мне их выточили за час.
– Консьержа усыпили?
– Усыпил, – кивнул он, блуждая взглядом.
– Но зачем?
– Хотел, чтобы вами пристально занялись, обратили внимание. Может, и уцелела бы радость для деток.
– Но я оказалась умнее?
– Быстрее, – поправил он. – Ну, мы это сейчас уладим.
Я поспешила продолжить:
– Это вы подговорили остальных? Хотели затеряться в компании?
– И затеряться хотел, и обозначиться громче.
– А что за лесенка, с которой вы бегаете по ночам?
Я тянула время, но Бомбер, хоть отвечал, мелкими шажками приближался ко мне.
– Есть такая лесенка, цирковая, для эквилибристов…
– А почему зашиваете глаза?
– Это не ваше дело, Павлина Пахомовна. Чтобы птицы не выклевали, если угодно. Я отпечатываюсь в глазах и потом попаду в рай. На крыльях ангелов. Детки меня проведут… Я же артист, я знаю, что такое контрамарки.
Он поднял пистолет, но его ударили по руке, и тот выпал. Слева, справа, сзади напрыгнули люди, но Бомбер с визгом вырвался и пустился бежать. Пуча глаза, в сбившемся на затылок цилиндре, с разоренным пробором и прыгающими усами, он больше напоминал старинного комика, чем возомнил о себе Ойчек Молчун. Оперативники бросились в погоню. Конечно, они следили за мной. Сарафутдинов, явившийся последним, протопотал мимо и глянул на меня лишь мельком, дабы убедиться, что я цела. Бомбер тем временем уже скрылся во мраке по другую сторону манежа. Сарафутдинов пошел по арене. Для этого шествия, которое вполне могло сойти за парад-алле, не хватало оркестра. Я ощутила себя на вторых ролях и поняла, что еще немного – и меня ототрут, а потому пустилась вдогонку и вскоре обогнала генерала. Как только это случилось, я обнаружила, что мчусь со всех ног.
В коридоре-кольце захлопали выстрелы. Мелькнула алая подкладка. И вдруг все собрались на одном пятачке: Бомбер отшвырнул пистолет капитана, поднял руки и привалился спиной двери, бледный, как смерть. Теперь он смахивал на классического Пьеро. Его окружили, я протолкнулась ближе. Где-то позади раздувался Сарафутдинов, он еще не дошел.
– Нельзя! – зачастил Бомбер, загораживая вход. – Это служебное помещение, туда нельзя!
Он перестал быть Пьеро. Лицо Бомбера внезапно сморщилось, и он сделался обезьянкой. Таким он, видимо, и был по жизни, внутренне, источенный и высушенный помешательством.
Его схватили за руки, за плечи, дернули в сторону, ударили ногами в дверь.
– Не трожьте его! – завизжал Бомбер. – Там Сергей Иванович! Не смейте к нему, вы пожалеете, вы не имеете права его трогать!
Подоспел генерал.
– Какой-такой Сергей Иванович? – прохрипел он, вторгаясь в проем.
– Не ваше дело! – выл директор. – Сергей Иванович! Сергей Иванович!
Я заглянула и замерла. Первый оперативник приблизился к грязной оцинкованной ванне, квадратной, заглянул внутрь и отшатнулся. Он пятился, пока не уперся в стену, и там остался стоять с широко расставленными ножищами. Второй, когда посмотрел в ванну, скорчился и начал блевать.
– Сергей Иванович! – кричал Бомбер.
Зашел туда и Сарафутдинов. Он потоптался у ванны и вернулся в коридор, остановился там и принялся мрачно разглядывать свои ботинки. Бомбер выкатывал глаза и всхлипывал, его держали.
– Убедился, Сарафутдинов? – осведомилась я.
Генерал вздохнул, посмотрел на Бомбера.
– Пусть идет, – буркнул он.
Оперативники смешались.
– Виноваты, не поняли.
– Что не поняли, пусть идет, – Сарафутдинов повысил голос, поднял глаза на Бомбера. – Пошел отсюда! Я теперь знаю тебя, берегись, ходи прочь, пока цел!
Руки разжались. Бомбер осклабился сквозь слезы, черные от грима, и стал отступать. Его походка делалась все более упругой с каждым шагом. Он даже попытался отвесить поклон, хотя еще весь дрожал; сорвал цилиндр, взмахнул им, метнул его, как летающий диск.
Сарафутдинов повернулся ко мне.
– Извини, Павлина, вы задержаны, гражданка Вонина.
…Я не знаю, не знаю, что они пишут на меня; я красивая, бедная, я спадаю с лица, мои платья висят мешком; мне не даются стихи, я хочу шоколада; меня возили-допрашивали, мне ничего не сказали о детках; мне кажется, их похоронят во всяком смысле и не повесят на меня, им хватит сучьев, но что же тогда, почему замолчал мой министр, куда он уехал, вы суки, вы твари, вы, господа, сущие звери, я сижу взаперти, меня хотят замуровать, меня сошлют в африканское посольство к людоедам, я хочу посмотреть телевизор; никто не знает, где я; никто не найдет меня, моего дома нет, моей улицы нет, и района нет тоже, и меня тоже нет, а на нет нет суда – его и нет; я боюсь подходить к окну, за ним уже распускаются почки и что-то цветет, там стало теплее, а меня пробирает холод…
январь-апрель 2013
Допрос Бенкендорфа
«Вольются в Дерево Цвет» – никем не обещано.
Они стоят у подножия; пролетает мгновение – они уже осваивают ярус, сразу четвертый, минуя восьмой и нулевой; мгновение – условность для большей доходчивости. Картины меняются, последовательность сохранена. Пространство упразднено, и до всего, что образуется, бывает подать рукой. Воображенное возникает с половинными шансами. Повсюду им жутко и мерзко, невыносимо желанно, все может оборваться.
Они вливаются, не иначе. Вполне вероятно.
1
Первое представление о волне Брованов получил, когда покинул кинотеатр минут на пять – перекурить и оглядеться. Олтын-Айгуль осталась в зале. У нее было еще одно какое-то имя, намного проще.
Кинотеатр представлял собой внушительный развлекательный комплекс, храм удовольствия. Стальной и стеклянный, изъеденный эскалаторами, изобилующий полумрачными харчевнями с алой мебелью, торгующий мишурой. Наполненный посетителями, не знающими, чем заняться, равнодушными к волне и песьеголовому серийному убийце, бродящему в переходах и отрывающему бошки. Он появлялся на миг, истреблял одного или двоих, реже – троих; затем растворялся. О нем вспоминали на миг же, обмирали от холода, моментально забывали, продолжали ходить.
Олтын-Айгуль стояла у окна во всю стену – собственно, и бывшего стеной. Опираясь на поручень, сверкавший сталью брус, она изучала крыши домов – вишневые, малиновые, бурые, седлающие желтые стены, присевшие в ожидании волны, покуда день перетекал в лихорадочные сумерки. Лиловые облака, собравшиеся на горизонте, раздавили солнечный свет в лепешку, заостренную по краям. Брованову покамест не было дела до Олтын-Айгуль, хотя они прибыли, как он смутно припоминал, вдвоем; он, стоя снаружи и отбрасывая длинную тень, пробовал прикурить и одновременно взирал исподлобья на человека, облепленного голубями.
Человек торчал изваянием, как будто заранее подставился. Голуби разом слились и облепили его с головы до ног, уподобляясь поползням. Они застыли, через минуту дружно отвалились, попадали замертво на теплый асфальт. Мужчина, испещренный точечными багровыми отверстиями, лишенный всей крови до капли, еще немного постоял и тоже повалился. Все это произошло в совершенной тишине. Брованов бросил окурок и поспешил вернуться в кинотеатр. Зрительный зал, нисколько не затемненный, был полон наполовину; многие сидели, другие бродили с коктейлями между рядами, перетаптывались в проходах. Мелькнул маньяк, возвышавшийся над людьми на добрую голову – песью, да; кого-то рванул, кто-то ахнул, удивленно обернулся.
– Вон он пошел, – сказал кто-то.
Брованов успел заметить мохнатый загривок, мелькнувший в толпе; возобновилось ровное гудение, состоявшее из голосов, шарканья, кашля и шума вентиляторов. Там, где недавно сидела жертва, образовалась зона отчуждения – мелкие брызги крови, и больше ничего.
В зрительном зале не было экрана.
Фильмов тоже не показывали.
Где-то разбился стакан, где-то сбилась ковровая дорожка. Город за окнами выглядел вымершим, и только воздух подрагивал, да прочерчивал след невидимый самолет.
– Сейчас придет волна, – сообщила Олтын-Айгуль, переместившаяся стремительно, незаметно для глаза. Она взяла Брованова под руку, притиснулась, передумала; разогнула калач, образованный локтем, положила ладонь Брованова себе на бедро. Тому стало так сладко, что он едва не сошел с ума. – Вон она, – продолжила Олтын-Айгуль.
– Вообще, мы где с тобой? – осведомился Брованов.
Наверное, он был восхитителен – судя по выражению ее лица. Лица у нее не было, одно выражение.
– Так уже всё, – ответила Олтын-Айгуль, похожая сразу на всех, кого он знал, и Брованов различил тончайший колокольный звон, похожий на комариный писк. В зале вздохнули, бросились к окнам; горизонт ненадолго заволокло бесшумным дымом – разовый выброс чего-то откуда-то; когда дым рассеялся, вдалеке замелькала высоковольтная вышка – растопыренная, неловкая, грубо шагавшая и наступавшая туда и сюда, плясавшая и погружавшаяся в непристойные безумства. Очевидно, она сокрушала, где шла, все подряд. Ее дикие метания наводили на зрителей паралич.
– Волна прокатилась, – Олтын-Айгуль произнесла это с необоснованно вопросительной интонацией, ибо не рассчитывала на ответ.
2
Пандус по случаю февраля покрылся наледью; шипованные колеса проворачивались опасливо, словно примеривались. Автомобиль неторопливо вползал на полупустую стоянку перед центральным входом в Институт Нейрохирургических Инноваций. Он еще ехал последние метры, когда распахнулась дверца, как будто выпустившая нетерпеливый пар: наружу вывалился крупный мужчина в расстегнутом пальто. Не толстяк, но весьма упитанный – таких называют сытыми; в широких, чуть полосатых, брюках; в проеме пальто виднелся толстый галстук и двубортный пиджак, застегнутый, как положено, на одну пуговицу. Большие щеки, губы, нос; бесчувственные глаза, аккуратно зачесанные редеющие волосы, полуторный подбородок и пухлые кисти. Водитель остался в салоне, намеченный небрежным штрихом.
Крупный и сытый поскользнулся на ровном месте, коротко выругался и поспешил в здание; лицо, на миг исказившееся досадой и злобой, медленно восстанавливало обычное равнодушное выражение. Так ведет себя упругий диван, когда приходит в себя от вмятины. Мужчина полез за пазуху и встретил взметнувшегося привратника уже в полной готовности: сунул под нос вишневого цвета корочки. Вкупе с общей целеустремленностью обладателя их вид побудил стража захлопнуть рот и воздержаться от разглагольствований насчет бахил. Но мужчина вдруг остановился, резко затормозив, и поднял ногу.
– Ботинки чистые, проверяйте!
Охраннику не оставалось иного, как тупо уставиться на внушительного размера ботинок, которым посетитель поигрывал довольно ловко, вращая голеностоп.
В правой руке мужчина держал черную папку.
Позади присутствовал Брованов. Сливаясь с воздухом, он парил за спиной мужчины и холодно наблюдал за его перемещением.
Гость отвернулся и пошел прочь, к лифтам. Он держался хозяином. Охранник видел его впервые и немного расстроился, ощущая обидную невостребованность. Ориентирование в проходах и переходах было его прерогативой, на которую никто никогда не покушался.
Сытый мужчина пригласил не один лифт, а сразу все. Четыре кабины примчались с секундной разницей, посетитель шагнул во вторую. Взлетел на шестой этаж и вскоре уже вышагивал по линолеуму, безошибочно угадав кабинет заведующего в конце коридора. Мимо прошел человек в спортивном костюме, с перебинтованной головой; проковыляла санитарка. Справа мелькнула палата, зиявшая проемом, где замерла, готовая тронуться в путь, скрюченная бабушка в самоходном кресле.
Все это не возбудило в посетителе ни мгновения любопытства.
Он вошел в кабинет, предварив свое появление отрывистым уведомляющим стуком.
Заведующий поднял подслеповатые глаза и встал, угадав серьезного человека. Заведующий курил; его ладонь автоматически сложилась в ладью, куда он сразу же и свалил пепельный столбик.
– Добрый день, моя фамилия Бороздыня, – скороговоркой проговорил вошедший.
– Греммо Иван Миронович, – ладья расправилась, нацелилась в Бороздыню, но сникла на полпути. Греммо был левшой, ладья была правая, пришлось вынимать платок и протирать.
Наконец, рукопожатие состоялось. Для Бороздыни эта пауза оказалась уместной, он не привык здороваться за руку с людьми, которых по роду своей деятельности навещал, посещал и неизбежно обременял. Греммо уже знал, о чем пойдет речь. История болезни, заранее отложенная, торчала углом из вороха медицинских бумаг. Иван Миронович положил сигарету в мутную пепельницу, выполненную в виде гроба. Пепельница, разделенная на два неравных отделения, одновременно служила сигаретницей. В отделении побольше под крышкой, призванной скрывать туловище и ноги покойника, хранились сигареты. В том, что поменьше, предназначенном для головы, была устроена собственно пепельница. Мраморные подушки покрылись сажей. Зажигалка располагалась в ногах, и в пламени, по желанию созерцателя, усматривалась либо свеча, либо вечный огонь, либо просто событие кремации.
Греммо вытянул историю из стопки.
– Присаживайтесь… Собственно, вот…
– Дайте сюда, – Бороздыня подался вперед, отобрал историю, поискал кресло. – Как-то неудобно мебель у вас стоит, Иван Миронович. Приходится сбоку сидеть, несподручно, – Бороздыня сел и разорвал историю надвое. – Не возражаете, если я развернусь?
– О чем разговор – обождите минуточку, я сам поставлю…
Щуплый Греммо, косматый височными вихрами и бледный тонзурой, вцепился в соседнее кресло. Брованов скосил глаза, сидевшие глубоко в параллельной вселенной, и эта легчайшая работа глазных яблок перевела его в состояние бодрствования. Бороздыню он уже и так потерял, а Греммо беззвучно растаял вместе с креслом и кабинетом.
Брованов провел рукой по лицу, поморщился, попробовал сесть, что удалось ему со второй попытки. Его шатало, голова кружилась, и где-то очень далеко тонули, поглощаясь серым эфиром, Олтын-Айгуль, Бороздыня, Греммо и весь остальной мир, преобразованный волной. Кем была Олтын-Айгуль, Брованов так и не сообразил, зато названные мужчины держались куда прочнее, имея поддержку в действительности.
Штатив с капельницей исчез. Брованов поднял руку, приспустил рукав. Локтевой сгиб перекрещивался полосками пластыря, державшего марлевый валик. Он огляделся и увидел решетку – толстую, с мелкими клетками, встроенную в небольшое окно. Клочок неба мутился, и Брованов решил, что снаружи наступила оттепель.
Он кое-как встал. Его моментально швырнуло в сторону, он рухнул на колени, но не ушибся, благо стены и пол были обиты пухлым. Позади была койка, присобаченная к стене, как будто в спальном вагоне. И больше ничего – ни умывальника, ни стола, ни вообще мебели, за исключением пластикового судна и пачки бумаги с огрызком тупого карандаша. Проглотить?
Обманчиво мягкая дверь таращилась бронированным глазком. И, разумеется, оставалась наглухо запертой.
3