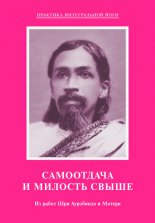Прекрасная Франция Савицкий Станислав

В теплое время года в Париже, помимо больших рынков, как и в давние времена, как будто еще со Средних веков, проходят распродажи старых вещей brocantes и vide-greniers, на которых раньше сбывали то, что пылится на чердаке. Эти рыночки разбивают на пару дней прямо на улице – на тротуарах или на аллеях. Не факт, конечно, что так было много столетий подряд. Скорее всего, эту традицию восстановили в девятнадцатом веке, когда любви к старине придали форму торжественных празднеств по случаю годовщин битв, юбилеев деятелей культуры и прочих поводов для народных гуляний. На этих уличных рыночках вы можете узнать о Париже и о Франции гораздо больше, чем из экскурсии по музею Карнавале. Как-то раз, например, я увидел на vide-grenier коробку с маленькими фарфоровыми фигурками: молящаяся Богородица, спаривающиеся поросята, морковка, немецкий пожарный. Их продавала пожилая женщина, которая рассказала, что держит антикварную лавку у place d’Italie (кстати, многие, кто торгует на уличных рынках, – хозяева антикварных магазинов). Она собирает среди прочего fves – фигурки, запекающиеся в galette – пирог, который готовят на Богоявление, по календарю совпадающее со старым праздником Бобового короля. По традиции его едят всей семьей, и тот, кому достанется кусок с фигуркой, получает корону (на сломанный зуб обращать внимание не рекомендуется). В другой раз на brocante мне попался народный постмодернизм: портрет упитанных кроликов и два портрета куриц в пандан /ил. 55, 56/. На обоих мелкая сетка, как на заборе. Образ, полный жизненной правды – идиотической, весомой, грубой, зримой, как мир вокруг нас.
Без Лувра сложно понять Францию в ее имперских амбициях. Лувр – гигантская колониальная коллекция, распадающаяся на сотни собраний. В нынешнем своем виде он создан при Наполеоне III, в период Второй империи. В таких музеях можно прожить всю жизнь и так и не узнать даже половины того, что хранится в запасниках. Лувр бесполезно смотреть от начала до конца. Каким бы тонким ценителем искусства вы ни были, столько информации не уместится ни в одной голове. Разумнее всего приходить сюда по делу: посмотреть одну картину Делакруа, а потом – в кафе. Или коллекцию древнегреческих статуэток Карла Х – и в бар.
Когда я жил на Сент-Оноре, рядом с площадью Жанны Д’Арк, я взял себе за правило каждый день ходить в залы французского искусства. Я приходил утром, когда в музее еще никого нет, или в обед, когда большинство туристов спешит подкрепиться, или вечером по четвергам, когда музей открыт допоздна. День ото дня, начав со средневековых икон и портретов, я методично, зал за залом, рассматривал живопись, читал аннотации к вывешенным на экспозиции работам. Я вел себя как идеальный посетитель музея и этим не мог не навести на себя подорение. Смотрители скоро стали меня узнавать, бросали в мою сторону недобрые взгляды, чувствуя во мне потенциальный источник беспокойств. Я в самом деле злоупотреблял их терпением, битый час торча в зале, где висело несколько картин, застревая еще дольше в следующем, затем возвращаясь, чтобы перечитать аннотацию и еще раз рассмотреть одну из работ. Смотрители успевали смениться по полному кругу, – в Лувре они через полчаса или час переходят из зала в зал, чтобы не заснуть на месте от напряженного труда, – а я все еще топтался там же, что пару часов назад. Через неделю моих походов в Лувр я заметил мужчину в черном костюме охранника, который, делая вид, будто медленно прогуливается, краем глаза поглядывал в мою сторону. Кажется, меня взяли на заметку и уже собирались оказать мне честь пригласить в компанию Аполлинера, Пикассо и прочих знаменитых похитителей шедевров. Но я должен был их разочаровать, за месяц добравшись, наконец, до залов барбизонцев, так и не вспоров брюхо отверткой Сарданапалу на холсте Делакруа и не плеснув серной кислотой на «Воспоминание о Мортефонтене».
За месяц я прикипел душой к Лувру. До сих пор я плохо знаю музей целиком и не уверен, что когда-нибудь смогу заучить эту колоссальную экспозицию. Но с тех пор мне всегда очень уютно в узком зале с лионскими портретами. Я полюбил плавный поворот к залу Пуссена и полусумрак ротонды, где висят его «Времена года». Мне и сейчас хочется развернуться на сто восемьдесят градусов в зале натюрмортов восемнадцатого века, сливающихся в несколько разноцветных полос, и погрузить взгляд в тушу ската, мерцающую посреди шарденовского холста. Взгляд застревает между тонких мазков, в переливах света, бликах, гуляющих по туше, эта небольшая картина втягивает в себя, и ты с удовольствием еще раз убеждаешься в том, что живопись бывает явственнее реальности. Тогда мне очень понравился Делакруа. Его большие холсты терялись в огромном зале, но, если удавалось заставить себя не замечать толпы, необъятного пространства, шпалерной развески и сосредоточиться на живописи, эффект был не менее живительный, чем перед картинами Шардена или перед энкаустикой Делакруа в Сен-Сюльпис.
Позднее я полюбил залы Северной школы, как здесь называют голландскую и фламандскую живопись. Крепостные стены и донжоны, раскопанные под дворцом, с их атмосферой компьютерной игры для готов, с их вечной толчеей на дощатых мостовых мне нравятся, как школьнику. Ника Самофракийская, пусть она даже вся собрана из подручных материалов на радость туристам всех времен и народов, мне стала мила с первого раза, как только я ее увидел. Нет в ней ни помпезности (это с крыльями-то на распорках?), ни идеала, ждущего поклонения себе (не так уж много от нее самой осталось). Она – идеальный шедевр, который любят за то, что все его знают. Она – само наше ожидание древней красоты.
Лувр регулярно приглашает писателей, художников, режиссеров сделать выставку, используя произведения из собрания музея. Одним из лучших проектов на моей памяти был танец Мерса Каннингема по мотивам автопортрета Фрэнсиса Бэкона. Каннингем повторил в движении бэконовский пластический рисунок. Он танцевал на белом картонном квадрате, оставляя на нем росчерки графита, закрепленного на локтях, кистях, коленях. Видеозапись перформанса показывалась в зале, где был вывешен автопортрет, а на полу осталась белая площадка, испещренная черными росчерками, которые рифмовались с вывернутыми линиями Бэкона.
Выставку о Лувре, любимом с детства, сделал несколько лет назад Патрис Шеро. Он с малых лет привык здесь бывать – сначала вместе с родителями, которые были художниками-оформителями, потом сам, пока собирался заниматься искусством. Но стал режиссером. От искусства как такового он был далек, однако все спектакли предварительно подробно рисовал в эскизах. В узком коридорчике Шеро выставил наброски костюмов, декораций и сценических решений. Для двух больших соседних залов он отобрал картины, которые помнились ему с детства, и работы современных фотографов. На холстах и на снимках мы видим тела в движении: эффектные па, аффективные жесты и гримасы, сцены страдания и отчаяния. Пластический язык его театральных постановок возникает из сближения сюрреалистического репортажа в духе Сурбарана с выставленной напоказ личной жизнью героев Нэн Голдин, из соединения выточенных фоторельефов Мэпплторпа – с предчувствием маньеризма у Понтормо. Театр Шеро создан Лувром, увиденные в детстве картины преобразились в сценические образы.
Лувр – не храм искусств, а дом для тех, кто прикипел к нему душой, кто наделен талантом неспешной прогулки по залам. Пусть толпа, окружившая плотным полукругом зеленую тетку под толстым стеклом, бликующим, как линзы в очках моего одноклассника Шурика Патанова по кличке Тулип, у которого было зрение минус семь, пытается мыльницами и мобильниками сфоткать через головы впереди стоящих прекрасный человеческий образ. В google i он, наверно, самый популярный после символов жизнелюбия и плодородия. Пусть всем посетителям достанется свой трофей, каждый унесет частичку прекрасного, не звенящую в рамке металлоискателя, а успешный менеджер пусть останется доволен высокими показателями посещаемости.
На моей карте Парижа помимо Лувра есть еще несколько стратегически важных объектов. Бывший вокзал Орсэ, куда из Лувра в свое время перевели коллекцию импрессионистов и ранний авангард, не полюбить нельзя. Превращение вокзала в музей было и остроумным, и эффектным жестом, тем более что проблема с пустующим напротив Тюильри зданием давно ждала своего решения. Художники, обожавшие писать в клубах дыма прибывающий на платформу поезд, бегущий посреди поля паровозик и пассажиров второго класса с приветливыми, благополучными лицами («в зеленых плакали и пели»), оказались в этом необычном экспозиционном пространстве очень кстати. Сам по себе вокзал небезынтересен с архитектурной точки зрения. Дом с фасадом дворца, с просторными галереями над перронами и массивным пухлым декором из стали и стекла. Строительство этого вокзала избавило человечество от одного из самых жутких кошмаров модернизма – «Врат ада» Родена. Они были заказаны для ведомственного здания, которое планировалось возвести на этом месте. Начало работ все откладывалось, и в итоге – есть высший судия! – здесь построили вокзал. Роден же всю жизнь продолжал работать над незавершенным шедевром, ограничившись исключительными по пошлости мыслителем, тремя грешниками и еще несколькими, не такими известными скульптурами.
В Музее Орсэ есть много радостей для любителя модернизма. Сам я, впрочем, к тому же импрессионизму отношусь без особого трепета. Но вот Курбе – мрачно, хлестко пишущего море, затаскивающего нас на нищие похороны в богом забытую овернскую деревню и заставляющего нас всматриваться во влагалище, гадая, какое выражение на лице подобает этой встрече с прекрасным, – Курбе я всегда любил. Он был чрезвычайно заносчив, он был несдержан, ему следовало соревноваться не с модными интеллектуалами типа Прудона, но с мыслителями, которым было важнее осознать суть происходящего в тогдашней Франции. И все равно его бурная, непокорная живопись мне очень по нраву. Разоривший его штраф за снос Вандомской колонны и прочие героические истории о нем в юности меня вдохновляли. Теперь же в каждом новом музее модернистского искусства я всегда рад обнаружить работу Курбе, которую раньше не видел.
В Орсэ много вещей, которые я по-мальчишески любил, теперь же отношусь к модернистам-бунтарям в большинстве случаев иронически. Мане, Моне, Сезанн мне по-прежнему интересны, только не энергией противоречия установленному порядку, которой им было не занимать. Я стал их ценить как художников-исследователей, как интеллектуалов, экспериментировавших с живописью. К Утрилло, например, меня приобщила давняя приятельница еще на первом курсе, подарив его альбом, где была напечатана повесть Карко и воспоминания Сюзанны Валадон. На некоторое время окрестности кабачка «Проворный кролик» локализовали для меня весь художественный Париж. Юноше, выросшему в Ленинграде, это искусство было понятно и интересно. В Эрмитаже, на третьем этаже, импрессионисты и кубисты были представлены вполне сносно. Где-то на Пикассо и Марке авангард, правда, заканчивался, а с ним и современное искусство. Для наших художников оттепельного и застойного призыва парижский модернизм был точкой отсчета актуальной художественной жизни. Юношей я тоже пережил эту иллюзию, и сейчас ею даже дорожу. Ведь это наша местная традиция начинать заново один и тот же разговор, который проговаривали уже не раз в течение полувека, а то и больше. После войны «сэхэшатики» слушали рассказы Николая Пунина о раннем авангарде. В шестидесятые – семидесятые все ждали, когда на третий этаж вывесят что-нибудь новенькое из импрессионистов или Пикассо. В годы перестройки в моду вошли художники Монмартра, затем внимание переключилось на Монпарнас и героев двадцатых – тридцатых. Но это уже история о Центре Помпиду.
В Бобур, построенный после стольких споров, в Бобур, ради которого пришлось снести квартал в самом центре, в Бобур, который парижане обожают, я, как представитель иностранного легиона ценителей изящного, ходил одно время регулярно, как в Лувр. Сначала мне было тут интересно практически все: и два этажа искусства, которого ни в Москве, ни в Питере, ни на сопредельных территориях нет и никогда не будет, и роскошная библиотека по современному искусству, и выставки одна другой неожиданнее, и кафе, где можно было поболтать с приятелями, и кинопоказы, и открытые дискуссии, и большой книжный магазин, и симпатичные незнакомки, одиноко бродившие по залам музея. Подробно, зал за залом, я приходил смотреть Дюшана, дадаистов, сюрреалистов, леттристов – всех тех, о ком я много читал, но их работы знал больше по репродукциям. Даже наших Гончарову и Ларионова одно время было проще увидеть в Центре Помпиду, чем в Русском музее или Третьяковке. О второй половине века и говорить нечего. К нам, конечно, привозили выставки Бойса, Сулажа, Уорхола или Юккера, и в коллекции Людвига в Мраморном дворце есть всего понемножку, но пока я не изучил экспозицию Бобура, у меня были отрывочные представления об искусстве ХХ века.
Некоторое разочарование после того, как увидишь столько безобразия, конечно наступает. «Фонтан» Дюшана наяву мало отличается от того, что на знаменитом снимке Штиглица, да и слишком большая порция всех этих «измов» вызывает пресыщение. Но посмотреть анемичное кино на пленке двадцатых годов или роторельефы, по меньшей мере, забавно. В раннем кинематографе было не так много экспериментов, все больше криминальные истории, любовные драмы, прибытие поезда в маленький южный городок или поливальщик, который сам себя облил водой. На этом фоне «Терпимость» Гриффита или первые опыты Эйзенштейна выбиваются из общего ряда. Анемичное кино Дюшана и вовсе не вписывается ни в какие рамки. Роторельефы поразили меня завораживающей непристойностью. Вертя головой, чтобы прочесть заворачивающиеся в спираль тексты, я дочитывал фразу до конца, она оказывалась смешной и неприличной игрой слов. Оттого, что меня так легко провели, на душе становилось чисто и светло. Сложнее было с «Парадом» Рене Клера. Полчаса бестолковых похорон были непонятны, даже со второго просмотра. На третий раз я не отважился, решив прочесть умные статьи, где все должны объяснить и разъяснить. Так оно и вышло, после чего я еще больше стал интересоваться Дюшаном, который так ловко умеет водить за нос и, что удивительно, всегда держит карты открытыми. Его розыгрыши и мистификации берут тебя в сообщники, и это даже трогательно.
В Центре Помпиду сильное впечатление произвели на меня натюрморты Моранди – тусклые, бледно-серые, однообразные и чудесным образом мерцающие, как увиденная во сне темнота. Рельефные холсты Бальтюса, при близком рассматривании рассыпчатые, как песок, щедро добавленный в грунтовку, тоже запомнились. О педофильских скабрезностях, к которым была склонность у этого художника, я даже и не вспомнил, удивляясь тому, как фотографически приближена в его картинах жизнь. На иных снимках этот эффект возникает из-за проступающего в отпечатке растра.
В тот приезд я насмотрелся современного искусства на долгое время вперед. Видео-арт путался у меня в голове с документациями акций Ники де Сен-Фалль, алхимическая живопись Зигмара Польке – с нарративными фигуративистами и холстами Ойвинда Фальстрома. В общем, вакцина была введена, и, похоже, с передозировкой. Я долго приходил в себя, прежде чем начал смотреть на все эти поп-, оп-, соц-арты как на забавные случаи из чужой жизни. И теперь в Fondation Cartier, где показывают самое что ни на есть современное искусство, меня иногда одолевает тоска от той простоты, с которой все может быть экспонировано как художественное явление. Это происходит настолько естественным образом, что не смутится никто, даже скотч-терьер, проходящий с хозяином мимо выставочного зала по бульвару.
Тем не менее в Центр Помпиду я по-прежнему с удовольствием наведываюсь всегда, когда бываю в Париже. Хоть одна хорошая выставка там всегда есть. Раз в несколько лет кураторы меняют постоянную экспозицию, смещают акценты в истории искусства, продвигают забытых художников или показывают работы, хранившиеся в запасниках, придумывают новую развеску, иногда перепланируя залы. Тут же на эти новшества реагируют в нью-йоркском МОМА, в венском MUMOK или в лондонском Тейт. За этими изменениями в художественной атмосфере наблюдать чрезвычайно увлекательно.
По субботам, во второй половине дня, нужно совершать обход галерей на Маре. Это день вернисажей. В Париже много галерейных кварталов. Сколько здесь галерей – сложно сказать. Наверно, шестьсот или семьсот или даже больше. В Петербурге, по подсчетам искусствоведа Дмитрия Северюхина, автора энциклопедии современного художественного Петербурга, их около трехсот. А ведь наш город в два раза больше Парижа, если не принимать во внимание агломерации за кольцом. На Маре находятся главным образом галереи современного искусства, то есть тут выставляют недавние работы, а не художников шестидесятых или восьмидесятых, тут не будет салонов с портретами и фигурками котов. Некоторое время назад такой же квартал, только поменьше, был в районе нового здания Национальной библиотеки. Но сейчас там осталась только пара галерей, да и те на ладан дышат, и публика полностью переместилась на Маре.
Галерейный обход стоит начать с кондитерской. Есть, например, в районе Центра Помпиду одно симпатичное заведение, где продают нежнейшие пирожные mille-feuille и flan aux prunes. Если съесть что-нибудь сладенькое, современное искусство пойдет лучше. Все-таки удовольствия в нем кот наплакал, одни терзания. Возле музея, между фонтаном Кандински и улицей Бобур, есть пара хороших галерей, в которых будут выставлены какие-нибудь сколоченные из фанеры мастером Самоделкиным пирамиды, хромающие на одну точку опоры. Как пишут в аннотации к выставке, художник исследует геометрические фигуры в современном мире, изобилующем парадоксами. По другую сторону от музея, тоже на улице Бобур, есть еще одна симпатичная галерея, где выставляют что-нибудь вроде холстов с черепами, написанными энкаустикой, или большие картины с видами супермаркета, размытыми в живописных потеках и кляксах.
В этих галереях всегда есть план галерейных кварталов Парижа. По нему легко сориентироваться и далее действовать решительно и максимально необдуманно, не забыв тут же заглянуть в ближайший брассери и хлопнуть там стаканчик сидра либо, если холодно, кальвадоса. Встречу с прекрасным нельзя пускать на самотек.
Дальше вы наверняка наткнетесь на какой-нибудь сайнс-арт: колбы, провода, антенны, прозрачный барабан, в котором живет мышь под прицелом нескольких видеокамер. Ее частная жизнь выносится на всеобщее обозрение: несколько проекций на разных стенах показывают в разных ракурсах, чем животное занимается в данный момент. Мышь не смущается, но выглядит она такой же резиновой игрушкой, как герои реалити-шоу.
Потом вы увидите распечатанные на 3D-принтере гигантские флэшки самых невероятных форм и долгое видео о том, как девушка шла и шла по пустырю и пришла к высокому дому-улью с сотней окон, а там – ровным счетом ничего.
В следующей галерее будет выставка фотографа, заставляющего обнаженных девушек изображать энтузиазм в придорожных канавах.
Потом духовидец в поисках вечных ценностей: в пустой галерее синий треугольник на стене и оранжевый круг на потолке у окна.
Тут вам захочется выпить как следует. Это надо сделать безотлагательно. И благополучно закончить вернисажный вечер.
Через неделю наступит следующая суббота, и можно будет получить еще одну порцию арта.
Самая большая выставочная площадка современного искусства во Франции – Дворец Токио. Половина здания, возведенного на берегу Сены к Всемирной выставке 1937 года, на которой «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной символизировали триумф народа-творца, осталась в распоряжении Музея современного искусства города Париж. Его открыли во время немецкой оккупации, и на первых порах тут с большим успехом проходили выставки типа блокбастера «Франция и евреи». Потом этот музей стал главной модернистской и постмодернистской коллекцией страны, частично перекочевавшей впоследствии в Центр Помпиду. Вторая половина дворца не так давно была отдана современным художникам. Сначала музей и выставочная площадка друг друга недолюбливали, но в последнее время отношения между ними наладились. Было даже несколько совместных проектов.
В музее делают умные, эффектные выставки. Недавно, например, прошла большая ретроспектива одного из самых известных французских абстракционистов Сержа Полякофф. Эмигрант, зарабатывавший лабухом в русских ресторанах и едва владевший французским, создал свой беспредметный пластический язык, вдохновляясь древнеегипетским искусством и разрабатывая абсолют формы. Он добился большого успеха. Полякофф представлял Францию на Венецианской биеннале. Мне этот тип абстракции кажется несколько произвольно устанавливающим соотношения между изображением и его духовным содержанием. Но я готов поверить в то, что расписанные беспредметными композициями доски с ковчежцами были для художника современной иконой.
В этом музее как-то сделали очень остроумную выставку авторских реплик, подделок, римейков, риэнактментов, реконструкций и прочих разновидностей репродукций современной классики. Вместо Модильяни там был очень ловкий портрет работы де Хори – венгерского художника, прославившегося мастерскими подделками шедевров авангарда. Говорят, что Пикассо и Матисс его недолюбливали. Было за что. На этой выставке экспонировались римейк портрета одной из авиньонских девиц и восстановленная по описаниям сцена в джунглях Таможенника Руссо, которая проходит по его catalogue raisonn как утраченная. Кстати тут пришлись экзерсисы аппропорционистов Майкла Бидло и Шерри Ливайн, а также воспроизведение «Джаза» Мондриана, зараженного художниками из канадской группы «General Idea» зеленым цветом, который знаменитый абстракционист на дух не переносил.
Бетонные подземелья Дворца Токио даже для современного искусства, мимикрирующего под любую среду, – сложное пространство. Сначала выставки проходили на первом этаже, он тоже не сахар: огромные бетонные коробки, в которых что ни покажи – все теряется. Но постепенно Николя Буррио и его преемники на посту директора обжили это пространство. При Оливье Валере тут открылся ресторан, публика стала приезжать сюда потусоваться, место постепенно стало модным. Эта бетонная усыпальница оказалась подходящим пространством для быстро сменяющих друг друга коллективных проектов и ретроспектив.
Как воображаемая столица, как город, который строят те, кто приезжает сюда грезить, Париж сам себе иностранец. Карамзин писал: «Здесь иностранец часто забывается, что он не между своими». Париж – последний рубеж реальности, застава умозрительного и действительного. Открытый для всех и возможный только в воображении, он берет тебя в длительное путешествие. Оно стоит того. Разочаруешься ли ты в созданном тобой Париже или войдешь во вкус и станешь одним из коренных местных иностранцев, в какой-то момент ты отчетливо осознаешь, что Париж не так уж и похож на Францию, да и Франция этим городом не исчерпывается. Франция такая же разная, как он, она распадается на многие земли и края. Она тоже может стать твоим краем, но в отличие от Парижа ее невозможно придумать для себя целиком. Чересчур она велика и дробится совсем не так, как указано на географических картах. Зачастую, приехав в одну из французских провинций, ты обнаруживаешь там вовсе не то, что ожидал увидеть.
Пор-Рояль
Где тут Пор-Рояль, у местных лучше не спрашивать. В лучшем случае вам ответят, что нет тут таких, и про себя пошлют вас куда подальше в этот самый Пор-Рояль. Кто-то может переспросить: «Кого позвать?» Вы начнете объяснять, что это старый монастырь, там еще янсенисты… и тут вы рискуете услышать о себе всю горькую правду: мол понаехали тут, окопались, жили бы себе спокойно, так ведь нет, к людям пристают. Паскаля, Арно и грамматику Пор-Рояля лучше не упоминать. Могут вызвать полицию, обвинить в домогательстве. Угрожал расправой, скажут. Банда у них.
Эта конечная станция RER вовсе не была неблагополучным местом. Иль-де-Франс на юго-запад от Парижа – вполне буржуазный регион. На севере, где все совсем не comme il faut, вам сказали бы иначе. Паскаля, сказали бы, мы знаем, но его месяц как полиция забрала. Когда вернется – откуда нам знать. Арно – он у заправки живет, там такой дом десятиэтажный, ну еще пежо разбитый у парадного. Арно сейчас, наверно, на рынке, а может, уже и вернулся. Зайдите лучше домой.
На юго-западе живет буржуазия с приличным достатком. Мещане опасаются посторонних, опасаются, что мерное течение их жизни может быть нарушено извне. Друг к другу они уже притерлись, знают, что да как. Но придет какой-нибудь хмырь – будет лезть со своими янсенистами и испортит весь марафет. Такие провинциальные углы – оплот стабильности, как мармонские городки в штате Юта. В крепком тылу не бывает иностранцев, посторонние тут только проездом и долго не задерживаются. По правде сказать, делать среди этих приземистых новостроек – ухоженных, уютных и спроектированных не без изобретательности – действительно нечего. Все путем, у всех все как надо, все показатели в норме. Ханеке на них нет /ил. 57/.
| 57 | Окрестности Пор-Рояль – сегодня оплот стабильности
Проходя по длинным широким улицам мимо двух-трехэтажных новостроек, палисадников, перекрестков с круглыми клумбами, посреди которых жухнет поросшая травой земляная скульптура зайца, я вспоминал, как Брассанс с расстановкой и ехидством поет одну старую песню о добропорядочных родителях, которым их неблагоразумные чада преподносят неприятные сюрпризы:
- Vous pensiez: «Il seront
- Menton ras, ventre rond, notaires!»
- Mais pour bien vous punir
- Un jour vous voyez venir sur terre
- Des enfants non voulus
- Qui deviennent chevelus
- Potes…
Идти было порядком, километров пять-шесть. Моя подруга верила, что расстояния не могут быть бесконечны, и мужественно шла навстречу теплому, но хмурому февральскому дню. Автобусы от станции до Пор-Рояль ходили только в туристический сезон.
| 58 | Аббатство Пор-Рояль
Городок закончился. Дорога вывернула через небольшое поле к амбарам, сложенным из известняка. Оказалось, что это живая старина – постройки времен Паскаля, теперь тут гостиница. Симпатичная девушка, вышедшая к нам на крыльцо, показала проселочную дорогу через перелесок, по которой надо было дойти до первого поворота направо, а там до музея уже совсем близко. И вот мы на финишной прямой – перепрыгиваем лужи и грязь на обочине разбитой дороги, местами превратившейся в месиво и жижу. Еще один маневр – и вдруг тучи над нами разверзлись, и к нашим ногам упал густой луч рассыпчатого молочного света. Справа и слева сквозь щели в грузных и грозных тучах пробились еще несколько солнечных лучей – и пейзаж стал барочной аллегорией, где дорога путника через поле жизненных испытаний увенчана ослепительным светом знания и всеобщей ользы. Жизнь, как водится, внесла свои коррективы, и в такой обстановке идти стало куда веселей, несмотря на пошедший тут же зимний грибной дождь.
С минимальными потерями наш «отряд» добрался до цели.
Пор-Рояль стоил такого путешествия. В старом монастыре было восстановлено многое из того, что разрушил король-«солнце», которому вся эта компания очень не нравилась. Тут есть и монастырский сад, и построенный Паскалем колодец, и дом, где жил один из авторов «Грамматики» – Арно /ил. 58–60/. Паскаль в этом доме тоже останавливался. В нем теперь музей с разными раритетами. Например, здесь выставлен бюст Жана Сантейя – известного в XVII веке писателя, о существовании которого я не подозревал, считая его персонажем раннего романа Пруста. Оказывается, Пруст, много читавший моралистов, своего героя не придумал от начала до конца. В музее, кстати, хранится и прустовский экземпляр «Мыслей» Паскаля, по-хозяйски исчерченный вдоль и поперек синим химическим карандашом.
| 59 | «Колодец Паскаля»
| 60 | С минимальными потерями наш «отряд» добрался до цели
Паскаль работал в монастыре над новой апологией христианской веры. Он не завершил этот труд, оставив после смерти ворох записок. Некоторые из них были цитатами из любимого им Монтеня, некоторые – пересказами древних авторов, некоторые записаны не его рукой, но, скорее всего, с его слов. Есть и его собственные размышления – от строчки до больших эссе. Знаменитые «Мысли» Паскаля – монтаж этих записей, наклеенных после смерти философа его друзьями на большие листы в том порядке, который казался им разумнее, чтобы соединить все эти отрывки. Так этот текст и напечатали. Романтики, вдохновлявшиеся незавершенностью поэтической мысли, воспели эту книгу. Позднее филологи попытались определить более точный порядок расположения фрагментов, установив цитаты и пересказы. Появилось научное издание «Мыслей», которое, впрочем, тоже не считается единственно верным. Эту незавершенную книгу можно читать, открывая наугад. Пруст, судя по всему, так и поступал.
Ренн – Нант
Перед собором на главной площади Ренна сидят панки. Не разговаривают, песен не поют, бездельничают, как умеют. Столица Бретани не похожа на город деловых людей. Людей, спешащих по делам, здесь тоже достаточно, но гораздо больше праздных прохожих и слоняющейся по улицам молодежи. В самом центре, в старых домах с фахверком, держат кафе и клубы. Но все равно остается много пустующих домов. В них никто не живет, судя по всему, уже давно. Столько туристов, чтобы весь средневековый квартал превратился во вкусный и веселый район, в Ренн не заманить. Все-таки это не Лазурный берег.
Рядом с Ренном есть большой автомобильный завод, поэтому запустенья в этих краях нет, но есть обаятельная неустроенность. Она подкупает тем, что здесь не заигрывают с туристами, а живут себе, как живут. И если вам хочется увидеть просто бретонскую столицу, а не чашку с изображением местного собора и магнитик с бутылкой шушена на холодильнике, – то вот она, пожалуйста, какая есть. Настоящая, аутентичная Франция, как говорится /ил. 61/.
| 61 | Бретонский национальный театр в городе Ренн. Лишний раз Бретань не поленится напомнить о том, что могла бы и настоять на независимости…
Впрочем, лучше так не говорить, ведь в Бретани до сих пор гордятся своими кельтскими корнями, бретонский язык ближе к английскому и немецкому, а не к французскому. Указатели и вывески здесь часто на двух языках – на французском и на бретонском. Так что это еще та настоящая Франция. Лишний раз Бретань не поленится напомнить, что давно бы настояла на независимости, но разве можно посягать на добрососедские отношения с Парижем? Вот и Шотландия побузит-побузит, а потом угомонится.
Здесь есть старая националистская партия «красношапочников». Они не из буйных, но поспорить о национальной гордости великобретонцев всегда готовы. На бретонском, кстати сказать, говорят мало, поскольку носителей языка остается все меньше после того, как в шестидесятые его перестали преподавать в школах. Как язык, на котором общаются в семьях, он сохраняется, но на улицах Ренна и других городов его не слышно. Есть бретонское радио, у него небольшая аудитория. Студентам, которые хотят изучать бретонский, даже доплачивают что-то символическое. Но до того, чтобы язык вошел в обиход, еще очень далеко, если это вообще когда-нибудь произойдет.
С XIX века в бретонские деревушки из Парижа ездили как за границу, чтобы увидеть другой уклад жизни, другие обычаи. С тех пор повелось проводить тут отпуск, выезжая на побережье Атлантики в погожие дни. Постепенно и побережье, и континентальная часть Бретани обросли курортами.
В местечке Понт-Авен Поль Гоген и компания художников рисовали сценки из народной жизни, живописуя крестьянскую экзотику как новый декоративный стиль. Художников группы Наби объединяло увлечение Бретанью, для конца XIX века не такое и странное. Архаику народного искусства тогда ценили. Василий Кандинский еще студентом отправился в экспедицию в зырянские края. Орнаменты, которыми зыряне расписывали избы и вышивали ткани, так его впечатлили, что впоследствии он утверждал, что свои абстрактные композиции придумал, подражая этому крестьянскому искусству.
Французские художники тоже искали в Бретани архаику и исконное. И находили то, что до наших дней, наверно, сохранилось плохо. Той крестьянской, сермяжной жизни в курортных уголках Бретани теперь не найти. Морбиханский залив сейчас – это уютные, комфортабельные зоны отдыха, куда приезжают в отпуск или на выходные. Пляжи, достопримечательности, необычная природа – пышная, но как будто миниатюрная, все на размер меньше, чем вы носите, – все к вашим услугам. С тех пор, как Анатоль Франс осмеял Францию, рассказав историю о пингвинах, живущих на неизвестном острове в Морбиханском заливе, жизнь здесь шла без эксцессов.
Шушен – местную медовуху – тут как-то не очень жалуют. В баре города Ванн, что на юго-востоке полуострова, я попросил рюмку шушена. Бармен сначала удивлялся такому желанию, – давно никто не спрашивал этот напиток, – потом стал рыться под прилавком и, наконец, нашел запылившуюся бутылку. Открыли ее не вчера. Далеко не вчера. Со словами «шушен – так шушен» он налил мне один шот. Первый глоток не изменил мою жизнь, остальные тоже, хотя почувствовать на побережье Атлантики вкус, памятный по ресторану в новгородском детинце, что ни говорите, забавно.
В отличие от шушена бретонские блинчики пользуются широкой популярностью, причем по всей Франции. В Бретани я пристрастился к блинчикам с andouille и gidouille, колбасами из потрохов. Под местный сидр они идут за милую душу. Это сочетание соленого и сладкого характерно для североевропейского вкуса.
Из печальных историй, связанных с Бретанью, тут помнят о деле полковника Дрейфуса, эльзасского еврея, который по сфабрикованному обвинению в государственной измене был приговорен к заключению и заточен на острове Дьявола. Клевета была раскрыта, Дрейфуса оправдали, а этот процесс стал образцом антисемитской травли. В реннском краеведческом музее есть большая экспозиция об этой истории, на которой представлена редкая коллекция антисемитского декоративно-прикладного искусства: перчаточные куклы, изображающие героев процесса, трость с набалдашником в виде карикатурного портрета Дрейфуса, тарелки, расписанные сценой похорон Золя, выступившего на стороне полковника /ил. 62/.
| 62 | Антисемитский кич. Тарелка с карикатурой, высмеивающей Эмиля Золя, выступившего в защиту полковника Дрейфуса. Начало ХХ в.
Но это все дела давно минувших дней.
Теперь в какую глушь тут ни заберешься, все будет экзотично, комфортно и сыто-пьяно. Есть места, где главным градообразующим предприятием является лавка, торгующая зубными щетками и мочалками, но и туда несложно добраться на автомобиле. Вместо того, чтобы искать здесь заповедные заимки, лучше съездить на день в Мон-Сен-Мишель, где туристов видимо-невидимо, но все равно здорово вскарабкаться на вершину крепости и обозреть Ла Манш. Если повезет – попадете на отлив. Тогда сверху можно будет прочесть надписи на песке. Пишут разное. Бывает – о любви. Один, например, о Родине написал. Большинство надписей, между прочим, сделаны мужчинами. Вот ведь загадка, почему женщинам это меньше интересно? Есть рисунки, переполненные восторгом перед бытием: солнце, птица, самолет. Широко представлены эмблемы футбольных клубов. С большим чувством прорисованы смайлики и лайки. Доминирует в этом графическом полотне, раскинувшемся вдаль и вширь, символ жизнелюбия и плодородия – три заветные кириллические буквы невиданных размеров. Под ними мельче выведено латиницей «Chechnia».
Самый бретонский город – безусловно, Нант, имеющий к Бретани косвенное отношение. Сюда и сегодня можно приезжать, чтобы увидеть Францию, где что-нибудь да не так. Вроде это исторически не Бретань, но как раз тут был эпицентр бретонского нацизма. В местной крепости на экспозиции висят афиши погромных разгуляев в начале сороковых. Тут был один из главных колониальных портов Европы, но от портовой жизни мало что осталось. Ни тебе гудков лайнеров, отплывающих в дальний рейс, ни моряков, гуляющих по улицам, ни рынка, на котором продают много всякой всячины со всего мира. Сухопутный расчет одолел портовую романтику. Был тут остров в самом центре, плотно застроенный еще в старину частными и ведомственными домами. Лет сто назад русло реки, омывавшей его, засыпали и проложили улицу, на которой всегда много машин /ил. 63/. На бывшем мысу острова, в палисаднике, место сбора темных личностей – бездельников всех мастей: сидящих на пособии, бомжей с приветливыми грязненькими псами и дам с перекошенными улыбками. Андре Бретон и его товарищи обожали этот сухопутный остров – настоящую находку для Бюро сюрреалистских исследований. Горожане, впрочем, достопримечательностью его не считают. Вот если бы Луару засыпали, как Муссолини каналы Сфорца в Милане, – тогда совсем другое дело.
| 63 | Русло реки засыпали и на его месте разбили широкий бульвар
Грехи былой портовой жизни искупает мемориал жертвам колониализма – площадка на набережной, исписанная названиями колониальных портов /ил. 64/. Под ней бетонный погреб в стиле мрачных коридоров и ангаров «Еврейского музея» Либескинда в Берлине. Тут сделана выставка об истории работорговли. Когда-то огромные деньги Нант зарабатывал на продаже людей. Так что фантазии Жюля Верна, выросшего в Нанте, в самом деле очень сильно оторваны от реальности. В захватывающие путешествия из нантского порта отплывали корабли с оптовыми поставками аборигенов. Жюль Верн, впрочем, прямого отношения к этим делам не имел. Он служил в Амьене на посту муниципального руководителя культмассовой работы, опекал местный цирк, владел двумя кораблями и директорствовал в Академии. А вот Вольтер и Шатобриан не гнушались зарабатывать на работорговле, в те времена это считалось не слишком зазорным.
| 64 | Мемориал в честь упразднения рабства. Архитектор Дж. Бондер, художник К. Водичко. 2010
Набережная Луары хранит дух несуразицы. Дома на ней стоят старые, накренившиеся в разные стороны. В одном месте они то заваливаются назад, то вот-вот начнут падать на тротуар /ил. 65/. Со стороны кажется, что они возятся, толкают друг друга, отвоевывая себе немного места в тесноте. Убегая от Луары в центр города, улица начинается с двух старых домов: один завалился вправо и назад, вытянув окна в трапеции, упавшие набок. Другой будет падать в противоположном направлении. Крыша у него набекрень, угол улетает такой дугой, что при взгляде на эту танцующую архитектуру на душе становится торжественно и чудно. Один портье с распростертыми объятиями приглашает войти, откинув голову назад. Его двойник делает книксен, но запутывается в ногах и теперь галантно раскачивает передними конечностями, как разбуженный скелет из школьного кабинета биологии. Он виновато улыбается, сверкает солнечно фикса.
| 65 |…дома то заваливаются назад, то вот-вот начнут падать на тротуар…
За спинами у веселых дурней как будто мир степенных построек, которые не дурачатся и не задирают друг друга, как дети, а стоят спокойно, солидно. Дома выстраиваются строгим рядом, все примерно одной высоты, линии этажей от здания к зданию идут с едва заметным сбоем. Никакой чехарды и свистопляски. Круглую площадь собирает воедино неоклассический фасад театра, слева – знаменитая церковь-ротонда, ближе к окраине – ангары, где держали и казнили заключенных во время революции 1789 года. Улица убегает вдаль, сжимаясь в точку. В стороне остаются готический собор, пустынная, вытянутая длинным прямоугольником площадь, на которой теряются два неказистых памятника, выстриженная по всей строгости топиария аллея между двумя торжественными неоклассическими фасадами. Город этот в самом деле странен. Для многих он был городом расставаний. Отсюда Набоков увозил семью в Америку, убегая из оккупированной нацистами Франции.
Гавр – Дьепп
Север Франции тому, кто вырос на Балтике и любит местную, неспешную, подробную и внимательную к мелочам жизнь, близок во многом. Как в Питере, летом здесь обычно не слишком жарко, а зимой промозгло и ветрено, но очень холодно бывает редко. В этой части Европы так же ценят размеренность жизни и флегматичность. Иногда мне начинает казаться, что сдержанность и внутренняя собранность местных жителей – своего рода климатическое явление. Крепкий алкоголь опять-таки сближает – в этих краях любят кальвадос.
«Где-то там, на севере, в Париже…» Все-таки даже в устах итальянца эти слова, написанные автором, живавшим в Одессе и бывавшим в Арзруме, звучат как некоторое преувеличение. Париж, как ни крути, пусть и не средиземноморский курорт, но явно не тот город, жители которого прячутся по домам и кафе от морозов и метелей. Не стоит сравнивать его с Сицилией. И с Трёмсё тоже большого смысла его сравнивать нет. Факт в том, что в Нормандии северной жизни больше, чем в Париже, хотя бы потому, что это, согласно географической карте, север Европы. Не доверять этому факту, вокруг которого придумывается вся остальная жизнь, в данном случае оснований нет.
Как и на атлантическом побережье Бретани, Ла-Манш давно уже стал курортной зоной, причем англичан здесь бывает не меньше, чем французов. Жизнь тут происходит сезонно. Приезжают туристы, дачники и те, кому хотелось бы называть себя отдыхающими, – это один кускус. А к ноябрю все вымирает – и кускус совсем другой, без травок, без специй, без соусов; зальешь кипятком порционный пакет, отваришь сосиски – вот тебе и вся Нормандия. Тут все по-простому. Север, как писал поэт, – честная вещь.
Все эти Фекам, Дьепп, Трувилль и прочие городки на побережье давно уже засижены героями Мопассана и Пруста. Многое из того, что здесь происходит, застыло на страницах их книг. В местных гостиницах они часто пылятся на полках, где стоят карманные издания, оставленные постояльцами. Увозить в город курортные истории неохота. Куда они дома? «В поисках утраченного времени» с обычной жизнью и вовсе не совместим. Читать эту умную изящную книгу я способен на Новый год, когда все прошлогодние дела сделаны, а новым еще не время начинаться; или летом, в отпуске, когда никаких дел в принципе не должно быть. Необходимо полностью отключиться от суеты и хлопот, выпасть из текущего времени, – и тогда ты погружаешься в эти воображаемые воспоминания героя, восстанавливающего фрагмент за фрагментом, от привязанности к обиде, от неразделенного чувства к увлечению, свою судьбу. Пока что я не дочитал этот великий роман до конца и не тороплюсь исчерпать это удовольствие. Мне очень нравятся те места, где Пруст описывает отдых на Ла-Манше. В них есть и трогательные детские впечатления, и наблюдения над бытом и нравами буржуазии, и нормандские пейзажи, и медленная плавная текучесть этой приморской жизни. Даже самые незначительные подробности не останутся незамеченными, они-то иногда и помогают угадать тайные законы судьбы.
По дороге в эти курортные места есть городишко Больбек. Не Бальбек, как у Пруста, а именно Больбек. Разночтения мнимой географии одно время меня так сильно занимали, что я собирался написать книжку о путешествии в реальный Больбек. Неужели несмотря на почти полное сходство имен эта поездка не откроет в Прусте ничего нового? Неужели города, реки, холмы, горизонты существуют только в нашем воображении и карта годится лишь на случай, когда нельзя перепутать остановку? Неужели Пруст все придумал, вопреки стараниям литературоведов найти всех прототипов персонажей и отгадать все намеки, которые писатель мог иметь в виду?
Поезд приезжает в Больбек. Маленький вокзальчик. На площади дети пускают воздушного змея, улица уходит мимо нескольких домов в поля. Поезд обратно только через полтора часа. Абсолютно бессмысленная поездка.
Один американский искусствовед занимался много лет таитянским творчеством Гогена. В отпуск он ездил на Таити, по местам, где бывал Гоген, по местам, которые Гоген рисовал. Искусствовед хотел увидеть всю эту живописную экзотику наяву. Он надеялся, что это поможет ему лучше понять картины. Ездил долго и упорно, пока окончательно не убедился в том, что все скалы, горы, песчаные пляжи и бухты остались на месте. Местные жители за прошедшее столетие тоже не сильно изменились. А если что-то и изменилось, то совершенная ерунда, которая никакого отношения к Гогену не имеет, тем более что Гоген любил рисовать таитянок похожими на египетскую скульптуру. Колорит местной островной жизни он нередко изображал так же, как когда-то сцены из жизни бретонских крестьян. И вообще руководствовался на Таити исключительно парижскими представлениями о том, что такое экзотика, то есть живописал не самих аборигенов, а ту экзотику, которую любила европейская публика. Так что отпуск американский искусствовед с тем же успехом мог проводить хоть в тех же египетских залах Лувра, где Гоген учился языку экзотического. Реальное конструируется как воображаемое. А путешествия жизненно необходимы в силу своей бесполезности. Пожалуй, так можно было бы сформулировать закон севера, из которого следует, что само по себе перемещение в пространстве не значит ровным счетом ничего, пока мы не примем во внимание один простой факт. Имена мест, живописные и неживописные виды, встречи и совпадения живут в нас по четким умозрительным предписаниям.
Приезжаем мы, например, в Гавр – когда-то порт всех портов, ныне идеальный приморский город, отстроенный заново после бомбежек Второй мировой. Выходим на бульвар, идущий к заливу, и видим на первом же доме памятную доску: «17 апреля 1891 года здесь не произошло ровным счетом ничего» /ил. 66/. Приехали! Стоило пилить сюда с другого конца Франции ради того, чтобы убедиться: в этом северном месте вас не ждет ровным счетом ничего, кроме того, что вы сами себе здесь вообразите. Увидев эту памятную доску, можно возвращаться восвояси, дабы не злоупотреблять щедростью случая. Но велик соблазн узнать поближе город победивших Мишеля Лейриса и Рэймона Кено.
| 66 | Надпись гласит: «17 апреля 1891 года здесь не произошло ровным счетом ничего»
Это уникальный, хорошо сохранившийся ансамбль Огюста Пере – архитектора, создавшего Театр Шанзелизе, Амьенскую башню и несколько других знаковых построек прошлого столетия. После войны он получил карт-бланш на восстановление разрушенного порта. Он спроектировал простые и стильные кварталы домов, в которых ар-деко почти побеждено неоклассическим вкусом. В городе просторно и уютно, как в первых экспериментальных районах, которые строили в Ленинграде в начале пятидесятых, – например, на углу Ивановской и Седова. По их образцу позднее проектировали местные хрущобы, но в них идиллии уже не было. Сначала же все было почти как у Пере.
Возможно, Пере не считал Гавр идеальным городом современности, но этот город – бесспорно, образец вкуса и остроумия зодчего. Он удобен для жизни и не слишком дорог. Он отлажен, как социальный и транспортный механизм. И он очень похож на муссолиниевский Эур в Риме или ансамбли той же эпохи в Бергамо, Милане, Падуе – особенно площадь с башней мэрии /ил. 67/.
Бывают и такие стилистические совпадения. В том числе и в Петербурге. Есть же у нас ТЮЗ и БКЗ «Октябрьский», построенные Александром Жуком в брежневские времена. Эти здания издалека можно принять за фантазии на темы Шпеера в Мюнхене тридцатых. В городе, выстоявшем в блокаду, видеть такие сближения, по крайней мере, странно. Но не стоит искать в этом политическую интригу. Интереснее обратить внимание на красивую простоту форм, на изящную экономность, объединяющие конструктивизм, ар-деко и тоталитарную неоклассику.
| 67, 68 | Гавр – город, построенный после войны архитектором О. Пере
Гавр поражает этой неожиданной, богатой рифмой /ил. 68–71/. На память приходят постройки тридцатых – сороковых в пятнадцатом арондисмане Парижа или мэрия в Пуасси. Был момент, когда этот стиль совпал во Франции с теми идеями, которые стояли за ним в Германии и Италии. Французский коллаборационизм не был безобидным соглашательством. В стране создали систему из более чем двухсот лагерей. Распределители – особенно печально знаменитый в Дранси, – были самыми жуткими учреждениями в ней. Недавние исторические исследования архивных документов о сотрудничестве французов с нацистами наделали немало шума. Досталось и Сартру, и Поль де Ману, и художникам, участвовавшим в выставках в Музее модернистского искусства в годы оккупации. Мне, как парижскому россиянину, не пристало участвовать в этих спорах, да и дело тут не в оценках. Сам факт того, что «Бытие и ничто» Сартра или «Посторонний» Камю издавались в оккупированном Париже, то есть проходили нацистскую цензуру, не умаляет значимости этих книг, но делает наши представления о них и об этом времени более полными. Не все же героизировать экзистенциалистов, как это происходит у нас последние несколько десятилетий.
| 69 | Гаврский порт
| 70, 71 | Церковь Сен-Жозеф. Архитекторы О. Пере, Р. Одижье. 1959
Совсем другие обстоятельства стоят за рассказом о Второй мировой Марка Блока. Знаменитый историк, один из создателей школы «Анналов», воевал с первых дней в Нормандии. Его военный дневник «Странная неудача» был напечатан уже после освобождения. Перед арестом Блок зарыл рукопись возле дома приятеля в какой-то нормандской деревушке. Его расстреляли вскоре после поимки. В дневнике Блок рассказывает, как сначала служил при штабе, и вся война состояла в том, что он и его сослуживцы развозили на велосипедах по окрестным городкам и деревням, где стояли части, пустяковые распоряжения командования. Вместо боевых действий армия погрязла в бумажных проволочках, потом была объявлена капитуляция, Париж был сдан. Как историк Блок отчетливо понимал причины фиаско и полагал, что необходимо начать борьбу. Он погиб на войне как один из деятелей Сопротивления, который в то же время был проницательным наблюдателем, во многом осознававшим происходящее глубже, чем иные политики и военачальники.
Судя по всему, эльзасские евреи – а Марк Блок, как Дрейфус и Арон, был эльзасским евреем – самые преданные патриоты Франции. Французские интеллектуалы чересчур ироничны или эгоистичны, чтобы отстаивать столь пафосные ценности. Тот же Флобер, например, призрак которого бродит по его родному Руану и долинам Нормандии, в разгар революции 1848 года отправился вместе с приятелем в путешествие на Восток. И пока в Европе полыхали пожары революции, он так увлекся экзотическими прелестями, что подцепил сифилис, от которого потом всю жизнь лечился. Зато уж душу Востока он с тех пор чувствовал не хуже, чем Жером, живописавший все радости турецких бань, путая Стамбул с Каиром, Босфор с Дарданеллами и дервишей с суфиями как истинный классик ориентализма. Флобера сложно упрекнуть в равнодушии к своим соотечественникам. Так, как он, лавочника, банковского клерка и рантье тогда мало кто понимал. И каким безнадежным и безысходным находил он их существование!
У Достоевского все эти потерянные, разочаровавшиеся во всем люди хоть молятся время от времени – кто от страха, кто от бессилия, кто на всякий пожарный. Нормандия-матушка без прикрас страшна, как медленный, бесконечный, северный кошмар.
Флобер кокетливо утверждал: «Мадам Бовари – это я». Сходства между писателем и его героиней давно найдены, некоторые уже опровергнуты, и дискуссия по этому поводу продолжается современными литературоведами. Флобер заигрывал со своим персонажем тогда, когда прототипы зачастую восставали против своих литературных двойников. Альфонсу Доде, например, пришлось переименовать Барбарена в Тартарена, так как в Провансе нашелся человек по фамилии Барбарен, который угрожал писателю судебным разбирательством за клевету. Эмиль Золя остроумно предлагал запатентовать на будущее список персонажей еще не написанных книг, чтобы огородить себя от читателей, которые всегда готовы предъявить претензии к тому, как неподобающе ведут себя литературные герои.
Чтобы не заканчивать разговор о Нормандии сюжетами о сутяжничестве и парадоксах мещанства, поговорим о народном искусстве. Ведь Нормандия – крестьянская земля, боготворимая Жаном Милле. Столь проникновенных и человечных портретов пахарей, молочниц, пастухов в мировом искусстве было создано мало. Милле рос в зажиточной крестьянской семье, все его герои – не модели, позировавшие в мастерской, но люди, которых он знал с детства. Его картины и рисунки рассказывают о нормандской деревне без прикрас и без салонной эффектности. Милле сохранил для нас эту жизнь, о которой многие его современники, покорявшие парижский бомонд, имели отдаленное представление. Недаром в его работы всю жизнь был влюблен Ван Гог.
У Милле есть эта гиперборейская меланхолия, известная всем, кто любит север и знает ему цену. Аки Каурисмяки пару лет назад снял трогательную историю о бедняках из рыбацких кварталов Гавра. Это редкий в последние годы фильм о маленьких людях. Каурисмяки всегда берет сюжет, в котором есть что-то от «Матери» Горького, что-то из «Ночей Кабирии» Феллини, что-то из Эжена Сю и немного Бастера Китона. Криминальный флер плюс душещипательность и ирония – на этом строятся его смешные, грустные и немногословные фильмы. Гавр у Каурисмяки, кажется, почти случайный город. С таким же успехом финских актеров можно перенести в Марсель, воспетый Марселем Паньолем. Ведь прежнего, довоенного Гавра – города рыбаков и моряков – больше нет, как нет и социальной драмы или трагикомедии двадцатых – тридцатых.
| 72 | Улица в городе Дьепп
Мир, придуманный Каурисмяки в Гавре, в действительности сохранился в Дьеппе, уцелевшем во Вторую мировую /ил. 72/. Здесь остались старые рыбацкие кварталы и портовые районы, к которым надо идти через разводные мосты. Здесь на брандмауэре дома местным кустарем нарисована счастливая рыбацкая семья /ил. 73/. Здесь котам всегда достается отменная рыба, они горды и пушисты, как и положено котам портового города.
| 73 | Фреска на стене дома в портовом квартале Дьеппа
| 74 | Пирс на набережной в Дьеппе
| 75 | Пирс на набережной в Дьеппе
В разгар сезона туристов тут не слишком много. Они предпочитают курортные места подальше от городской суеты. На мощном бетонном пирсе, крепко провонявшем мочой, удят рыбу еще не протрезвевшие со вчерашнего мужики /ил. 74, 75/. По пустому пляжу важно расхаживают чайки и бакланы. У рыбака вдруг клюет, он тянет спиннинг, но улов срывается с крючка еще под водой и уплывает, вильнув хвостом. Мужик застывает со спиннингом в руках и смотрит вдаль. В его отсутствующий взгляд проваливается серое море, хмурое небо и едва угадывающаяся в тумане линия горизонта.
Шантийи – Эрменонвиль
В галерее портретов местных иностранцев есть много разных человеческих типов: и те, кто так и не смог для себя решить, кто они больше – ирландцы, испанцы или французы; и те, кто осел в здешних краях по житейским и пожизненным обстоятельствам; и те, кто был слепо влюблен во все французское и к старости превратился в расплющенный круассан-озаманд или морщинистую головку камамбера; и те, кто стремился во что бы то ни стало быть больше французом, чем сами французы. А уж сколько тут отщепенцев всех мастей – и не перечесть! Со времен Сенанкура, воспевшего одинокого гения Обермана, который таился от бездушного света в лесах, полях и горах, таких героев во Франции было немало.
Первопроходцем потаенной жизни был, наверно, Руссо, хотя, как знать, может быть, у него был так ловко скрывшийся от всех и вся предтеча, что мы о нем ничего никогда не услышим. Руссо велик как мастер прогулок. В прогулке нет ничего лишнего: мы идем навстречу миру, свободные и открытые ко всему, и наши размышления не скованы правилами и ограничениями. Руссо нашел форму мысли и метафору человеческого опыта в естественности, с которой он сопоставлял воспоминания, фантазии, переживания, отрывочные наблюдения, неожиданные ассоциации и рассуждения. Без Руссо мы могли бы не досчитаться мечтательных и рассеянных ездоков на остров Любви /ил. 76/. Не будь Руссо – что бы сказали о трогательной истории про Поля и Виржини, сочиненной крепким хозяйственником в далекой колонии Бернарденом де Сен-Пьером? Не подвинулся ли рассудком, живя среди диких племен, этот менеджер высшего звена и поклонник «Новой Элоизы»? Сенанкуру тоже пришлось бы сочинять что-нибудь более жизнеутверждающее и социально позитивное, если бы тылы не прикрывал автор «Исповеди». И каково было бы Бодлеру, Верлену и Рембо объяснять возмущенной и достопочтенной публике, к чему все эти блуждания по Парижу и бельгийским городишкам?
| 76 | Руссо воспитал несколько поколений мечтательных ездоков на остров Любви
Прогулки по Пикардии достались нам в наследство от Руссо.
Одним из самых интересных рассказчиков о поездках в эти края был Нерваль, проведший детство в Шантийи. В «Прогулках и воспоминаниях» он пишет о том, как вернулся в родные места, причем приехал на поезде, который совсем недавно пустили между Парижем и Шантийи. Это было самое начало строительства железных дорог в Европе. Поезда были в новинку. Кто-то даже их побаивался. Шутка ли сказать – состав мчался на бешеной скорости двадцать километров в час! Большинство современников Нерваля испытало сильное потрясение от первой поездки на колесном громозеке. Этот шок запомнился Карлу Марксу, воспевшему революцию как локомотив истории, Нестору Кукольнику, написавшему «Попутную песню» о поездке с Царскосельского вокзала в Царское Село, Уильяму Тёрнеру, живописавшему поезд в клубах пара посреди долины. Шок быстро прошел, к новому транспорту привыкли. И вскоре Достоевский и Лев Толстой полюбили одну из ключевых сцен романа разыгрывать в купе, а то и начинать рассказ с железнодорожного путешествия.
Нерваля вдохновляли поездки на поезде. Ко всему прочему, в Шантийи он поехал по делам – найти жилье, так как снимать квартиру в Париже ему стало не по карману. Путешествие удалось во всех отношениях. Даже очерк о нем Нерваль пристроил в журнал и получил за него гонорар. В Шантийи он был рад всему. Город оставался прежним. Замок коннетабля де Монморенси, которым впоследствии владел граф Конде, величественно возвышался над строго вычерченным садом Ле Нотра, к которому спускался пологий пандус. В английском парке по тенистым аллеям прогуливались праздные посетители, разглядывая китайские павильоны и скульптуры. На острове Любви был построен новый павильон с приземистым куполом. В замке была чудесная коллекция живописи, она и сегодня выставляется, как прежде, по-домашнему, плотной шпалерной развеской.
Но все-таки это было меланхолическое путешествие, слышна в рассказе Нерваля грустная нотка. В соседнем Эрменонвиле теперь царило запустение. Долгие годы владения маркиза де Жирардена были местом паломничества. Круглый год сюда приезжали посмотреть на средневековый замок, восстановленный после войны за раздел Польши, и знаменитый пейзажный парк. На юг от замка ландшафт повторял композиции картин Клода Лоррена, северная часть была сделана по образцу пейзажей Рейсдаля. В отдалении, на холме, был возведен Храм современной философии – искусственная руина, воспроизводящая часть круглого храма Сан-Пьетро-ин-Монторио в Риме. В XVIII веке подражание античным и средневековым развалинам было в моде. Во многих парках создавали такие архитектурные аллегории почитания древности, в том числе и под Петербургом. Екатерина II распорядилась возвести в Царском Селе башню-руину. В Павловске часть колоннады Аполлона разрушил оползень, но ее не стали восстанавливать. Раз природа так распорядилась, решили, что быть колоннаде естественной руиной.
| 77 | План Храма современной философии в Эрменонвиле
Храм современной философии в Эрменонвиле был посвящен идеалам Просвещения. Каждая колонна была названа в честь современного мыслителя /ил. 77, 78; публ. по: Klein V. Der «Temple de la Philosophie Moderne» in Ermenonville. Frankfurt am Main, 1996/. Дань почтения отдали Декарту, Вольтеру, Монтескье и даже Уильяму Пенну, которого историки больше знают как авантюриста, так ловко собиравшего плоды просвещения в Америке, что в честь него был назван штат Пенсильвания. Маркизу де Жирардену Пенн казался образцовым гуманистом. Одна из колонн носила имя Руссо. Он провел тут последние годы жизни, гостя в имении де Жирардена. Здесь писались «Прогулки одинокого мечтателя». Здесь, на Тополином острове, Руссо был похоронен в саркофаге, сделанном по рисунку маркиза /ил. 79; публ. по: Klein V. Der «Temple de la Philosophie Moderne» in Ermenonville. Frankfurt am Main, 1996/. Руссо прославил Эрменонвиль. Поклониться его праху приезжало большинство путешественников, совершавших Гран-тур. Гран-тур был обязательной частью образования интеллектуалов той эпохи. Посетить самые известные города, парки и достопримечательности должны были все, кто считал себя просвещенным человеком. Свадебное путешествие великого князя Павла Петровича и Марии Федоровны, в которое они отправились под именами графа и графини Северных, было таким Гран-туром. Многие впечатления от увиденного в той поездке отразились в ансамблях Павловска и Гатчины. В Гатчине, например, сохранился остров Любви, созданный по образцу острова в Шантийи.
| 78 | «Ньютон. Lucem». Колонна Храма современной философии в Эрменонвиле
| 79 | Гробница Ж.-Ж. Руссо на Тополином острове в Эрменонвиле. Рисунок маркиза де Жирардена
| 80 | Ж.-Ж. Руссо за собиранием гербария в Эрменонвиле
В Эрменонвиль приезжали даже после того, как останки Руссо были перезахоронены в Пантеоне по распоряжению Наполеона I. Все изменила эпоха железных дорог. В Шантийи была проведена ветка, а в Эрменонвиль поезд так и не пустили. И за считанные годы об Эрменонвиле забыли. Когда Нерваль вернулся в места, знакомые с детства, он нашел здесь жизнь тихую, укромную, провинциальную, в которой ничто не напоминало о том, что поблизости находится европейская столица. С тех пор Эрменонвиль пребывает в запустении. И этот меланхолический вид ему очень идет. Он разделил судьбу Руссо – судьбу постороннего. И те, кто ищет во Франции не только феерию столичных бульваров и роскошь парадных дворцов, могут и сегодня добраться сюда на машине или на перекладных, чтобы побеседовать в воображении с одним из местных иностранцев /ил. 80/.
Реймс – Метц – Нанси
В солнечный майский день на лужайке возле церкви Святого Реми сама природа призывает тебя распить с приятельницей бутылку брюта. Пробка улетает в счастливое небо Шампани, как раз поспела сочная душистая клубника, которую уже продают в соломенных туесах, – эта земля стала нашей, но мы отдадим ее любому, кто поднимет тост за весну «без конца и без края».
Подъезжая к Реймсу, мы долго пересекаем поля виноградников. Железнодорожный вокзал окружен складами, заставленными ящиками с шампанским. Тут радует глаз всё – от замысловатых названий на этикетках до глухо хлопнувшей пробки, усмиренной по-хозяйски в руке. И вот уже искрится в бокале шипучее вино. Оно заставляет всех улыбаться, предвкушая праздник, это реймское, сухое, с кислинкой шампанское. И от него на душе легко-легко.
В этих беспечных шампанско-клубничных краях мир галлов соседствует с германским миром. Соседство это очень давнее и еще не так давно вовсе не мирное. О том, как все налаживалось, помнят живущие в этих краях старики. Граница с Германией от самого Реймса довольно далеко, но в этом древнем городе не забыли о том, что собор, в котором короновали французских королей, был разбомблен немцами в Первую мировую. Это была катастрофа в одном ряду с применением химического оружия и новейшей военной техники. О попрании святынь говорила вся Европа. Даже русские поэты-символисты писали об этой трагедии, ужасавшей тем, что за варварством стоял идеологический расчет.
Реймс находится недалеко от мест, где шли ожесточенные бои. Верден, река Марн, юго-запад Бельгии превратились в чудовищные бойни. До сих пор там, где шли сражения, находят ржавые каски, винтовки и истлевшую амуницию. Под Верденом есть знаменитый мемориал в честь победы в войне. Во Франции, как ни в какой другой стране, много памятников Первой мировой. Эту победу ждали как реванша те, кто помнил о 1871-м, те, кому в эльзасских школах приходилось учиться по немецкой программе, а также бельфорский лев, устоявший под прусской осадой. Макс Эрнст и сюрреалисты – бельфорский лев был им товарищ /ил. 81/.
| 81 | Бельфорский лев. Скульптор Ф. О. Бартольди. 1879
Эрнст был из немцев, приезжавших в Париж, чтобы стать французским художником. Еще один местный иностранец, родившийся неподалеку от французско-немецкой границы. И он сам, и многие его ровесники воевали на Первой мировой. Эрнст, кстати говоря, воевал в немецкой армии. Тогда среди художников и писателей было мало пацифистов, а воинствующих ницшеанцев было достаточно. Эта война унесла много жизней. От ранения на фронте умер Гийом Аполлинер. В сражениях погибли орлеанский мистик и жрец культа Жанны Д’Арк Шарль Пеги, один из основателей группы «Синий всадник» Франц Марк, его приятель и коллега Франц Маке и многие другие. Пауль Клее устроился художником-оформителем в авиачасть в Шляйсхайм, под Мюнхеном, и расписывал стальных птиц в строгом соответствии с уставом. Оскар Кокошка воевал на передовой и рассказал в мемуарах, как его чуть было не заколол насмерть штыком русский солдат, но Кокошка успел его застрелить первым. Николай Гумилев вернулся из Восточной Пруссии героем. На войне погиб Ле Дантю – русский футурист, открывший миру талант Пиросмани. Маяковский, впрочем, вместо службы в армии написал несколько патриотических стихотворений. Хлебников был призван на сборы, вызволен из казарм под Саратовом покровителем будетлян профессором Кульбиным и с тех пор в стихах не вызывал на бой немцев.
Гуляя по окраинам Парижа, вы можете набрести на кладбище солдат, погибших на Первой мировой /ил. 82/. Большинство фамилий на могильных крестах – арабские. Сколько таких захоронений на востоке Франции, в Бельгии и в рейнских землях! У Феликса Валлоттона есть мрачный кладбищенский пейзаж с плотно расставленными рядами крестов, убегающих за горизонт.
| 82 | Кладбище солдат, погибших на Первой мировой войне. Париж
Страсти, бушевавшие между французами и немцами, описаны в знаменитых романах – «Огонь» Анри Барбюса и «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Французский патриотический бестселлер конца двадцатых «Зигфрид и Лимузен» Жана Жироду – история про офицера родом из провинции Лимузен, который после ранения потерял память. Он попал в плен, но дома его считали пропавшим без вести. Восстановившись после болезни, под опекой немецкой контрразведки он стал знаменитым баварским публицистом. Его статьи поднимали боевой дух немецкой армии. Случайно один такой очерк прочел его друг, узнавший в тексте знакомый стиль. Приехав в Мюнхен, он встретился с баварским публицистом, который оказался его считавшимся пропавшим без вести приятелем. К пленнику вернулась память, его удалось вызволить. В финале счастливые друзья, преодолевшие все злоключения, возвращаются в родной Лимузен.
Эта душещипательная история рассказана не без изысканности и с усердием беллетриста, который в самом деле гордился тем, что его по праву называли настоящим литературным профессионалом. Война была позади. Послевкусие победы оказалось долгим и приторным, напоминая слащавые памятники экзальтированной даме, символизировавшей Францию.
В Эльзасе и Лотарингии, вновь отошедших к Франции по Версальскому договору, многое напоминает о войне. От Метца – древнего города, где сохранилась, например, палестра эпохи Древнего Рима, – после бомбежек и боев мало что осталось. Это был важный железнодорожный центр в пограничной зоне. Его основательно разрушили. Местные жители утверждают, что вокзал Метца – один из самых больших в Европе. Он в самом деле велик, при том что само здание – очень характерный для своей эпохи вокзал замкового типа с высокой башней. Его интерьеры украшены угловатыми и обаятельными рельефами с изображением рабочих и крестьян, немного напоминающими позднеготическую скульптуру /ил. 83–86/. В этой пограничной зоне, переходившей то от Франции к Германии, то обратно к Франции, сложно наверняка определить, к чему восходит тот или иной художественный мотив. Еще сложнее здесь понять, что считать французским, а что – немецким. Многие жители говорят на двух языках и, конечно, готовы настаивать на том, что Лотарингия всегда была сама по себе, и вообще в этих краях есть места, где говорят на франконском, а вовсе не на немецком или французском. Все старики здесь похожи на Верлена, он родом из Метца. А те, что особенно на него похожи, – вылитые Сократы, только уши, как у Пикассо. В Верлене была как будто немецкая серьезность и последовательность, если это, конечно, не алкоголическая маниакальность. В его пафосе бунта угадывается энтузиастический порыв немецких романтиков. Его эпатаж иногда скабрезен, как шутки, которые отпускал Симплициссимус.
| 83–86 | Рельефы в интерьерах вокзала Метца
В Нанси – столице Лотарингии – замечаешь особенный уют узких, но не тесных улиц, неспешность жизни, не торопящейся быть похожей на столичную и не стесняющейся выглядеть как будто провинциально. Со времени правления Станислава Лещински известны ансамбли Нанси, образцы стиля рококо. Решетке Жана Ламура напротив памятника на главной площади, ее знаменитым завиткам, повторяющим изгиб раковины, вторят воспроизводящие рокайльный узор неоновые загогулины на фасаде нового здания Музея изящных искусств. Франсуа Морелле, предложивший так оформить современную пристройку, сделал также скульптуру по мотивам решетки Ламура. Он вывернул наизнанку ее 3D-модель, взял ее в нескольких разных разрезах, как следует перепутал все эти картинки – и на свет явился скелет допотопной птицы, напоминающей спрессованного птеродактиля. Это чудо, отлитое в бронзе, свисает с потолка над главной лестницей, не давая нам заскучать перед образчиками классического лотарингского рококо /ил. 87, 88/. Когда же мы выйдем из музея в сгущающиеся сумерки, с фасада нам подмигнут веселые завитки /ил. 89/.
| 87 | Решетка Ж. Ламура – образец лотарингского рококо. Площадь Станислава Лещински в Нанси
| 88 | Скульптура Ф. Морелле в новом здании Музея изящных искусств
89 | Фасад нового здания Музея изящных искусств в Нанси, оформленный Ф. Морелле
В соседнем Эльзасе тоже есть неразбериха между французским и немецким. Тут тоже все давно перемешалось. Страсбург с его пивнушками на французский город похож не очень. Обычно в такой пивной в углу зала поблескивает и гудит пивоваренный аппарат, а студенчество заправляется свежайшим Weissbier. Нелепый модерн во вкусе нуворишей, которым застроены улицы, ведущие от вокзала к центру, тоже вполне в духе уютного бюргерского городка начала прошлого века. Страсбургский собор – о нем можно написать целый роман, не отвлекаясь на революции и историю национально-освободительного движения, – к французской готике имеет косвенное отношение. При всем этом по-французски здесь говорят гораздо яснее, чем старожилы Ниццы или каталонцы из Перпиньяна. До некоторой степени сближают эльзасских немцев и французов местные вина. Прекрасны и рислинг, и сильванер с берегов Мозеля и Рейна!
Эту Францию, эту Европу трудно не полюбить за то, что разные люди, разные традиции, разные языки уживаются здесь счастливо. Все располагает к тому, чтобы повсюду здесь звучала иностранная речь новых обитателей этих мест. С мигрантами в Эльзасе проблем хватает, как и везде в Европе. Но страсбуржцы, в отличие, например, от сильно поправевших венцев, не были замечены в гонениях на приезжих. Здесь умеют уважать то, как привыкли жить соседи, и не делить все на свое и чужое.
В соседний Кольмар – еще один город, где французское едва отличимо от немецкого, – все ездят смотреть Иссенхаймский алтарь Грюневальда, немецкую святыню, которая более полувека принадлежит Франции.
Идеальным и типичным для этих мест был бы городок где-нибудь на границе Франции, Бельгии и Германии, но не в Люксембурге. На воображаемой карте Европы там были бы места, где местные жители говорят на трех языках, поскольку в семье меньше, чем двумя, не обойтись, а для магазина и аптеки может понадобиться про запас еще один. Город этот – самый западный в Германии и самый восточный во Франции. Территориально он относится к Германии, хотя именно здесь был один из центров каролингского Возрождения, здесь Карл Великий предавался радостям модернизации и утехам инноваций. В этих краях отводил душу Лоэнгрин, когда заедала рутина в родном Брабанте. Со временем тут воцарился дух фламандской деловитости, зиждущийся на ките веселых попоек и слоне шальных кутежей. Деревеньки в окрестностях этого городка рисовали живописцы, специализировавшиеся на кермесах – изображениях сельских праздников. Постепенно этот разноязыкий народ начал ощущать себя сплоченным коллективом, и хотя официальные государственные границы никто не отменял, эту землю давно зовут Euroregion. Региональная железнодорожная сеть именно так и называется.
В XIX веке тут стали добывать уголь. Местные жители в шахтах и на заводах работать не хотели или требовали высокую зарплату. Так тут появились крестьяне из бедных районов Италии и Греции. Германо-франко-бельгийский генотип обогатился жгучей южной кровью. Для гастарбайтеров строили города-сады, чтобы не было текучки кадров. Первые идеальные поселки для рабочих с инфраструктурой, парками и досуговыми зонами стали строить в Англии под влиянием идей утописта Эбенезера Ховарда. Затем они появились по всей Европе и в СССР.
Прошло полвека – и промышленность стали выводить из Центральной Европы. Угольные шахты и заводы закрывались, о горняцкой жизни напоминали только картины Константина Менье и ксилографии Франца Мазереля. С конца восьмидесятых отсюда уезжали семьями. А приезжали разве что фотографы, снимавшие живописные промышленные руины, и арабы, заселявшиеся в брошенные дома. Все чаще тут слышался аромат шавермы, все меньше становилось тех, кто любил вкус крепкой лакричной настойки фиолетового цвета – фирменного напитка горняков. Для севера Европы вкус анисовых леденцов – вкус детского лакомства. К тому же угольная пыль вызывает заболевания дыхательных путей, а анис как раз полезен для горла.
Чтобы вернуть к жизни эти места, было решено устроить прямо в заводском здании международный фестиваль современного искусства. Позвали известного куратора, тот стал собирать выставку, посвященную углю, и создавать заводской музей. Местных жителей просили приносить все, что связано с заводом: спецодежду, инструменты, документы и прочее. В европейских музеях нашли произведения на тему угля, энергетического сырья и индустриальной культуры в целом и пригласили участвовать в проекте современных художников.
Получилась выставка, заполнившая здание завода со всеми его конторами и цехами. В баре заводского музея наливали лакричную настойку. Если хватало духа, ее можно было потягивать, сидя в тесной вагонетке, на которой рабочие спускались в шахты. Было много эффектных вещей. Один художник сшил вечернее платье из найденного в цехах тряпья, у наряда был очень длинный подол, в складках которого терялся подиум. Здесь же показали знаменитую инсталляцию Дюшана из мешков с углем, подвешенных к потолку. Были и трогательные вещи. Например, фото рабочего, приехавшего на заработки из Греции, и его невесты, оставшейся дома. Перед отъездом они разорвали снимок пополам: одна половинка осталась у нее, другая – у него. Долгое время невеста не могла сюда приехать, но в итоге это произошло. Они зажили вместе, сшили фотографию леской и нарожали кучу детей.
В этот городок на фестиваль съезжались со всего мира. Вот только местным арабам, которых тут теперь большинство, эта история про уголь была мало понятна. Если возвращаться с выставки в центр на автобусе к вечеру, на первой остановке салон заполняется шумной гурьбой школьников. Они говорят не по-французски, не по-бельгийски и не по-немецки, а на арабском. На второй ожидает такая же толпа, но водитель даже не притормаживает. Едет прямо к вокзалу. Там много баров и магазинов.
Неф-Бризаш
Счастливые города строились в форме многоугольника, вписанного в круг, или в форме круга. Оси, расходящиеся от центра к окружности или к соприкасающимся с ней углам, были главными улицами. По ним осуществлялось движение транспорта. Пересечение этих артерий и кругов меньшего диаметра, вписанных внутрь фигуры многоугольника или круга, обозначало границы кварталов. Город счастья был упорядоченно и ясно организован, в нем распутывались средневековые лабиринты извилистых узких улочек. Постройки не громоздились хаотично, но выстраивались в линии-перспективы, обрамленные рядами стройных фасадов. В центре располагалась главная, самая просторная площадь, по осям – несколько небольших, но тоже ладных. В счастливом городе было много зелени: парки, бульвары, аллеи. Некоторые счастливые города задумывались как города-сады.
Сохранилось несколько таких мест в Италии и во Франции. С тех пор, как в идеальном городе Неф-Бризаш, что в Эльзасе, окончательно и бесповоротно воцарилась гармония, все пошло как-то наперекосяк. Во дворце то заклинивало ворота, то ни с того ни с сего начинала протекать крыша. От сквозняков, гулявших по анфиладам, все по очереди простужались. Подслушивать друг за другом стало практически невозможно, так как стены возвели на совесть. Строили на века! Постепенно нужные щелочки все-таки были найдены, а где их не оказалось – пробуравили слуховые отверстия. Но после стольких усилий наступило горькое разочарование: подслушивать было решительно нечего. Интриг и сплетен осталось раз-два и обчелся. О заговорах смешно было даже подумать. На супружеские измены и романчики никто не отвлекался, поскольку счастье отнимало все время.
Официально счастье объявили всеобщим, но каждый должен был сам прийти к нему своим тернистым путем. А ведь не так-то просто уверить окружающих, что ты предаешься полному блаженству. Самые сообразительные сразу смекнули, что проще всего задумчиво сидеть с раскрытой книгой в руках и иногда загадочно улыбаться. Но городок был небольшой, и даже дюжины книгочеев оказалось многовато. Еще немного – и появилось бы ощущение, будто лечишься в санатории или в больнице. Малой кровью отделались те, кто прикинулся страстным любителем природы, вечно прогуливающимся по паркам и бульварам, созерцая неповторимые заросли репейника, кусты орешника, полянку, заросшую клевером, или воробушка, силящегося унести в клюве хлебную корку, но падающего под ее тяжестью на аллею меж тополей. Тополя завезены сюда недавно. От их пуха у половины жителей города конец весны стал аллергическим кошмаром.
Всем остальным пришлось проявить максимум изобретательности. Заботливым родителям, нашедшим счастье у семейного очага, предстояло регулярно демонстрировать землякам нежные родительские чувства. Тем, кто решил посвятить себя заботе о стариках, тоже нужно было как следует пошевелить мозгами, чтобы не наскучить публике своим добросердечием. Пекущиеся о том, чтобы город был чистым и красивым, сбились с ног, пряча куда попало помои, которые буквально вырастали под ногами откуда ни возьмись. Тех же, кто боролся за чистоту человеческих помыслов, обходили стороной. Эти могли всю душу вынуть.
Долго – понятное дело – так продолжаться не могло. Все, конечно, приноровились к счастью, как умели, и благоденствовали без серьезных нареканий. Но в соседних городах бурлила революция. Сначала лавочники и ремесленники перерезали сборщиков податей, потом принялись за людей странных или неприветливых. В столице освободили всех заключенных из старой тюрьмы, от самой тюрьмы камня на камне не оставили. Везде кипели дискуссии о справедливости и всеобщем счастье. Свободы, равенства и братства уже алкали даже сбежавшие подобру-поздорову эмигранты, лишь бы вся эта дичь скорее закончилась.
Счастливый город за это время повидал многое. Дома, площади и улицы остались целы, но прежнего счастья и след простыл. Жизнь вносила свои коррективы так часто, что с какого-то момента на это перестали обращать внимание. И долгое время здесь ничего особенного не происходило, люди просто жили своей жизнью. Кажется, это был самый благополучный период в истории города.
В один прекрасный день счастье напомнило о себе. Один модный швейцарский архитектор решил построить на окраине города идеальную виллу. Ее заказала семейная чета, работавшая в страховой компании. Место было выбрано живописное: вершина холма, окаймленная вязами, с которой открывался вид на окрестную долину, перелесок и убегающие к горизонту холмы. На лужайке модный архитектор построил небольшой дом с бельведером /ил. 90–94/. Дом на тонких бетонных колоннах зависал в пейзаже. Сверкающий белизной, поблескивающий сплошными окнами, разрезавшими напополам фасад, – странный иноземный объект со стеклянными стенами, лестницей-улиткой и солярием на крыше. В нем никакого декора, ничего лишнего – только воздух и свет. Шкафы встроены в стены, интерьер выкрашен белым или в один-два тона. Невесомая архитектура, растворяющая в себе само пространство. Архитектура, нашедшая гармонию человека и природы.
| 90–92 | Вилла Савой. Архитектор Ле Корбюзье. 1931
Модный архитектор впоследствии стал гением социалистического строительства. Идеи, воплощенные в этой вилле на окраине счастливого города, он положил в основу первых многоэтажек, которые были прообразом серийных зданий в спальных районах. Во Франции их называют бидонвилями. Первые многоэтажки производят довольно мрачное впечатление. А эта вилла, с которой началась история идеального жилья, была настоящим социалистическим недостроем. В ней никто никогда так и не смог жить. Хозяева попытались было провести на вилле несколько дней, но отопление барахлило, из ленточных окон шел жуткий сквозняк, с чудесной крыши-бельведера-солярия текло, да еще ко всему прочему не запиралась входная дверь. Хозяева обратились было к архитектору с просьбой устранить неполадки, но тот уже был занят другим проектом счастья и отвечал на их письма неохотно, а потом и вовсе потерял интерес к этой истории, которую, как он полагал, злополучные обыватели умудрились превратить в скверный анекдот.
| 93, 94 | Вилла Савой. Архитектор Ле Корбюзье. 1931
Ведь счастье было так возможно.
Долгие годы вилла стояла бесхозная. Жители счастливого города посмеивались над этой комедией, но без энтузиазма: они и не такое на своем веку видали. Архитектурные критики прославляли смелый новаторский проект, постепенно занявший место на страницах истории современного зодчества. В один прекрасный день Министерство культуры взялось за реставрацию виллы, и теперь она достопримечательность. Наконец-то тут все работает, но жить так никто и не живет. Место слишком счастливое.
Вован
1932 году Марсель Дюшан вновь отправился в путешествие на Юрские горы – в счастливую деревню Вован. Когда Дюшан был в этих краях в первый раз с Гийомом Аполлинером и Франсисом Пикабиа, еще перед войной, он слышал рассказы о том, что где-то за перевалом есть такое глухое местечко, жители которого считают себя потомками Чингисхана. Оказалось, что легенда эта старая. В конце XIX века сюда приезжала этнографическая экспедиция из Сорбонны. Несколько фольклористов и антропологов записали много преданий и россказней о великом предке вованских крестьян. История была забавная, но откуда берутся эти небылицы – так и не ясно.
Однажды утром молодой пытливый исследователь, недавно приступивший к работе над диссертацией, подсматривая за купающимися в горном озере деревенскими девками, заметил, что у всех трех у пупа были синие родимые пятна. Научному руководителю он решил пока ничего не говорить и продолжил вести полевые наблюдения самостоятельно. Лето стояло жаркое. Девки все шли и шли окунуться в холодное озерцо. И у всех были синие родимые пятна. У одной – на бедре, у другой – на плече, у третьей – на ягодице. Научный руководитель, услышав от подопечного о странном открытии, похвалил его за наблюдательность:
– В науке это уже полдела! Наблюдательность и еще раз наблюдательность! Так написано на фасаде лаборатории академика Павлова в Колтушах /ил. 95/.
| 95 | Лаборатория, в которой проводились исследования феномена синих родимых пятен
Профессор дал задание фотографировать девок как можно четче.
Когда снимки были готовы, на мозговой штурм пригласили специалиста по истории Монголии, тоже участника экспедиции. Девки и впрямь были хороши! На монголок они, правда, совсем непохожи: ягодицы посажены недостаточно низко, хотя недурны, недурны; груди торчком, сосцы острые. А как вот эту смешливую зовут?
– Коллега, – прервал его профессор. – Вы не заметили на снимках одной интересной детали?
– Да, да, именно! Лобки…
– Коллега, обратите внимание на родимые пятна тут, тут, тут… все они синего цвета!
– Поразительно! Как вы точно подметили! Дело в том, что по монгольскому преданию, синее родимое пятно – знак Чингисхана. Монголы верят, что среди них много его потомков. И по этому знаку отличают тех, чей род восходит к великому завоевателю, который, как гласит предание, трахал все, что шевелится! – Исследователь поднял указательный палец к небу.
Материалы этой экспедиции были опубликованы в спецвыпуске «Этнографического журнала» Сорбонны. Исследователям так и не удалось найти убедительное объяснение обнаруженному феномену. Было высказано несколько противоречивых гипотез. Историей заинтересовались сюрреалисты. И вот в счастливую деревню на встречу с очевидным-невероятным отправился Марсель Дюшан.
Фасовщик парижского воздуха, наладчик алеаторических машин, мистагог, ценитель горячего задка Моны Лизы и громозека современного искусства, Дюшан как никто другой осознавал, до какой степени завиральные истории может рассказывать нам сама действительность. Он мог доподлинно засвидетельствовать, как обстоят дела в одной, отдельной взятой франко-монгольской деревне. Его друзья, сюрреалисты, тоже умели расслышать, как сама жизнь сообщает нам невероятную правду зачастую громким предательским шепотом. Вован просился в картотеку Бюро сюрреалистских исследований. Сюда достаточно было приехать и убедиться в том, что все обстоит именно так. Дюшану повезло в отличие от одного его русского последователя, которому пришлось идти на ухищрения, чтобы заставить мужской церковный хор в грузинской деревеньке спеть отрывок из «Песен Мальдорора». В Воване Дюшан нашел подтверждение тому, во что верил давно: реальное столь же воображаемо, сколь объективно вымышленное, и нам остается только констатировать непреложные факты, читая безумную хронику жизни.
Ферне
Так вышло, что Бургундия и Савойя неотделимы от современной Франции, хотя история этих древних могущественных королевств могла сложиться и иначе. Но произошло так, что они стали парижской вотчиной, и вот уже два столетия символы Франции для русского человека – это бургундское вино и савояр с сурком. В один комплект с ними, разумеется, входит и гасконец Д’Артаньян, и эскадрилья «Нормандия – Неман» с о чем-то поющим на крыле самолета маленьким принцем, и все прелести Лазурного берега. Бургундского у нас в Питере, кстати, почти не продают, в винных бутиках все больше бордо. Шарманщик со зверьком крупнее хомяка, но мельче кота тоже для нас как пришелец с другой планеты. Но наверно, именно потому, что и бургундское, и савояр с сурком оказались вне зоны доступа, в качестве стереотипов французского они наиболее живучи. Такая у нас самозародилась прекрасная Франция.
В этих восточных землях не только помнят о былой славе Бургундии или Савойского королевства, но и живут с оглядкой на своего двойника – французскую Швейцарию.
Вольтер, чтобы не докучать Людовику XVI, выбрал для жизни укромное местечко неподалеку от Женевы. Ферне от Парижа далеко, попробуй еще доберись до этого медвежьего угла /ил. 96–98/. Рядом несколько больших городов, но дворец и поместье Вольтера располагались в маленькой деревушке. Теперь тут городок. Места удивительно красивые: дворец стоит на холме, откуда открывается вид на долину, окаймленную густым лесом. Раздолье, близость к природе, возможность сосредоточиться на работе и при желании поехать в Женеву, где все столичное и актуальное в шаговой доступности. В отличие от своего героя Кандида Вольтер был разумным, предприимчивым деятелем культуры. И, чтобы в хозяйстве на всякий случай было все необходимое, построил возле дворца даже часовню. Видимо, это не слишком мешало ему слыть великим скептиком.
| 96–98 | Поместье Вольтера в Ферне
Сложно сказать, была ли в то время разница между Ферне и деревушками в окрестностях Женевы. Скорее всего, фернейский мудрец, перебравшись сюда, осваивал еще одно пограничье, устроив себе жизнь постороннего наблюдателя, следящего за тем, что происходит в Париже и других столицах. Сейчас разница между окрестностями Женевы и Ферне ощутима. На выезде из города обозреваешь угодья ООН и миротворческих ассоциаций, пастбища музеев и консульств или роскошные частные виллы. По соседству с ним, правда, вырастает забор из металлической сетки, сверху оплетенный колючей проволокой. Это всего лишь аэропорт.
Нет ни новостроек, ни буферных зон, ни заводских окраин. Граница обозначена пустующими ларьками, в которых когда-то сидели постовые, и зданием таможни, где какая-то жизнь еще теплится. Затем начинается французский городок, каких много в агломерациях Парижа или Марселя. Вдоль шоссе, по которому снуют туда-сюда грузовики, автобусы и автомобили, стоят двухэтажные бетонные короба. В некоторых из них живут, в некоторых располагаются ведомственные учреждения и лавки. Поперек главного проспекта идет несколько улиц. С одной стороны видны кварталы приземистых частных домов. С другой – супермаркет, молл, кинотеатр, кондитерская. Дальше квадратная площадь, как всегда с выгороженным квадратом: то ли меняют коммуникации, то ли заново мостят. Китайский ресторан в стекляшке, тут же банк. Цветочный магазин, сапожная мастерская, лавка, где продают компьютерные игры. Плюс пара старых улочек, на которых сохранились дома позапрошлого века и пара каменных сараев времен Вольтера. Тут есть несколько баров, между которыми местное население делится на несколько лагерей. Пара бутиков. И еще какие-то потребительские радости.
Это классическая провинция, так и не достроенная социалистами, когда они были у власти. С этим то и дело бастующим народом, с этими язвительными политическими оппонентами, с этими вечно не согласными по каким-то идиотским мелочам единомышленниками попробуй хоть что-нибудь доделать до конца! Отмененная Евросоюзом граница между Швейцарией и Францией не отменила разницы между городком, превращенным благими намерениями социалистов в тоскливую дыру, и безлюдными вольерами гуманитарных организаций и чиновничьих контор. В самой Женеве и в Лозанне есть, конечно, новостройки с их неустроенностью, есть и социальное расслоение. Мои французские приятели утверждают, что население Женевы на семьдесят процентов – приезжие. Никогда бы не подумал, что это так. Город кажется таким уютным, таким обжитым на взгляд постороннего. И тем не менее мне, как иностранцу, кажется, что различаются Ферне и окрестности Женевы именно тем, как по-разному сложилось мещанство по обе стороны ныне не существующей, но от этого еще более ощутимой границы. Одни привыкли, что общего блага хватит на всех. Другие, живя в стране, давно умудряющейся оставаться в стороне от проблем, которые возникают у соседей, берегут свои закрома, как запасливые, осторожные горцы, которые некогда селились в Альпах.
Разница тут слышится и в языке. Швейцарцы могут использовать непривычные для французов выражения, с другим значением употреблять некоторые слова и иногда простую вещь называть устаревшим во французском термином. Редки случаи, когда француз и швейцарец друг друга не понимают. С немцем и швейцарцем, кстати говоря, это может произойти. Я сам был свидетелем тому, как гамбуржец не мог найти общего языка с выходцем из Цюриха.
Вкус красного вина из долины Роны тоньше и насыщеннее, чем французский Ctes du Rhone. Говорят, что раньше местное вино было не ахти, но последние годы оно стало отменное. Его не экспортируют, выпивают прямо на местах. Эта противопоказанная имперской экспансии самодостаточность, умение существовать в своем мире, не затворничая, не встревая в чужую жизнь и извлекая максимум выгоды из всего, что есть под рукой, – повод поднимать бокал за бокалом красное вино сорта доль. Такова страна банковских гарантий, без которых человечеству пришлось бы туго, и страна озер, без которых человечество осталось бы в неведении, как прекрасны и удивительны были экстазы Руссо, какие бурные страсти кипели в душе мадам де Сталь и Адольфа Констана. И где, если бы не на Лемане, поселился бы на склоне лет Набоков – не на французской же Ривьере?
Женевское озеро – это почти Франция, территориально его южное побережье – Франция и есть. Но конечно, озеро Леман – никакая не Франция. Париж не поймал его в свои сети. И пациенты психиатрической клиники «Belle Ide» на женевской горе Салев (так им и отвечают врачи, если в голову приходит новая удачная мысль: «Belle Ide!») навсегда останутся патриотами своего кантона.
| 99 | Мавзолей герцога Карла Брауншвейгского. Женева
Франции здесь нет и в помине. На набережной озера в Женеве теснятся скульптуры, символизирующие единение человека и природы /ил. 100/. В самом центре высится мавзолей Карла Брауншвейгского, завещавшего городу свое состояние при условии, что его усыпальница будет прямо на Лемане /ил. 99/. Такого в Париже не бывает. Женева знает редкую свободу решать все за себя без советов посторонних. Посторонние даже сами подтягиваются и готовы дать денег, например на строительство здания Оперы, как тот же Карл Брауншвейгский. Решат горожане, что на озере в центре города будут турецкие бани с недорогим ресторанчиком – и появляется любимое место мужичков, опознавательным знаком которых стали мочалка с полотенцем в корзинке над передним колесом велосипеда. Баньку жалуют и местные нимфы.
| 100 | Памятник строгому юноше. Набережная озера Леман. Женева
В Женеве с детства привыкают решать все за себя. Один из желтых корабликов, курсирующих между двумя берегами, по желанию учеников одной местной школы был назван «Rouss’eau», о чем торжественно сообщается на памятной табличке, висящей в салоне /ил. 101/. Каламбур не очень смешной, почти как настоящие французские каламбуры, но все-таки событие, безусловно, приятное /ил. 102/.
| 101 | Один из желтых корабликов, курсирующих между берегами озера Леман, по желанию учеников местной школы был назван «Rouss’eau»…
| 102 | Женева – город победившего Руссо
Дух свободных городов, дух независимых земель здесь много определяет. Он ближе немецкому бюргерству, чем централизованной имперской системе, с которой французы постоянно борются за свои права. Французские швейцарцы симпатизируют Германии. Мадам де Сталь, знавшая славу парижских салонов, перечившая Наполеону, брюзжавшая на провинциалов с берегов Лемана, воспела немецкий романтический дух, его суровую северную поэтическую мощь. Причем написала она о своем восхищении Германией на французском, чтобы быть прочитанной более широкой публикой или просто чтобы всех уесть. У горцев ведь нрав крутой. Главный герой в Швейцарии – не булочник Буонасье, не санкюлоты и не маленький капрал, но головорез по понятиям Вильгельм Телль.
| 103 |…даль социализма отсюда совсем недалеко. Памятник героям труда: охотник на соболя и труженики из Африки и Америки
Впрочем, многие из тех семидесяти процентов приезжих, которые тут обосновались, закрывают на все эти истории глаза и, как Набоков, облюбовавший Монтрё на другом конце озера, живут идиллией. Если же у кого-то вдруг появится желание срочно почувствовать разницу, даль социализма отсюда совсем недалеко /ил. 103/. До Ферне полчаса езды.
Авиньон
Южнее, спускаясь по карте к Средиземноморью, можно увидеть еще одну Францию. Как-то я ехал на региональной электричке в Авиньон. Дело было в пятницу вечером, но не поздно, в районе шести. Сначала вагон был пустой. Потом на какой-то маленькой станции вошла компания бодрых чернокожих подростков с «колбасой» – CD-плеером с колонками, из которых доносились возмущенные возгласы под барабанную дробь. Рэп звучал громко. Три с половиной бесстрашных пассажира не без удивления посмотрели на могучую кучку, но замечания не сделали. Мол, дело молодое, да и езды тут пятнадцать минут. Через остановку в городке, внесенном в список ЮНЕСКО за то, что Петрарка здесь жил и сумел воздержаться от великих свершений, вошла другая компания, более вальяжная, тоже с «колбасой», из которой доносился какой-то соул – муки кота Васьки. Рэп все-таки пободрее. Эта компания села в другой конец вагона. И всем стало ясно, что музыки многовато. К моему удивлению, никто и не думал приглушить звук. Как в до боли знакомой родной электричке, началось быкование двух слободок. Стороны высказали друг другу короткие, но емкие пожелания. Между их соседствующими городками была какая-то древняя вражда, обостренная предвыборной полемикой. Дело было как раз весной, когда шли дебаты кандидатов в президенты, и на днях все ждали ТВ-спарринга Николя Саркози и Сегален Руаяль. От обсуждения того, кто в этих краях, засеянных подсолнухами, должен считаться главным зиданом, а кто будет носить ухо за Ван Гогом, стороны перешли к вопросам внутренней политики. Прийти на этой почве к взаимовыгодному компромиссу было почти невозможно, так как все были против понаехавших, которые ничего во Франции не понимают, а только «едят наш сыр, изводят наше вино, лапают наших четвероногих питомцев, собирают в наших лесах наши грибы и все подплывают и подплывают на лодках из Северной Африки». Того и гляди – скоро весь Алжир с Марокко сюда переберутся. А там и Чад подтянется, и Мозамбик. Ребята были за Саркози – венгра, родители которого переехали во Францию и остались тут жить, – и его программу наведения порядка, которая уже давно назрела. Настал час засучить рукава и взяться за дело, иначе Франции несдобровать.
Хуже бывает, только когда мужички в брассери начинают спорить о футболе. Вскоре стороны перешли в формат встречи без галстуков, прозвучали слова «черножопый мандрил» и «бен ладен сраный». Они даже сочли необходимым подняться с мест и начать двигаться навстречу друг другу чтобы быстрее наладить диалог. Но тут поезд прибыл на конечную станцию. Я уже было настроился приобщиться к новому опыту – потасовке в провансальской электричке, но, к счастью, воцарился мир. Близость баров, огни большого города, куда все ехали выпить в пятницу вечером, как рукой сняли политические разногласия. На прощанье кто-то воскликнул: «Саркози никогда не будет твоим президентом!», – что прозвучало почти как тост. И, перемешавшись друг с другом, полемисты поспешили навстречу соблазнам мира чистогана.
| 104–106 | Авиньонский мост и его обитатели
Когда в Авиньоне пленили римского папу, здесь тоже была бурная жизнь. На мосту через Рону, судя по сложенной о нем знаменитой старинной песне, все пытались отвести душу, как умели /ил. 104, 105/. Никто не предавался меланхолии. Вот и сейчас у сходящих на перрон пассажиров ноги сами в пляс идут. В барах тут очень весело, никакой агрессии, все мило и задорно. Даже гигантская шишка, сорванная ветром с разлапистого кедра, приземлилась мне не на темечко, когда я вышел на холм у реки, – а прямо к ногам. Я подобрал ее и с тех пор храню как дар, преподнесенный мне другой Францией.
Ницца
Это явный претендент на звание самого иностранного города Франции на Средиземноморье. Но у Ниццы есть могущественные конкуренты – те же Марсель или Перпиньян. Совсем не ясно, чья возьмет, если завести разговор о каталонцах в Перпиньяне или арабах и африканцах в Марселе. Чтобы не наживать лишних проблем, лучше провести этот конкурс, сосредоточившись на том, сколько русских живет в этих городах. Тогда Ницца будет вне конкуренции, может быть, даже на всем юге Франции. Основали этот город, ставший знаменитым курортом, все-таки англичане, а не русские. Но обживали, строили, вкладывали в него капиталы и духовно обогащались средиземноморской аурой главным образом наши соотечественники, последовавшие примеру императорской семьи, которая первой облюбовала эти места.
Ницца даже на благодатном средиземноморском побережье считается местом особенным. Это тихая бухта, где штормы не часты, ветер редко бывает порывистым и слишком сильным /ил. 107/. Тут мягкий климат, чудесные пляжи, а в соседнем Мантоне, который по-русски с давних пор называют на итальянский манер Ментоной, самое благоприятное во Франции место для выращивания лимонов. Местным жителям иногда начинает казаться, что их лимоны – лучшие в мире, с чем разумнее всего соглашаться без комментариев.
| 107 | Бухта в Ницце
| 108 | Характерный для местной архитектуры декоративный мотив
| 109 | В Ницце начинает казаться, что русские вездесущи
Официально в Ницце двуязычие. Французские названия улиц в центре продублированы переводом на ниццский диалект провансальского, le niois. Но в повседневной жизни город говорит и на английском, и на немецком, и на итальянском. Что касается русского, то здесь он слышен постоянно. Гуляя в Ницце по Английской набережной, с которой когда-то начинался город, проходишь мимо пятизвездочных отелей и дорогих особняков и вдруг читаешь на воротах перед палисадником объявление по-русски «Продается дом» и мобильный риэлтера, все-таки не мегафоновский, а с кодом Bouygues, местного провайдера. Молодые пышащие нефтяным здоровьем мамаши с детьми, спешащими с пляжа, молодые бабушки с молодыми мамашами и стареющими от неизбежности благополучия детьми – это привычные картины для нынешней Ниццы. Здесь живет много наших соотечественников, не говоря о круглый год приезжающих сюда русских туристах.
Русским тут всегда нравилось, Герцен так прикипел душой к этим местам, что купил большой участок на кладбище, что на холме, где когда-то возвышалась над побережьем древнегреческая крепость. Там он и был похоронен. Русских эмигрантов тут было много: и художник Николя де Сталь, и писатель Борис Зайцев, и Марк Шагал. В Ницце есть большой Музей Шагала, а по соседству, в одном из самых роскошных мест Франции, – его поместье.
В Ницце есть две русские церкви. В окрестностях несколько русских кладбищ. Эжен Клементьефф, художник первой волны эмиграции, эффектно расписал католическую церковь Св. Жанны Д’Арк. Кажется, это одна из первых бетонных церквей, ее построили в начале тридцатых по византийскому образцу, но издалека ее выбеленный силуэт и овальный купол напоминают мечеть. Музей наивного искусства – и тот был основан русским эмигрантом Анатолем Жаковски, известным во Франции как один из ведущих критиков, писавших о современном примитиве. Вилла Вальроз строителя российских железных дорог Дервиза – теперь физический факультет местного университета.
В Ницце начинает казаться, что русские вездесущи /ил. 109/. Это колонизаторское присутствие создает ощущение, что ты не в далеких средиземноморских краях, а на родном черноморском курорте. Но в конце концов, тут так вкусно, вольготно и интересно, что на это перестаешь обращать внимание. Здесь можно быть счастливым уже оттого, что сидишь в кафе на берегу и отмечаешь изменения в морском пейзаже, забыв обо всем на свете. Здесь можно гулять по пляжу или променаду целыми днями, болтать с прохожими, которые с тобой заговаривают, или заводить разговор самому, благо тут это уместно практически всегда. Перепробовать все, чем здесь кормят, – это особенный азарт. Другая большая охота – поездить по окрестностям, где есть что посмотреть.
| 110 | …вдоль берега выстроились в ряд пальмы…
Французы любят приезжать сюда на несколько дней. Кто-то покупает здесь жилье, чтобы перебраться из Парижа на склоне лет. В пенсионном возрасте Ниццу оккупировали великие модернисты Матисс, Кокто, Дюфи. Конечно, этот уголок юго-восточной Франции – не VIP-питомник и не навороченный курорт. Русские в Ницце – это такой забавный анекдот о том, чего только ни бывает на Французской Ривьере. Тут и Италия в нескольких остановках на электричке, тут и провансальский язык можно услышать, тут многое напоминает о том, что когда-то это были савойские владения, а коренные жители, если захотят, выдают себя за лигурийцев и могут даже в доказательство встать перед вами в профиль и продемонстрировать мужественный римский нос, кипящий мыслями высокий лоб и свидетельствующий о решительности немного выдвинутый вперед подбородок.
Ницше в окрестностях Ниццы, на вершинах средиземноморских Альп, являлся Заратустра. Карабкаться по крутым склонам совсем не просто, зато по дороге можно читать письмена на широких листах агавы. Вот, например, что пишет нам доброжелатель из ВильФранш-Сюр-Мер: «Здравствуйте! Простите, что давно не писал. Спасибо за то, что вы есть!»
Я очарован этими краями по-своему. Меня приводят в восторг пальмы. Как-то прилетев в Ниццу в феврале из Петербурга, который превратился в заполярный бункер после того, как у нас перестали переводить время, я был счастлив уже оттого, что увидел солнечный свет, лазурное море. А когда по дороге в гостиницу вдоль берега выстроились в ряд пальмы, я возликовал, как в детстве при появлении на экране телевизора кота Бонифация под высоченной палкой, наверху которой торчком стояла мочалка, а под нею весело болтались кокосы-бананы /ил. 110/.