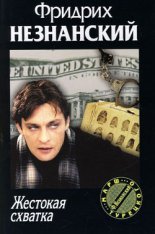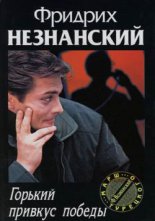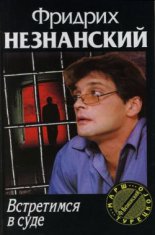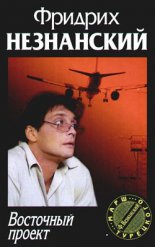Я Пилигрим Хейз Терри
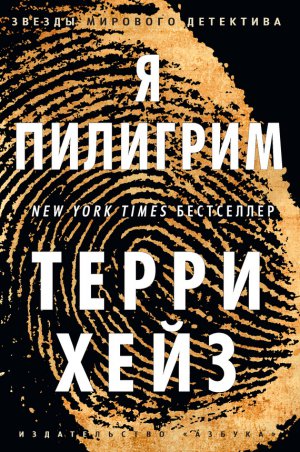
Не могу сказать точно, читал ли Билл отчет, написанный его отцом, но нужную нам извилистую дорогу он нашел без труда. Стояла замечательная летняя погода. Около полудня мы подъехали к автостоянке и медленно вошли в Дом смерти.
Французы устроили здесь мемориал: в этом лагере погибли многие участники Сопротивления. Билл показал мне старое здание гостиницы, некогда превращенное немцами в газовую камеру, и крематорий с печами и лифтами для транспортировки трупов. Я не выпускал руки Билла, что случалось крайне редко.
Мы прошли мимо виселицы, на которой совершались публичные казни, миновали здание, где нацисты проводили над людьми медицинские опыты, и вошли в барак номер один для узников лагеря. Здесь был размещен музей, внутри которого мы с Биллом на время разошлись.
Повсюду висели экспонаты: старая одежда заключенных, схемы устройства концлагеря Натцвайлер-Штрутхоф. В дальнем углу помещения, рядом с койками, где, казалось, витали призраки узников, я нашел на стене фотографию. Там было много снимков, посвященных холокосту, но этот запомнился мне на всю жизнь. На старом черно-белом фото была запечатлена приземистая женщина в типичной для того времени крестьянской одежде. Она шла по широкому проходу между двумя рядами колючей проволоки под током. Судя по освещению, дело было вечером.
Так получилось, что в кадр не попали ни охранники, ни их собаки, ни смотровые вышки, хотя, конечно, все это там присутствовало, – лишь женщина с ребенком на руках, а еще двое детей цепляются за ее юбку. Мужественная, непоколебимая, поддерживающая их маленькие жизни, как это может делать только мать, она ведет ребятишек в газовую камеру. Мне показалось, что я слышу эту страшную тишину, физически ощущаю ужас, разлитый в воздухе.
Я не мог оторвать глаз от фотографии, одновременно вдохновленный и опустошенный этим застывшим образом семьи и бесконечной материнской любви. Тихий голос внутри, детский голосок, повторял слова, которые мне никогда не забыть: «Как жаль, что я не знаком с ней». Потом на мое плечо опустилась чья-то рука. Это был Билл. Мой приемный отец плакал, я видел слезы в его глазах.
Ошеломленный, Билл указал на горы обуви, расчесок, очков, оставшихся от узников лагеря, и заметил:
– Никогда не думал, что обычные вещи способны вызвать столь сильные чувства.
А потом мы с ним шли вдоль рядов колючей проволоки назад, к лагерным воротам. Когда мы поднимались вверх по извилистой дороге, Билл спросил:
– Ты видел экспозицию, посвященную цыганам?
Я отрицательно покачал головой.
– В процентном соотношении их погибло даже больше, чем евреев.
– Я этого не знал, – сказал я, стараясь держаться как взрослый.
– Да и я тоже. Для обозначения геноцида цыган нет специального термина. На своем языке они называют это пораймос – цыганский аналог холокоста.
Оставшуюся до машины часть пути мы прошли молча и в ту же ночь вернулись самолетом в Париж. По какому-то молчаливому согласию мы с Биллом никогда не рассказывали Грейс об этой поездке. Наверное, оба сознавали, что она нас просто не поймет.
Через несколько месяцев, незадолго до Рождества, поднимаясь по лестнице в нашем тихом домике в Гринвиче, я услышал рассерженные голоса приемных родителей.
– Пять миллионов долларов? – недоверчиво спрашивала мужа Грейс. – Ты, конечно, вправе делать что хочешь. Это твои деньги.
– Вот уж точно, – подтвердил Билл. – Деньги и впрямь мои.
– Бухгалтер сказал, что эта сумма будет переведена в детский приют в Венгрии. Этого я понять не могу. Почему вдруг Венгрия? Что ты вообще знаешь об этой стране?
– Очень мало. Но знаю, что там полно цыган, а этот приют предназначен для цыганских детей-сирот, – сказал Билл, стараясь говорить спокойно.
Грейс взглянула на мужа так, словно он сошел с ума:
– Для цыганских детей? А при чем здесь цыгане?!
Обернувшись, Грейс увидела, что я смотрю на них. Глаза Билла встретились с моими, и мы прекрасно поняли друг друга. Пораймос, цыганский аналог холокоста.
После Рождества я поступил в Колфилдскую академию, просто ужасную, насквозь фальшивую среднюю школу, администрация которая гордилась тем, что «предоставляет каждому учащемуся все возможности для успешной реализации своих способностей». Плата за обучение в этом элитном учебном заведении была запредельной: тому, кто имел меньше шести поколений богатых предков, даже соваться туда не стоило.
На второй неделе моего пребывания в школе у нас начались занятия по ораторскому искусству – только в Колфилде могли такое выдумать. Один из учеников извлек из шляпы бумажку, развернул ее и огласил тему: материнство. Затем не менее получаса я слушал, как мои одноклассники расписывают, что сделали для них мамочки (как оказалось, очень немногое) и какие смешные случаи происходили на их роскошных виллах где-нибудь на юге Франции.
Наконец вызвали меня. Я встал и, сильно нервничая, начал говорить о прошлом лете, соснах и длинной дороге в горах. Мне хотелось рассказать про ту старую фотографию и объяснить, как я ощутил, что мать любила своих детей больше всего на свете. Когда-то в одной книге, название и автора которой я сейчас уже не вспомню, мне встретилось выражение «потоки скорби». Именно такие потоки захлестнули меня, когда я рассматривал тот снимок. Но когда я попытался связать все это воедино, у меня ничего не вышло, и ребята стали смеяться и спрашивать, уж не накурился ли я какой-нибудь дряни. Даже учительница, совсем молоденькая девушка, которая воображала себя очень чувствительной и сострадательной особой, но на самом деле отнюдь не была таковой, велела мне сесть на место и прекратить нести чушь. Сказала, что я вряд ли добьюсь в их элитной школе особых успехов, что заставило одноклассников смеяться еще громче.
На протяжении пяти последующих лет, проведенных в Колфилде, я больше ни разу не держал речь в классе, какими бы неприятностями ни грозило мне подобное молчание. Из-за этого окружающие считали меня угрюмым и нелюдимым, и, пожалуй, они были правы. Вряд ли хоть кто-то из числа моих бывших однокашников стал впоследствии тайным агентом и лишил жизни столько народу, как я!
И вот что странно: казалось бы, за последние двадцать лет случилось столько всяких событий, однако воспоминания о той давней поездке не утратили своей яркости. Наоборот, они стали еще более четкими, и всякий раз перед сном старая черно-белая фотография встает перед моим мысленным взором. И мне так и не удалось выбросить все это из головы, как я ни пытался.
Глава 12
Я вновь вспомнил про этот снимок, когда выходил из дверей банка «Клеман Ришлу и Ко» на женевское солнышко. Конечно, мне следовало бы испытывать больше сочувствия к Маркусу Бухеру и его дочери, но я никак не мог забыть, что именно швейцарские банкиры вроде него способствовали в свое время возвышению Третьего рейха, финансируя нацистов.
Нимало не сомневаюсь, что запечатленные на фотографии мать с детишками, как и миллионы других несчастных, которых привозили в лагеря смерти в вагонах для скота, с радостью поменялись бы судьбой с Бухером и его дочерью: что такое по сравнению с их страданиями несколько часов дискомфорта, которые испытали эти двое. Как сказал Билл много лет назад, «важно научиться правильно расставлять приоритеты».
Размышляя о темном происхождении многих хранящихся в банках Женевы состояний, я прошел до рю де Рон, повернул направо, остановился у входа в Старый город и сделал шифрованный звонок по мобильнику на один из греческих островов.
Распечатка банковских операций, которую я хранил в портфеле, пристегнув его наручниками к запястью, была смертным приговором Кристосу Николаидису. В том мире, где я вращался, не существовало системы апелляций и нечего было рассчитывать на то, что казнь отменят в последнюю минуту. Как выяснилось в дальнейшем, само по себе убийство Николаидиса не было ошибкой, однако, совершая акт возмездия, мы допустили явный промах.
Целая команда, в которую входило пятеро наемных убийц – трое мужчин и две женщины, – ждала моего звонка на Санторини. Это самый красивый из всех греческих островов: лазурная гавань, ослепительной белизны дома на краю скал и симпатичные ослики, доставляющие гостей наверх, в ювелирные лавки.
Агенты-киллеры, облаченные в легкие хлопчатобумажные футболки и брюки капри, ничем не отличались от тысяч туристов, которые каждый день приезжают на остров. Свое смертоносное оружие они хранили в футлярах для видеокамер.
За несколько месяцев до того, как таинственное семейство Николаидис попало в поле зрения «Дивизии», нас заинтересовал бывший ледокол «Арктик». Этот зарегистрированный в Либерии корабль длиной триста футов, способный выдержать любую атаку стихий, был перестроен (что обошлось не просто в кругленькую, а, прямо скажем, в гигантскую сумму) в роскошное круизное судно, на борту которого имелись посадочная площадка для вертолетов и гараж для «феррари». Нам показалось странным, что этот корабль, якобы предназначенный для сдачи внаем за большие деньги, постоянно арендовал один-единственный человек – Кристос Николаидис, который обосновался на бывшем ледоколе вместе со своей свитой из гламурных красоток, деловых партнеров, всевозможных прихлебателей и телохранителей.
Все лето мы следили за передвижениями корабля через спутник и, преследуя изменников и наркодилеров в Грозном и Бухаресте, не упускали из виду бесконечную вечеринку, плавно перетекающую из Сен-Тропе на Капри и далее, пока «Арктик» не бросил якорь в гавани Санторини, греческого острова вулканического происхождения.
Здесь судно наконец-то надолго остановилось. Николаидис со своими гостями каждый день перемещались с огромной, залитой солнцем палубы в рестораны и ночные клубы городка и обратно.
Вот как получилось, что киллеры заблаговременно отправились в Грецию и теперь только ждали моего сигнала. В тот день, выйдя в Женеве из банка «Клеман Ришлу и Ко», я достал мобильник и набрал номер. Когда трубку наконец взяли, я сказал человеку, сидевшему в тот момент в кафе на вершине утеса, всего три слова:
– Это ты, Рено?
– Вы ошиблись, – ответил он и отключился.
Жан Рено – так звали актера, который играл наемного убийцу в знаменитом фильме «Леон». Сидящий в кафе командир нашей группы знал: эти слова означали смертный приговор.
Он кивнул своему коллеге, который немедленно вызвал остальных трех агентов, затерявшихся среди туристов в других кафе. Все пятеро встретились у входа в ресторан «Растони». На вид ни дать ни взять богатые западноевропейские отпускники, собравшиеся пообедать. Две женщины из команды киллеров должны были стрелять первыми. И вот в этом-то и заключалась роковая ошибка. Но не будем забегать вперед.
Время близилось к двум часам дня, и в ресторане было полно народу. Мужчины (как вы помните, их было трое) поинтересовались у хозяина, есть ли свободный столик, а женщины прошли в бар, якобы поправить макияж, а на самом деле чтобы хорошенько разглядеть в зеркале обстановку и оценить позицию каждого человека, находившегося на тот момент в сводчатом зале.
Кристос и его свита – три албанца-телохранителя и стайка девиц, от чрезмерного общения с которыми его наверняка предостерегала в свое время мать, – сидели за столиком, устремив взоры в сторону гавани.
– Все готово, – обратилась одна из наших женщин к своим коллегам-мужчинам на сносном итальянском. Это прозвучало не как вопрос, а как констатация факта.
Те кивнули.
Женщины убрали помаду, раскрыли свои большие пляжные сумки, извлекли оттуда футляры видеокамер, а из них – стальные пистолеты «SIG P232» и оттянули затворы.