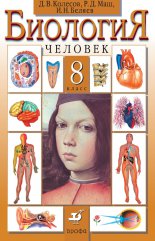Мир как воля и представление Шопенгауэр Артур
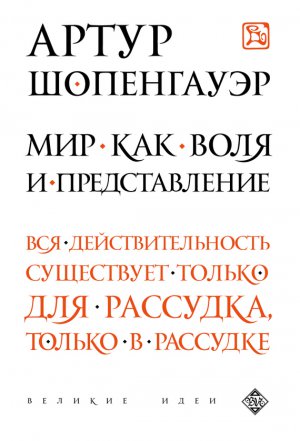
Оригинал-макет подготовлен издательским центром «НОУФАН» nofunpublishing.com
[email protected] +7 (903) 215-68-69
© ИП Сирота, текст, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
Артур Шопенгауэр (1788–1860)
Философ пессимизма
Артур Шопенгауэр – немецкий философ-иррационалист. Учение Шопенгауэра, основные положения которого изложены в труде «Мир как воля и представление» и других работах, часто называют «пессимистической философией». Считал человеческую жизнь бессмысленной, а существующий мир – «наихудшим из возможных миров».
1788 – Артур Шопенгауэр родился в прусском городе Данциге (ныне Гданьск, Польша). Его родители были образованными людьми, отец занимался торговлей, мать держала литературный салон.
1799 – Поступил в элитарную частную гимназию Рунге.
1805 – По настоянию отца начал работать в крупной гамбургской торговой компании.
1809 – После смерти отца и двухгодичной подготовки поступил на медицинский факультет Геттингенского университета. Позже перешел на философский факультет.
1812 – Йенский университет заочно присвоил Шопенгауэру звание доктора философии.
1819 – Шопенгауэр завершил и опубликовал свой главный труд «Мир как воля и представление». Об остальных сочинениях говорил, что написал их лишь для его популяризации.
1820 – Начал преподавать в Берлинском университете в звании доцента. В это же время там работал Гегель, между двумя философами возникли разногласия.
1831 – Шопенгауэр, спасаясь от холеры, покинул Берлин и поселился во Франкфурте-на-Майне.
1840-е – Стал членом одной из первых организаций, защищавшей права животных.
1860 – Философ скоропостижно скончался от пневмонии.
Предисловие
Центральным трудом своей жизни Артур Шопенгауэр считал работу «Мир как воля и представление», а все, написанное после, – лишь ее продолжением и разъяснением. Мир по Шопенгауэру – это «арена, усыпанная угольями», через которую человеку предстоит пройти. Движущая сила всего – воля к жизни, порождающая желания. Но даже если желания удовлетворены, человек не способен испытывать счастье, вместо этого его ждут пресыщение и скука, а затем новые желания и страдания.
В первой из четырех книг трактата, «О мире как представлении», философ рассуждает об объекте человеческого опыта и научных исследований, критикуя другие теории, в частности Канта. Основная мысль книги – «мир есть мое представление», то есть мир – такой, каким его видит человек, – существует лишь в его представлении.
Оригинальные идеи Шопенгауэра получили развитие в различных сферах общественной и научной мысли. Его взгляды повлияли на психоанализ и теорию эволюции, на различные направления философии и изучение структуры языка.
Первый перевод труда Шопенгауэра на русский язык был выполнен в 1903 году литературным критиком Юлием Исаевичем Айхенвальдом, который называл себя критиком-импрессионистом и пользовался большим уважением в литературных кругах. Айхенвальд написал несколько философских работ, его статьи и очерки регулярно печатались в популярных изданиях. Он много лет изучал труды Артура Шопенгауэра и в основном разделял его взгляды. Благодаря переводам Юлия Айхенвальда нам доступны все основные работы этого великого философа.
О мире как представлении
Предисловие к первому изданию[1]
Я хочу объяснить здесь, как следует читать эту книгу, для того чтобы она была возможно лучше понята. То, что она должна сообщить, заключается в одной единственной мысли. И тем не менее несмотря на все свои усилия я не мог найти для ее изложения более короткого пути, чем вся эта книга.
Я считаю эту мысль тем, что очень долго было предметом исканий под именем философии, что именно поэтому людьми исторически образованными было признано столь же невозможно найти, как и философский камень, хотя уже Плиний сказал им: «Сколь многое считают невозможным, пока оно не осуществится».
Смотря по тому, с какой из различных сторон рассматривать эту единую мысль, она оказывается и тем, что назвали метафизикой, и тем, что назвали этикой, и тем, что назвали эстетикой. И, конечно, она должна «быть всем этим», если только она действительно есть то, за что я ее выдаю.
Система мыслей должна постоянно иметь связь архитектоническую, то есть такую, где одна часть всегда поддерживает другую, но не поддерживается ею, где краеугольный камень поддерживает, наконец, всё части, сам не поддерживаемый ими, и где вершина поддерживается сама, не поддерживая ничего. Наоборот, одна-единственная мысль, как бы ни был значителен ее объем, должна сохранить совершенное единство. Если, тем не менее, в целях передачи она допускает разделение на части, то связь этих частей все-таки должна быть органической, то есть такой, где каждая часть настолько же поддерживает целое, насколько она сама поддерживается им, где ни одна не первая и не последняя, где вся мысль от каждой части выигрывает в ясности и даже самая малая часть не может быть вполне понята, если заранее не понято целое. Между тем книга должна иметь первую и последнюю строку, и потому в этом отношении она всегда остается очень непохожей на организм, как бы ни походило на него ее содержание: между формой и материей здесь, таким образом, будет противоречие.
Отсюда ясно, что при таких условиях для проникновения в изложенную мысль нет иного пути, как прочесть эту книгу два раза, и притом в первый раз с большим терпением, которое можно почерпнуть только из благосклонного доверия, что начало почти так же предполагает конец, как конец – начало, и каждая предыдущая часть почти так же предполагает последующую, как последующая – первую. Я говорю «почти», ибо вполне так дело не обстоит, но честно и добросовестно сделано все возможное для того, чтобы сначала изложить то, что менее всего объясняется лишь из последующего, как и вообще сделано все, что может способствовать предельной отчетливости и внятности. До известной степени это могло бы и удаться, если бы читатель во время чтения думал только о сказанном в каждом отдельном месте, а не думал (что очень естественно) и о возможных оттуда выводах, благодаря чему, кроме множества действительно существующих противоречий мнениям современности и, вероятно, самого читателя, приходят еще много других, предвзятых и воображаемых. В результате возникает страстное неодобрение там, где пока есть только неверное понимание, тем менее признаваемое, однако, в качестве такового, что обретенная с трудом ясность слога и точность выражения, хотя и не оставляют сомнений в непосредственном смысле сказанного, но не могут одновременно обозначить и его отношений ко всему остальному. Поэтому, как я уже сказал, первое чтение требует терпения, почерпнутого из доверия к тому, что во второй раз многое или всё покажется совершенно в ином свете. Кроме того, серьезная забота о полной и даже легкой понятности при очень трудном предмете должна служить извинением, если кое-где встретится повторение. Уже самый строй целого – органический, а не похожий на звенья цепи – заставлял иной раз касаться одного и того же места дважды. Именно этот строй, а также очень тесная взаимосвязь всех частей не позволили мне провести столь ценимое мною разделение на главы и параграфы и принудили меня ограничиться четырьмя главными разделами – как бы четырьмя точками зрения на одну мысль. Однако в каждой из этих четырех книг надо особенно остерегаться, чтобы из-за обсуждаемых по необходимости деталей не потерять из виду главной мысли, к которой они принадлежат, и последовательного хода всего изложения. Вот первое и, подобно следующим, неизбежное требование, предъявляемое неблагосклонному читателю (неблагосклонному к философу, потому что читатель сам – философ).
«Жизнь коротка, а истина влияет далеко и живет долго: будем говорить истину»
Второе требование состоит в том, чтобы до этой книги было прочитано введение к ней, хотя оно и не находится в ней самой, а появилось пятью годами раньше, под заглавием «О четверояком корне закона достаточного основания. Философский трактат». Без знакомства с этим введением и пропедевтикой[2] решительно невозможно правильно понять настоящее сочинение, и содержание названного трактата настолько предполагается здесь повсюду, как если бы он находился в самой книге. Впрочем, если бы он не появился раньше ее на несколько лет, он не открывал бы моего главного произведения в качестве вступления, а был бы органически введен в его первую книгу, которая теперь, поскольку в ней отсутствует сказанное в трактате, являет известное несовершенство уже этим пробелом и постоянно должна восполнять его ссылками на упомянутый трактат.
Однако списывать у самого себя или кропотливо пересказывать еще раз уже высказанное однажды мне было бы столь противно, что я предпочел этот путь несмотря даже на то, что теперь я мог бы лучше изложить содержание своего раннего трактата и очистить его от некоторых понятий, вытекающих из моего тогдашнего чрезмерного увлечения кантовской философией, каковы, например, категории, внешнее и внутреннее чувство и так далее. Впрочем, и там эти понятия находятся еще только потому, что я до тех пор, собственно, никогда не погружался глубоко в работу над ними. Поэтому они играют побочную роль и совсем не касаются главного предмета, так что исправление таких мест в упомянутом трактате совершится в мыслях читателя само собой благодаря знакомству с «Миром как волей и представлением». Но только в том случае, если из моего трактата «О четверояком корне» будет вполне понятно, что такое закон основания и что он означает, на что распространяется и на что не распространяется его сила; если будет понято, что этот закон не существует прежде всех вещей и что весь мир не является лишь вследствие и в силу него, словно его королларий[3], и что, наоборот, закон основания не более, чем форма, в которой всюду узнается постоянно обусловленный субъектом объект, какого бы рода он ни был, поскольку субъект служит познающим индивидом, – только в этом случае можно будет приступить к впервые испробованному здесь методу философствования, совершенно отличному от всех существовавших доселе.
То же самое отвращение к буквальному списыванию у самого себя или же пересказу прежнего другими и худшими словами – ибо лучшие я сам у себя предвосхитил – обусловило и другой пробел в первой книге этого произведения, а именно я опустил все то, что сказано в первой главе моего трактата «О зрении и цвете» и что иначе дословно было бы приведено здесь. Следовательно, здесь предполагается также знакомство и с этим прежним небольшим сочинением.
Наконец, третье требование к читателю могло бы даже безмолвно подразумеваться само собою, ибо это не что иное, как знакомство с самым важным явлением, какое только знает философия в течение двух тысячелетий и которое так близко к нам: я имею в виду главные произведения Канта[4]. Влияние, оказываемое ими на ум того, кто их действительно воспринимает, можно сравнить, как это уже и делали, со снятием катаракты у больного. И если продолжить это сравнение, то мой замысел надо охарактеризовать так: я хотел вручить очки тем, для кого названная операция была удачна, так что сама она составляет необходимое условие для пользования ими. Хотя поэтому исходным моим пунктом и служит всецело то, что высказал великий Кант, но именно серьезное изучение его творений позволило мне найти в них значительные ошибки, которые я должен был вычленить и отвергнуть для того, чтобы очищенное от них его учение могло служить мне основой и опорой во всей своей истине и красоте. Но чтобы не прерывать и не запутывать своего изложения частной полемикой против Канта, я вынес ее в специальное приложение[5]. И насколько, согласно сказанному, моя книга предполагает знакомство с философией Канта, настолько же требует она знакомства и с этим приложением. Поэтому можно было бы посоветовать прочесть сначала приложение, тем более что по своему содержанию оно тесно примыкает именно к первому отделу настоящего труда. С другой стороны, по самому существу предмета нельзя было избегнуть и того, чтобы и приложение подчас не ссылалось на само произведение. Отсюда следует только то, что и приложение, как и главная часть книги, должны быть прочитаны дважды.
Таким образом, философия Канта – единственная, основательное знакомство с которой предполагается в настоящем изложении. Но если кроме того читатель провел еще некоторое время в школе божественного Платона[6], то он тем лучше будет подготовлен и восприимчив к моей речи. А если он испытал еще благодетельное воздействие Вед[7], доступ к которым, открытый Упанишадами[8], является в моих глазах величайшим преимуществом, каким отмечено наше юное еще столетие[9] сравнительно с предыдущими, – ибо я убежден, что влияние санскритской литературы будет не менее глубоко, чем в XV веке было возрождение греческой, – если, говорю я, читатель сподобился еще посвящения в древнюю индийскую мудрость и чутко воспринял ее, то он наилучшим образом подготовлен слушать все то, что я поведаю ему. Для него оно не будет тогда звучать чуждо или враждебно, как для многих других; ибо если бы это не казалось слишком горделивым, я сказал бы, что каждое из отдельных и отрывочный изречений, составляющих Упанишады, можно вывести как следствие из излагаемой мною мысли, но не наоборот, – саму ее найти в них нельзя.
Однако большинство читателей уже потеряли терпение, и у них вырывается, наконец, упрек, от которого они так долго и с трудом удерживались: как смею я предлагать публике книгу, выдвигая условия и требования, из которых первые два высокомерны и нескромны, и это в то время, когда всеобщее богатство самобытных идей столь велико, что в одной Германии они благодаря книгопечатанию ежегодно становятся общим достоянием в количестве трех тысяч содержательных, оригинальных и совершенно незаменимых произведений и, сверх того, бесчисленных периодических журналов и даже ежедневных газет; в то время, когда нет ни малейшего недостатка в своеобразных и глубоких философах, когда, напротив, в одной Германии их одновременно процветает больше, чем могут предъявить несколько столетий подряд? Как же, спрашивает разгневанный читатель, исчерпать все это, если к каждой книге приступать с такой подготовкой?
«Я с глубокой серьезностью посылаю в мир свою книгу в уповании, что рано или поздно она дойдет до тех, кому единственно и предназначалась»
Я решительно ничего не могу возразить против этих упреков и надеюсь лишь на некоторую благодарность со стороны таких читателей за то, что я заблаговременно предупредил их не терять и часа над книгой, чтение которой не может быть плодотворно, если не выполнены выставленные требования, и которую поэтому лучше оставить совсем. К тому же, можно смело поручиться, что она вообще не понравилась бы им, что она всегда будет служить только для немногих людей и поэтому должна спокойно и скромно дожидаться тех немногих, чье необычное мышление найдет ее для себя желанной. Ибо даже оставляя в стороне подготовку и напряжение, которых она требует от своего читателя, кто же из образованных людей нашего времени, когда наука приблизилась к той прекрасной точке, где парадокс совершенно отождествляется с ложью, – кто же решится почти на каждой странице встречать мысли, прямо противоречащие тому, что он раз и навсегда признал окончательной истиной? И затем, как неприятно разочарованы были бы иные лица, не найдя здесь и речи о том, чего именно здесь, по их крайнему убеждению, и следовало бы искать, ибо образ их спекулятивного мышления совпадает с умозрением одного еще здравствующего великого философа[10], который написал поистине трогательные книги и имеет только одну маленькую слабость: все то, что он выучил и одобрил до пятнадцатого года своей жизни, он считает врожденными основными идеями человеческого духа. Кто бы вытерпел все это? И поэтому я опять советую отложить книгу в сторону.
Но я боюсь, что и этим не отделаюсь. Читатель, дошедший до предисловия, которое его отвергает, купил книгу за наличные деньги, и он спрашивает, как ему возместить убыток. Мое последнее средство защиты – это напомнить ему, что он властен, и не читая книги, сделать из нее то или другое употребление. Она, как и многие другие, может заполнить пустое место в его библиотеке, где, аккуратно переплетенная, несомненно будет иметь красивый вид. Или он может положить ее на туалетный или чайный столик своей ученой приятельницы. Или, наконец, – это самое лучшее, и я ему особенно это советую, – он может написать на нее рецензию.
А теперь, позволив себе шутку, для которой в нашей сплошь двусмысленной жизни едва ли может быть слишком серьезна какая бы то ни была страница, я с глубокой серьезностью посылаю в мир свою книгу в уповании, что рано или поздно она дойдет до тех, кому единственно и предназначалась. И я спокойно покоряюсь тому, что и ее в полной мере постигнет та же участь, которая в каждом познании, и тем более в самом важном, всегда выпадала на долю истины: ей суждено лишь краткое победное торжество между двумя долгими промежутками времени, когда ее отвергают как парадокс и когда ею пренебрегают как тривиальностью. И первый удел обыкновенно разделяет с ней ее зачинатель. Но жизнь коротка, а истина влияет далеко и живет долго: будем говорить истину.
Дрезден, август 1818 г.
Первое размышление: представление, подчиненное закону основания: объект опыта и науки
Расстанься с детством, друг, пробудись!
Жан-Жак Руссо
§ 1
«Мир есть мое представление»: вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только человек может возводить ее до рефлективно-абстрактного[11] сознания; и если он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю; что окружающий его мир существует лишь как представление, то есть исключительно по отношению к другому, к представляющему, каковым является сам человек. Если какая-нибудь истина может быть высказана a priori, то именно эта, ибо она – выражение той формы всякого возможного и мыслимого опыта, которая имеет более всеобщий характер, чем все другие, чем время, пространство и причинность: ведь все они уже предполагают ее, и если каждая из этих форм, в которых мы признали отдельные виды закона основания, имеет значение лишь для отдельного класса представлений, то, наоборот, распадение на объект и субъект служит общей формой для всех этих классов, той формой, в которой одной вообще только возможно и мыслимо всякое представление, какого бы рода оно ни было – абстрактное или интуитивное, чистое или эмпирическое. Итак, нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающейся в доказательстве, чем та, что всё существующее для познания, то есть весь этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, созерцаемым для созерцающего, короче говоря – представлением. Естественно, это относится и к настоящему, и ко всякому прошлому, и ко всякому будущему; относится и к самому отдаленному, и к близкому: ибо это распространяется на само время и пространство, в которых только и находятся все эти различия. Все, что принадлежит и может принадлежать миру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и существует только для субъекта. Мир есть представление.
Новизной эта истина не отличается. Она содержалась уже в скептических размышлениях, из которых исходил Декарт[12]. Но первым решительно высказал ее Беркли[13]: он приобрел этим бессмертную заслугу перед философией, хотя остальное в его учениях и несостоятельно. Первой ошибкой Канта было опущение этого тезиса. Наоборот, как рано эта основная истина была познана мудрецами Индии, сделавшись фундаментальным положением философии Вед, приписываемой Вьясе[14], – об этом свидетельствует У. Джонс[15] в последнем своем трактате «О философии азиатов»: «Основной догмат школы Веданта[16] состоял не в отрицании существования материи, то есть плотности, непроницаемости и протяженности (их отрицать было бы безумием), а в исправлении обычного понятия о ней и в утверждении, что она не существует независимо от умственного восприятия, что существование и воспринимаемость – понятия обратимые». Эти слова достаточно выражают совмещение эмпирической реальности[17] с трансцендентальной идеальностью[18].
Таким образом, в этой первой книге мы рассматриваем мир лишь с указанной стороны, лишь поскольку он есть представление. Но что такой взгляд, без ущерба для его правильности, все-таки односторонен и следовательно вызван какой-нибудь произвольной абстракцией, – это подсказывает каждому то внутреннее противодействие, с которым он принимает мир только за свое представление; с другой стороны, однако, он никогда не может избавиться от такого допущения. Но односторонность этого взгляда восполняет следующая книга с помощью истины, которая не столь непосредственно достоверна, как служащая здесь нашим исходным пунктом, и к которой могут привести только глубокое исследование, более тщательная абстракция, различение неодинакового и соединение тождественного, – с помощью истины, которая очень серьезна и у всякого должна вызывать если не страх, то раздумье, – истины, что и он также может и должен сказать: «Мир есть моя воля».
Но до тех пор, следовательно, в этой первой книге необходимо пристально рассмотреть ту сторону мира, из которой мы исходим, сторону познаваемости; соответственно этому мы должны без противодействия рассмотреть все существующие объекты, даже собственное тело (я это скоро поясню), только как представление, называя их всего лишь представлением. То, от чего мы здесь абстрагируемся, – позднее это, вероятно, станет несомненным для всех, – есть всегда только воля, которая одна составляет другую грань мира, ибо последний, с одной стороны, всецело есть представление, а с другой стороны, всецело есть воля. Реальность же, которая была бы ни тем и ни другим, а объектом в себе[19] (во что, к сожалению, благодаря Канту выродилась и его вещь в себе), – это вымышленная несуразность, и допущение ее представляет собою блуждающий огонек философии.
§ 2
То, что все познает и никем не познается, это – субъект. Он, следовательно, – носитель мира, общее и всегда предполагаемое условие всех явлений, всякого объекта: ибо только для субъекта существует все, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя, но лишь поскольку он познаёт, а не является объектом познания. Объектом, однако, является уже его тело, и оттого само оно, с этой точки зрения, называется нами представлением. Ибо тело – объект среди объектов и подчинено их законам, хотя оно – непосредственный объект[20]. Как и все объекты созерцания, оно пребывает в формах всякого познания, во времени и пространстве, благодаря которым существует множественность. Субъект же, познающее, никогда не познанное, не находится в этих формах: напротив, он сам всегда уже предполагается ими, и таким образом ему не свойственны ни множественность, ни ее противоположность – единство.
Мы никогда не познаем его, между тем как именно он познаёт, где только ни происходит познание.
«Реальность, которая была бы объектом в себе, – это вымышленная несуразность, и допущение ее представляет собою блуждающий огонек философии»
Итак, мир как представление – только в этом отношении мы его здесь и рассматриваем – имеет две существенные и неделимые половины. Первая из них – объект: его формой служат пространство и время, а через них – множественность. Другая же половина, субъект, лежит вне пространства и времени, ибо она вполне и нераздельно находится в каждом представляющем существе. Поэтому одно-единственное из них восполняет объектом мир как представление с той же целостностью, что и миллионы имеющихся таких существ; но если бы исчезло и его единственное существо, то не стало бы и мира как представления. Эти половины, таким образом, неразделимы даже для мысли, ибо каждая из них имеет значение и бытие только через другую и для другой, существует и исчезает вместе с нею. Они непосредственно ограничивают одна другую: где начинается объект, кончается субъект. Общность этой границы обнаруживается именно в том, что существенные и поэтому всеобщие формы всякого объекта, каковы время, пространство и причинность, мы можем находить и вполне познавать, и не познавая самого объекта, а исходя из одного субъекта, – то есть, говоря языком Канта, они a priori лежат в нашем сознании. Открытие этого составляет главную заслугу Канта, и притом очень большую. Я же сверх того утверждаю, что закон основания – общее выражение для всех этих a priori известных нам форм объекта, и потому все, познаваемое нами чисто a priori, и есть не что иное, как именно содержание этого закона и вытекающие из него следствия; таким образом, в нем выражено все наше a priori достоверного познания. В своем трактате о законе основания[21] я показал, как всякий объект подчиняется этому закону, то есть находится в неизбежном отношении к другим объектам как определяемый – с одной стороны, как определяющий – с другой; это идет так далеко, что все существование всех объектов, поскольку они – объекты, представления и ничего больше, вполне сводится к названному необходимому отношению их друг к другу, только в нем и состоит и потому совсем относительно; об этом скоро будет сказано подробнее. Я показал там далее, что соответственно классам, на которые по своей возможности распадаются объекты, это необходимое отношение, выражаемое законом основания в общем виде, проявляется в разных формах[22], чем опять подтверждается правильность разделения этих классов. Я постоянно предполагаю здесь, что все сказанное там известно читателю и усвоено им; иначе, если все это не было бы там сказано, оно непременно нашло бы свое место здесь.
§ 3
Главное различие между всеми нашими представлениями сводится к различию между интуитивным и абстрактным. Последнее образует только один класс представлений – понятия, а они на земле составляют достояние одного лишь человека, и его способность к ним, отличающая его от всех животных, искони называется разумом.
Эти абстрактные представления мы рассмотрим потом особо; сначала же будем говорить только об интуитивном представлении. Оно объемлет весь мир, или совокупность опыта вместе с условиями его возможности. Как было сказано, очень важным открытием Канта является то, что именно эти условия, эти формы опыта, то есть самое общее в восприятии его, всем его проявлениям одинаково свойственное, – время и пространство – сами по себе, независимо от своего содержания, могут быть предметом не только абстрактного мышления, но и непосредственного созерцания. И такое созерцание не есть полученный из опыта путем повторения образ фантазии, но оно настолько независимо от опыта, что, напротив, последний надо считать зависимым от него, ибо свойства пространства и времени, как их a priori