Москва купеческая Бурышкин Павел
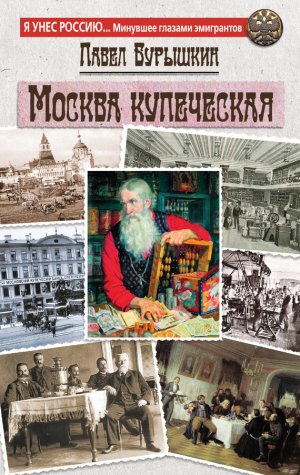
Фотоколлаж на переплете Ф. Барбышева
В фотоколлаже на переплете использована репродукция картины Б.М. Кустодиева «Купец, считающий деньги», 1918 г.
© Издание, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
От автора
Эта книга – прежде всего мои воспоминания. Мне пришлось быть свидетелем и участником жизни торгово-промышленной Москвы в самые «ответственные» годы, с 1912 по 1918-й. Свидетелем я был и ранее, в сущности говоря, с тех пор, как себя помню, а с 1904 года я уже мог систематически следить за московской общественной жизнью, исполняя как бы обязанности секретаря моего отца по общественным делам. Общественная деятельность меня интересовала с самых детских лет; можно сказать, я к ней готовился, внимательно прочитывая бумаги и документы, которые посылались моему отцу, а их было немало. Это мне помогло самому вступить в общественную жизнь подготовленным.
Выше я назвал годы войны и годы Февральской революции «ответственными». По отношению к представителям торгово-промышленной Москвы это не подлежит сомнению. Для них эти годы, в особенности период Февральской революции, были временем чрезвычайного оживления их общественной работы, и они несут несомненную ответственность за ход и исход событий. В силу этого мне казалось целесообразным выйти за рамки описания того, «что глаза мои видели». Чтобы по-настоящему понять, почему случилось так, а не иначе, нужно знать историю и ту атмосферу, в которой за последнее время складывалась жизнь торгово-промышленной Москвы. Нужно знать и ее «личный состав», чтобы оценить, почему те, а не другие оказались во главе движения. Обо всем этом никаких общих трудов пока нет. Зато очень много материалов. Даже за рубежом их более чем достаточно. Конечно, кое-чего не хватает, но все-таки в Париже, где имеются прекрасные русские книгохранилища, работать можно.
Думаю, что писать таковую историю мне, как говорится, сам Бог велел. Не знаю, кто бы теперь мог за эту работу взяться. Нас, «свидетелей истории», осталось немного, и все в больших годах. Мне 66 лет, а я один из самых молодых.
Должен прибавить также, что с молодых лет я мечтал написать историю московского купечества. Первый, кто мне посоветовал это сделать, – Ал. Апол. Мануйлов, мой учитель экономики. Советовал и А. А. Кизеветтер, с которым вместе готовили мы юбилейное издание по истории Нижегородской ярмарки. Я и начал готовиться: собирал материалы и по истории Москвы, и по истории русской торговли. По истории Москвы мне уже удалось собрать изрядную коллекцию, которая, как слышал, составляет базу музея города Москвы, находившегося одно время в помещении Английского клуба, на Тверской. В моей коллекции были весьма ценные вещи.
Из моих близких мне всегда советовала написать эту книгу моя дочь, почему я и посвящаю этот труд ей.
Введение
Сколько их? Куда их гонят?
И к чему весь этот шум?
Мельпомены труп хоронит
Наш московский толстосум.
Так приветствовал один из известных московских адвокатов создание Художественного театра. Незадачливый поэт оказался, правда, плохим пророком: Художественный театр Мельпомену не похоронил, муза сценического искусства, вероятно, считала его одним из лучших своих детищ, прославивших ее по всему свету, но не это беспокоило автора шутливой пародии. Он хотел высмеять то обстоятельство, что одним из создателей нового театра был «толстосум», московский купец. В самом деле, Константин Сергеевич Алексеев, по сцене Станиславский, принадлежал к одной из самых почтенных и самых культурных московских купеческих фамилий. Такое отношение «интеллигентских» кругов к людям купеческого происхождения и к купечеству вообще было характерным для Москвы дореволюционного времени. С одной стороны, Москва считалась купеческим городом, где представители торговли и промышленности занимали руководящие места, в частности в Московском городском общественном управлении, с другой стороны – во всех некупеческих слоях московского общества – и в дворянстве, и в чиновничестве, и в кругах интеллигенции, как правой, так и левой, – отношение к «толстосумам» было, в общем, малодружелюбным, насмешливым и немного свысока. Во всяком случае, «торгово-промышленники» отнюдь не пользовались тем значением и не имели того удельного веса, которые они должны были иметь благодаря своему руководящему участию в русской хозяйственной жизни и которыми пользовались их западные, европейские и особливо заокеанские коллеги в своих странах.
Это на вид парадоксальное явление станет совершенно понятным, если мы проследим историю русского народного хозяйства, ход русской торговли и развитие русской промышленности. Идея, вернее предрассудок, что Россия – страна чисто земледельческая, и только земледельческая, существовала до Первой мировой войны. Петр Великий своими мероприятиями в области создания фабричного производства свел Россию с ее естественного пути и искусственно изменил в ней структуру ее экономики. Если к этому прибавить, что, как это люди думали, занятие земледельческим трудом – близость к земле – способствует охранению здоровых начал в человеке, а «амбары» и фабрика пробуждают в людях самые дурные инстинкты, то станет ясно, какое зло причинил Российской земле великий преобразователь, сведя ее с ее исконного пути. Поэтому как «торгаши», так и «фабричные» не пользовались симпатией у населения, и это находило постоянное отражение в литературе. К этому надо прибавить, что в писаниях иностранных авторов о России российская действительность и, в частности, торговый быт постоянно изображались в весьма непривлекательных красках. Из описаний иностранных путешественников по Московии создалась легенда о какой-то «нарочитой бесчестности» русских людей торгового сословия. В России недавнего времени часто наблюдался обычай бранить все русское и преклоняться перед всем иностранным. И писателям, и свидетельствам западных соседей о России часто придавали слишком большое значение и принимали на веру то, что ее не заслуживало. Таким образом, обоснования недоброжелательного или пренебрежительного отношения к купеческому классу можно свести к трем моментам: во-первых, иностранцы создали легенду о том, что характерной особенностью торговых людей в России является их бесчестность и плутовство, во-вторых, русская литература, изображавшая лишь теневые стороны русского купечества, создавала ему характеристику «темного царства», и, наконец, существовали пережитки настроений русских «аграрников», продолжавших считать, что Россия должна оставаться страной земледельческой.
Можно еще указать на постоянный спор Москвы с Петербургом. Чиновный Петербург противопоставляли купеческой Москве. Но Петербург недолюбливал не только купеческую Москву. Он не любил и грибоедовскую Москву, и Москву «Войны и мира», и даже Москву славянофилов.
* * *
Иностранная легенда о русской бесчестности появилась весьма давно. Рассказывая о торговых людях Москвы, Герберштейн говорит, что они «ведут торговлю с величайшим лукавством и обманом. Покупая иностранные товары, они всегда понижают цену их наполовину и этим поставляют иностранных купцов в затруднение и недоумение, а некоторых доводят до отчаяния, но кто, зная их обычаи и любовь к проволочке, не теряет присутствия духа и умеет выждать время, тот сбывает свой товар без убытка. Иностранцам они все продают дороже, так что иная вещь стоит им самим 1 дукат, а они продают ее за 5, 10, даже за 20 дукатов, хотя случается, что и сами покупают у иностранцев за 10 или 15 флоринов какую-нибудь редкую вещь, которая не стоит и одного флорина. Если при сделке неосторожно обмолвиться, обещать что-нибудь, они в точности припомнят это и настойчиво будут требовать исполнения обещания, а сами очень редко исполняют, что обещают. Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть»[1].
Другой известный путешественник по Московии, Олеарий, примерно так же отзывается о нравах и обычаях московских купцов. «Я изумлялся, – пишет он, – видя, что московские купцы продавали по 3 экю аршин сукна, которое они сами покупали у англичан по 4 экю. Но мне сказывали, что им это очень выгодно, потому что, купив у англичан сукно в долг и продавая его за наличные деньги, хотя и дешевле своей цены, они обращают вырученные деньги на другие предприятия, которые не только покрывают потери, понесенные ими при продаже сукна, но и доставляют сверх того значительные барыши».
По словам Олеария, московские купцы высоко ставили в купце ловкость и изворотливость, говоря, что это дар Божий, без которого не следует и приниматься за торговлю. Один голландский купец, самым грубым образом обманувший многих из московских торговых людей, приобрел между ними такое уважение за свое искусство, что они, нисколько не обижаясь, просили его принять их к себе в товарищи, в надежде научиться его искусству.
Приводя все эти данные, Ключевский приходит к заключению, что «торговля московских купцов с иностранными носила на себе, в сильной степени, характер игры». При этом он делает ударение на слове «московских», отмечая, что тот же Герберштейн «выгодно отзывался о торговых обычаях жителей Пскова».
Точно так же и Костомаров, делая ссылку на те же два источника – Герберштейна и Олеария, утверждает, что иностранцы «описывают русских купцов большими плутами. Обычай запрашивать и торговаться был искони характеристикой русского торговца. Если вещь стоила рубль, купец непременно запросит за нее десять рублей, смотря по лицу, которое у него покупает… Божиться в торговле было нипочем, хотя божбам русских купцов никто не верил, ни из их соотечественников, ни из иностранцев, и даже замечали, что чем более русский купец божится, тем скорее обманывает. Подделка и обмен вещей были в обычае: часто русский наделял иностранца подкрашенными мехами, а иногда покупатель придет в лавку и начнет торговать вещь, купец запрашивает за нее большую цену; покупатель дает менее; купец как будто не слышит и уходит прочь, потом начинает мало-помалу сдаваться и уступает желанию покупателя; но в самом деле он ловко успеет обменить вещь, так что покупатель сам этого не замечает и берет не то, что торговал прежде. Подобные поступки не казались русскому предосудительными; он оправдывал себя пословицею: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал», – пословицею, которая, как видно, была до того в употреблении, что даже иностранцы затверживали ее».
Рисуя со слов иностранных авторов эту печальную картину нравов старого русского купечества, Костомаров, однако, отмечает, что не должно приписывать плутоватость русского торговца какой-нибудь народной порче. «Нет, – говорит он, – это было необходимое условие той степени образованности, на которой еще стояла Россия, и обстоятельств, сопровождавших развитие торговли. Торговля, как и всякая другая ветвь человеческой образованности, проходит различные положения. В первобытные времена она была соединена с разбоями и набегами. На низкой степени цивилизованного общества она неразлучна с коварством и обманом, и чем выше общество становится на пути нравственного и умственного образования, тем более и торговые отношения принимают характер честности». И в подтверждение своей оценки Костомаров справедливо указывает – к чему мы еще вернемся, – что сами иностранцы вовсе не были безгрешны в этом отношении и во всей Европе торговые нравы того времени (свидетельства Герберштейна и Олеария относятся к XVII веку) не стояли еще на достодолжной высоте.
Помимо названных выше авторов есть еще немало и других, которые так же сурово оценивают торговые нравы в Московии. Так, уже Барберино, побывавши в России в 1565 году, утверждает, что в меховой торговле русский действует недобросовестно: «Tingono zibellini ed altre pelli per farle parer piu belle»[2].
Нейгебауэр, бывший в Москве в Смутное время, повторяет слова Герберштейна: «Fallacissime et dolosissime mercantur»[3].
Также и Петрей, побывавший в Московии примерно в то же самое время и оставивший подробное описание и Московии, и событий времен Самозванца, говорит про московских купцов, что они «Thun gerne Unrecht»[4] и не держат ни данного слова, ни клятвы.
В этом же роде свидетельствуют и Рейтенфельс, и Кильбургер, трактат которого является одним из наиболее ценных источников для истории торговых сношений Московского государства. Впрочем, трактат его, написанный с несомненной целью способствовать развитию товарообмена Московского государства с его западными соседями, больше говорит о тех товарах, которые могут быть объектом торговли, чем о нравах и обычаях людей торгового сословия.
Зато Майерберг, приезжавший в Московию как посол Священно-Римской империи, ко двору царя Алексея Михайловича, в своем путевом журнале отмечает:
«Mercatores in contractibus semper fraudulent juramentis et obtationibus falciant»[5].
Нужно при этом заметить, что это в сущности почти все, что он говорит о русской торговле.
Можно еще привести одно позднейшее свидетельство. Это записки одного французского путешественника, который приезжал в Россию в конце царствования Екатерины II. Это некий Фортэн де Пиль, имя коего мало было известно в России, так как его записки были опубликованы без имени автора.
«Il n’y a chez les marchands russes aucune espce de bonne foi; il est vraiment plaisant d’essayer par soimme jusqu’o peut aller leur fourberie… la bonne foi, le vrais – le seul appui du commerce n’existe pas en Russie…»[6]
Со свидетельствами иностранцев небезынтересно сопоставить и русскую оценку. Вот что в петровские времена писал о купечестве Посошков:
«Купечество в ничтожность повергать не надобно, понеже без купечества ни каковое, не токмо великое, но ни малое царство стояти не может. Купечество и воинству товарищ, воинство воюет, а купечество помогает и всякие потребности им уготовляет»[7].
Говорит он и о купеческих нравах, но больше в порядке пожелания, что должно было бы быть. Косвенно это свидетельствует, что действительность оставляла желать лучшего:
«А еще бы в купечестве самая христианская правда уставилася, еже добрые товары за добрые бы и продавали, а средние за средние, а плохие за плохие и цену б брали по пристоинству товара прямую настоящую, по чему коему цена положена, а излишние цены ни у какого бы товара не то что взять, но и не припрашивали бы и ни стара, ни мала, ни неосмысленного не обманывали бы, но во всем поступали бы самою правдою, то благодать бы Божия воссияла бы на купечестве и благословение Божие почило бы на них, и торг бы их святой был».
Апогеем легенды о нарочитой бесчестности русского купечества нужно считать весьма нашумевшую в свое время книгу Макензи Уоллеса «Россия», появившуюся в конце семидесятых годов XIX столетия. Этот английский журналист, ближайший сотрудник газеты «Таймс», пробыл долгое время в России и в своих впечатлениях дает весьма мрачную картину российской действительности. Вот что пишет он о купеческом сословии:
«Двумя большими недостатками в характере русских купцов, как класса, согласно общему мнению, являются их невежество и бесчестность. Относительно первого разных мнений быть не может. Что же касается бесчестности, которая, как говорят, столь обычна у русского торгового класса, то здесь составить точное мнение трудно. В том, что происходит огромное количество бесчестных сделок, нет сомнения, но нужно считать, что в этом деле иностранец является излишне строгим и забывает, что торговля в России только выходит из примитивного состояния, в котором твердые цены и умеренный заработок были неизвестны».
Книга Макензи Уоллеса в свое время вызвала много шуму и немало протестов в России, но, несомненно, в течение ряда лет она была на Западе одним из главных источниковознакомления с тем, что происходит в России. Британская энциклопедия до сих пор считает этот труд классическим. Но, видимо, сам автор с течением времени отошел от своего прежнего мнения. В ежегоднике газеты «Таймс», посвященном России и вышедшем в конце Первой мировой войны, имеется вступительная статья того же Уоллеса, написанная совсем в других тонах. Да и весь этот справочник самой влиятельной английской газеты был посвящен вопросу, как утвердиться англичанам на русском рынке, после того как немцам, в силу войны, пришлось с ним расстаться.
Может показаться странным, почему я, невзирая на вышеприведенные «подлинные и убедительные свидетельства», называю утверждения иностранцев о нарочитой бесчестности русского купечества «легендой». Но я думаю, что картина, которую рисовали иностранные путешественники, не представляла фотографически отраженной действительности и, во всяком случае, была чрезвычайно односторонняя.
Нужно прежде всего сказать, что иностранцы никогда – и это справедливо и для начала XX столетия, и для наших дней – России не знали и не представляли себе ясно, что на Русской земле происходит. Даже в ту пору, когда никто еще не мыслил о железном занавесе, Россия для Запада была страной загадочной, полной тайны, которую всегда боялись и, в общем говоря, никогда не любили. Россию много раз «открывали», и когда англичане в поисках нового морского пути в Китай и Индию через северные страны высадились в 1553 году на берег, в устье Северной Двины, то они всерьез и взаправду думали, что открыли новую страну, вроде того как Колумб открыл Америку. Они и не подозревали, что эта новооткрытая Московия уже много сотен лет ведет оживленную торговлю со своими соседями и что в свое время Русь была гораздо культурнее западных стран. Великие князья киевские были в родстве со всеми правящими династиями Европы. Когда Ярослав Мудрый выдал одну из своих дочерей за короля Франции, то в сущности для нее это был «мезальянс» – и не только потому, что Генрих I был королем Парижа и Орлеана, а Рим устроил этот брак в расчете на большое приданое киевской княжны, а потому, что семья отца Анны Ярославны была гораздо культурнее семьи ее мужа. Молодая королева Франции была единственным грамотным человеком при французском дворе и могла подписывать хартии и дипломы «Anna Reina», в то время как ее царственный супруг ставил вместо подписи крестики. И, конечно, никто не знал, что это за таинственная страна, из которой она приехала.
Это незнание иностранцами России красной нитью проходит через всю иностранную литературу, посвященную описанию «путевых впечатлений». Совсем так же, как и теперь, каждый новый путешественник как бы начинает сначала, производит новые наблюдения, как будто раньше, до него, никто ничего не знал, и стремится постигнуть психологию загадочного и непонятного народа. Это было и в недавнее время, когда для Запада открылись и русская литература, и русские искусства; было и тогда, когда Россия была еще Московией. В силу всего этого к свидетельствам иностранцев нужно относиться с известной осторожностью. Да и не все иностранцы дают такую безотрадную картину нравов торгового сословия Московии. Характерно то, что англичане, торговые сношения коих с русскими в XVI и XVII веках были лучше других организованы и о которых сохранилось большое количество всякого рода мемуаров и воспоминаний, почти не говорят об «испорченности нравов», во всяком случае, не указывают на это как на причину, которая затрудняла бы развитие торговых сношений. Инна Любименко, давшая наиболее полную историю торговли России с Англией[8], упоминая о мошенничествах, к которым прибегали русские купцы, и об очень нелестных отзывах иностранцев об их «честности», не приводит ни одного свидетельства из английских источников, а ссылается лишь на Герберштейна, Олеария и Кильбургера.
Конечно, не все было вполне благополучно: еще много лет спустя, при заключении англо-русского торгового договора в 1734 году, мы находим некоторые статьи, в него включенные (XXII и XXIII), устанавливающие специальные меры борьбы с имевшими место злоупотреблениями: с уклонением от платежа хозяевам по обязательствам, подписанным их служащими, и с затруднением по взысканиям с должников, уехавших внутрь страны. Но и с английской стороны дело обстояло не лучше. В том диалоге, который вел в Москве посол Елизаветы I, Флетчер, с Борисом Годуновым, где речь шла о проделках английского агента Мерша, нападали русские, а англичане защищались, указывая, что Мерш действовал по внушению дьяка Щелкалова. Но Флетчеру был дан ответ, что Мерш вор ведомый и сказал ложные слова на государева дьяка Щелкалова[9].
Злоупотребления несомненно были, но они были с обеих сторон. «Русские купцы, – говорит Костомаров, – постоянно были во мраке относительно большей части того, чем торговали, страшились обмана, не доверяли, были обманываемы и, в свою очередь, обманывали». И если низкий уровень морали в торговых делах являлся следствием низкого культурного уровня страны, то это применимо не только к жителям «дикой» Московии.
Иностранцы смотрели на Россию как на страну, выгодную для них, преимущественно по ее невежеству, потому что русских можно было легко обманывать. Естественно, конечно, что и русские платили тою же монетою, но это никак не останавливало иностранцев от их чрезвычайного стремления проникнуть в Россию, и между ними шла ожесточенная борьба, чтобы помешать один другому. Когда «открывший» Московию Ричард Ченселлор приехал в Москву и вступил в переговоры о торговле англичан с Россией, голландская компания в Новгороде обратилась к царю с письмом, возводя на англичан разные клеветы и, между прочим, стараясь уверить царя, что это морские разбойники, которых следует задержать. Узнав об этом, англичане отчаялись даже возвратиться в отечество, но царь не поверил доносу, и дело уладилось.
Со своей стороны и англичане всякими путями старались помешать утверждению в Москве постороннего влияния: когда в 1582 году там находился посланец Ватикана Антонио Поссевино, иезуит, английские купцы, проживавшие в Москве, подали царю записку, в которой пытались доказать, что римский первосвященник – антихрист. Поссевино пришлось со своей стороны представить объяснения и защитить папу от еретических обвинений.
К такому же выводу, что «плутовство» при совершении торговых сделок не было специфической русской привилегией, приходит и новейший русский историк Кулишер. Вот что он пишет:
«Обе стороны применяют те же приемы, платят друг другу равной монетой. В этом отношении русские торговцы могли многому научиться у торговавших с ними иностранцев, и поэтому рассказ Олеария о том, что московские купцы упрашивали обманувшего их на большую сумму голландца, чтобы он вступил с ними в компанию, весьма ярко освещает картину нравов того времени. В особенности англичане приписывали своим конкурентам-голландцам все пороки, которые у них и заимствовали русские купцы. Русские хитры и алчны, как волки, писал в 1667 году англичанин Коллинс, и с тех пор, что начали вести торговлю с голландцами, еще более усовершенствовались в коварстве и обмане. Во всяком случае, этот характер торговли русских с иностранцами свидетельствует о том, что капиталистической ее отнюдь нельзя еще назвать… Она напоминает торговлю тех же англичан и голландцев в заокеанских странах»[10].
Нужно сделать еще несколько замечаний.
Если бы торговое сословие и в прежней Московии, и в недавней России – в годы пребывания в ней Макензи Уоллеса – было бы на самом деле сборищем плутов и мошенников, не имеющих ни чести, ни совести, то как объяснить те огромные успехи, которые сопровождали развитие русского народного хозяйства и поднятие производительных сил страны. Русская промышленность создавалась не казенными усилиями и, за редкими исключениями, не руками лиц дворянского сословия. Русские фабрики были построены и оборудованы русским купечеством. Промышленность в России вышла из торговли. Нельзя строить здоровое дело на нездоровом основании. И… результаты говорят сами за себя: торговое сословие было в своей массе здоровым, а не таким порочным, как его представляли легенды иностранных путешественников.
* * *
Такую же безотрадную картину купеческой бесчестности и плутоватости дает в общем и русская литература. Правда, не все крупные ее представители останавливались на изображении купеческого быта, но если это имело место, то почти всегда, до конца XIX столетия, плуты и мошенники, считавшие обман нормальным методом деловых отношений, угнетавшие своих близких и своих служащих и больше всего на свете любившие деньги. Положительных типов «деловых людей» почти что не было, да, к слову сказать, они и не удавались тем, кто пытался их описать. У некоторых авторов были лишь короткие замечания, иногда входившие в пословицу. Но было несколько и таких, которые свою славу составили изображением купеческой жизни и купеческого быта. Из таких первое место занимает А. Н. Островский.
Нет ни надобности, ни возможности дать здесь подробный и полный обзор тех произведений русской литературы, которые посвящены купеческому быту или содержат изображение его, и в частности жизни московского купечества. Но некоторые характерные примеры привести следует.
Одним из первых произведений, изображавших купеческую среду, была комедия Плавильщикова «Сиделец», где московский купец Харитон Авдулавин вместе со своими собратьями, другими московскими купцами, хочет обмануть и обобрать своего питомца, который у него служит сидельцем. Но вмешивается честный полицейский Добродетелев, и все кончается благополучно.
У Крылова есть басня, так и озаглавленная: «Купец». В ней речь идет о наставлениях, которые давал купец своему племяннику: «Торгуй по-моему, так будешь не внакладе» – и приводит пример, как нужно действовать: стараться сбыть гнилое сукно за хорошее английское. Но обманутым оказался сам купец, так как покупатель всучил ему фальшивую бумажку. В этой басне характерны заключительные строки:
- Обманут! Обманул купец: в том дива нет;
- Но если кто на свет
- Повыше лавок взглянет, —
- Увидит, что и там на ту же стать идет;
- Почти у всех во всем один расчет:
- Кого кто лучше подведет,
- И кто кого хитрей обманет.
У Гоголя о купцах говорится немного, но некоторые его характеристики вошли в поговорку. Тип положительный Гоголю, как и многим другим, не удался. Из всех женихов Агафьи Тихоновны, гостинодворец Алексей Дмитриевич Стариков – фигура самая бледная и ничего характерного собой не представляет.
Зато в «Ревизоре» фигуры купцов гораздо рельефнее, и не столько сами купцы, как те наименования, которые дает им городничий: «самоварники», «аршинники», «протобестии», «надувалы морские». Два первых термина не раз потом повторялись, как наиболее наглядные определения, что такое купцы.
Такие же короткие, запомнившиеся многим формулы найдем мы впоследствии и у Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:
- Купчине толстопузому! —
- Сказали братья Губины,
- Иван и Митродор…
Имеется и изображение внешнего облика купца:
- В синем кафтане – почтенный лабазник,
- Толстый, присадистый, красный, как медь,
- Едет подрядчик по линии в праздник,
- Едет работы свои посмотреть.
- Праздный народ расступается чинно…
- Пот отирает купчина с лица
- И говорит, подбоченясь картинно:
- «Ладно… нешто… молодца!.. молодца…»
В творчестве Островского пьесы из купеческого быта составляют самую крупную категорию: с них он начал, ими получил он известность, впоследствии славу, и почти до конца своих дней брал из этой среды темы для своих комедий.
Творчество Островского слишком хорошо известно русскому человеку, нет надобности на нем останавливаться, но нужно напомнить, что известностью и славой Островский обязан прежде всего своим двум ранним пьесам: «Свои люди – сочтёмся!» (1849) и «Гроза» (1859). В обеих этих пьесах купеческий быт изображен в необычайно неприглядном виде. Именно эти пьесы были замечены критикой, и прежде всего Добролюбовым, которому принадлежит заслуга обратить внимание читающей публики (не все его пьесы шли тогда в театре) и привлечь к нему внимание и сочувствие. На этом заслуги Добролюбова и кончаются. По содержанию его статьи далеко не беспристрастны и дают его намерениям и взглядам далеко не то истолкование, которое было у самого автора. Это применимо прежде всего к пьесам из купеческого быта. Вот как характеризует талантливый публицист это «темное царство»:
«Это – мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора. Гнилью и сыростью веет темная и низкая тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч света не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется это в сырости и смраде темницы, но иногда на минуту вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лиц человеческих, и наше сердце стесняется болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники, они сидят в летаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями. Они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положение, но тем не менее они чувствуют тяжесть, лежащую на них. Они не потеряли способности ощущать свою боль. Если безмолвно и неподвижно переносят боль, то это потому, что каждый крик, каждый вздох среди этого смрадного омута захватывает их горло, отдается колючей болью в груди, каждое движение тела, обремененного цепями, грозит им увеличением тяжести и мучительного неудобства их положения. И неоткуда ждать им отрады, негде искать облегчения. Над ними буйно и безотчетно владычествует бессмысленное самодурство в лице разных торцовых, большевых, брусковых, уланбековых и пр., не признающее никаких разумных прав и требований. Только его дикие безобразные окрики нарушают эту мрачную тишину, производят пугливую суматоху на этом печальном кладбище человеческой мысли и воли».
Появление «Грозы» вызвало новую статью Добролюбова, помещенную в «Современнике». Эта статья уже не проникнута таким безнадежным пессимизмом и озаглавлена «Луч света в темном царстве». Автор видит в поступке Катерины протест против «кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен за ее живую душу…
Просто по человечеству, нам отрадно видеть избавление Катерины – хоть через смерть, коли нельзя иначе… Жить в «темном царстве» хуже смерти».
Статьи Добролюбова произвели чрезвычайно сильное впечатление на читающую публику, и в течение ряда лет данная им характеристика «темного царства» была общепризнанной в либеральных кругах тогдашней общественности, но среди критиков скоро появилось иное направление, которое рассматривало творчество Островского под другим углом зрения. Известный критик Аполлон Григорьев в своих статьях «После “Грозы”» указал на всю фальшь приемов либеральной критики, сказавшуюся в том, что она усмотрела юмор сатирика там, где в действительности была только одна наивная правда народного поэта. «Свои люди – сочтёмся!» – прежде всего картина общества, отражение целого мира, в котором проглядывают многоразличные органические начала, а не одно самодурство. Притом человеческое сожаление и сочувствие остаются, по ходу драмы, за самодуром, а не за протестантом. Особенно это применимо к комедии «Не в свои сани не садись», относительно которой не может быть сомнения, то сочувствие автора целиком находится на стороне как раз представителей «темного царства», Русакова и Вани Бородкина, тогда как «господа», Вихорев и Баранчевский, обрисованы такими красками, что никоим образом не могли пользоваться симпатией не только автора, но даже самого непредубежденного зрителя.
Это мнение, что Островский прежде всего бытописатель, беспристрастно отражающий в своих творениях действительность так, как он ее видит и понимает, и отмечающий пороки и недостатки у всех групп общества, а не обличитель-сатирик, рисующий лишь «темное царство» – русскую купеческую среду, постепенно стало господствующим среди русской критики и истории русской литературы. Но и «добролюбовские» толкования еще долго держались. Еще в 1894 году литературный критик Ц. П. Балталон в статье, помещенной в журнале «Артист», разбирая последние пьесы Островского, дал своей статье заглавие «Тронулось ли вперед темное царство?». Небезынтересно отметить, что наличие в пьесах Островского большого числа плутов и мошенников ставится в связь с увлечением молодого писателя западничеством, которое якобы доходило у него до странных, почти невероятных размеров, как будто бы ему был противен вид самого Кремля с соборами. Он изумил однажды Филиппова, сказав: «Для чего тут настроили эти пагоды?»
«Этой подчиненностью Островского господствующему направлению объясняется между прочим, – пишет Барсуков, – и то, что первая его крупная пьеса «Свои люди – сочтёмся!» состоит из целого ряда темных, отталкивающих, чисто отрицательных типов русского народа… Любопытно, что впоследствии западники, доказывая отрицательные качества русского народа, ссылались на ту же, под их влиянием созданную, пьесу Островского и на избранные под гнетом их направления типы. Раз как-то на вечере у М. С. Щепкина один из ученых-западников, поддержанный единомышленниками, проповедовал, что народная Русь и состоит исключительно только из таких типов, что людей иного закала в ней нет и не может быть, все – мошенники. «Ну прощайте же, мошенники», – сказал, прощаясь после долгих споров, Пров Садовский».
Как бы то ни было, но сам Островский отнюдь не считал свое творчество и, в частности «Свои люди – сочтёмся!», какой-то обличительной сатирой купеческих нравов, которая была бы оскорбительна для лиц торгового сословия.
«Труд мой, еще не оконченный, – писал он В. И. Назимову, – возбудил одинаковое сочувствие и производил самые отрадные впечатления во всех слоях московского общества, больше всего между купечеством. Лучшие купеческие фамилии единодушно, гласно изъявляли желание видеть мою комедию в печати и на сцене. Я сам несколько раз читал эту комедию перед многочисленным обществом, состоящим исключительно из московских купцов, и благодаря русской правдолюбивой натуре они не только не оскорблялись этим произведением, но в самых обязательных выражениях изъявляли мне свою признательность за верное воспроизведение современных недостатков и пороков их сословия и горячо высказывали необходимость дельного и правильного обличения этих пороков (в особенности превратного воспитания) на пользу своего круга. В глазах этих почтенных людей, правда и польза, коей они от нее научились, исключила всякую мысль об оскорблении мелкого самолюбия».
Не подлежит, разумеется, сомнению, что Островский искренне стремился дать лишь верное изображение обрисовываемой им среды и отметить «отдельные» недостатки и пороки, чтобы способствовать их искоренению. Вероятно, не его это вина, а вина Добролюбова, что на основании сценических изображений в пьесах автора «Грозы» у широкой публики и в особенности в интеллигентских, народнических, антипромышленных кругах создалось впечатление, что все купечество есть царство «кит китычей», подлинное темное царство. Конечно, в этом царстве иногда встречалась Кабаниха, но встречались в другом кругу и «салтычихи», и какие были хуже – неизвестно.
Рядом с Островским нужно поставить И. Ф. Горбунова, который изображал быт купечества примерно в тех же самых красках. Он был актером Александринского театра в Петербурге, но славился главным образом как неподражаемый рассказчик. В его репертуаре сцены из купеческого быта занимали одно из главных мест. Еще больше ему удавался «генерал Дитятин». Перед слушателями проходил ряд типов из Замоскворечья, изображавшихся не столько в непривлекательном, сколько в смешном виде. Эти сценки Горбунов писал сам; не все сохранились, но многие напечатаны; в чтении они большого впечатления не производят. У Горбунова были и более крупные вещи. Он написал пьесу «Самодур», где превзошел Островского «обличением» купеческой бесчестности и преступности. Но, как и другие литературные произведения Горбунова, они особого успеха не имели.
Салтыков-Щедрин тоже отдал дань общему течению и в своих изображениях темных и отрицательных сторон современной ему русской жизни не забыл и представителей купечества. Нужно, однако, сказать, что люди торгового сословия занимают незначительное место в длинной галерее нарисованных им типов.
«Прежде как мы торговали, – рассказывает купец Ижбурдин, – привезет, бывало, тебе мужичок кулей десяток, ну и свалишь, а за деньгами приходи, мол, через неделю. А придет он через неделю, и знать его не знаю, ведать не ведаю, кто ты таков. Уйдет бедняга, и управы никакой на тебя нет, потому что и градоначальник, и вся подьячая братья твою руку тянет. Таким-то родом и наживали капиталы, а под старость грехи перед Богом замаливали».
Можно еще добавить, что наряду с традиционным, так сказать, изображением плутовства и мошенничества Щедрин в таких же ярких красках рисует и те условия, в которых происходила торговля, и что проделывало с купцами полицейское начальство.
Мельников-Печерский попытался несколько иначе подойти к теме о русском купечестве. В своей хронике «В лесах» и «На горах» он немало места уделяет описанию купеческого быта в Нижнем Новгороде и его ближайших окрестностях. Нижегородская ярмарка дает ему повод говорить и о купечестве других местностей России, в частности о московском. Но почти всегда это «сектанты», «люди старой веры», противники «никоновской церкви». Мельников был глубоким знатоком русского раскола, вопросы веры и культа составляют главное содержание его хроник. Сильно заняты этими вопросами и герои автора «В лесах» и «На горах», но это не мешает им в деловой их жизни вести торговлю, построив ее на обмане и на мошенничестве. И Смолокуров, и Лохматый недалеко ушли от героев Островского. Но наряду с ними Мельников пытается дать тип нового, просвещенного купца, который ведет свое дело уже на совершенно других началах.
Самые яркие страницы посвящены описанию хлыстовства, где под именем Алымовой выведена знаменитая Татаринова. В глазах окружающих хлыстовство есть просто-напросто скрытое масонство, и приверженцев Алымовой так и называют «фармазонами». Но это все либо помещики, либо люди из простого народа. Представителей купечества там нет.
В хронике «В лесах» есть одно место, которое свидетельствует, что Мельников-Печерский правильно понял значение роли отдельных представителей торгового класса в начавшемся развитии производительных сил России.
В беседе с главным героем, Потапом Максимычем Чапуриным, будущий его зять Василий Борисыч рассказывает ему, как начиналось текстильное дело в Костромской губернии:
«А как дело-то начиналось. Выискался смышленый человек с хорошим достатком, нашего согласия был, по-древнему благочестивый. Коноваловым прозывался. Завел небольшое ткацкое заведение, с легкой его руки дело пошло, да пошло. И разбогател народ, и живет теперь лучше здешнего. Да мало ли таких местов по России. А везде доброе дело одним зачиналось. Побольше бы Коноваловых у нас было, хорошо бы народу жилось»[11].
По ходу изложения несомненно, что симпатия автора на стороне рассказчика.
Этот почти единственный пример в русской литературе, когда писатель из интеллигентов высказывается в пользу осуждавшейся всеми «частной инициативы».
В ряду бытописателей второй половины XIX столетия Боборыкин занимает одно из главных мест. Этот необычайно плодовитый писатель оставил большое число романов, повестей и рассказов, обрисовывавших различные группы современного ему общества. Немало страниц посвятил он изображению жизни русского купечества, и в частности московского. Про Боборыкина в свое время говорили, что он с необычайной точностью и верностью дает картину окружавшей его действительности, а героев своих романов срисовывает с живых, главным образом знакомых ему, людей. Известный французский позитивист русского происхождения Г. Н. Вырубов говорит в своих воспоминаниях, что о себе в своих мемуарах ему много говорить не приходится, так как его друг П. Д. Боборыкин очень верно изобразил его в одном из своих романов. И когда выходила новая вещь Боборыкина, всегда начинали ее разбор с того, что старались определить, кто в ней изображен.
Наиболее значительным творением Боборыкина, посвященным жизни купеческой Москвы, является написанный в начале 80-х годов XIX роман «Китай-город». Русская текстильная промышленность в те годы, после турецкой войны, переживала эпоху подъема и развития. Старые предприятия работали чрезвычайно успешно, увеличивая свои обороты. Возникало немало новых фирм. Этот период делового оживления и описывает автор «Китай-города». Боборыкина давно забыли, а молодые его и не читали, и приходится в немногих словах напомнить содержание этого романа.
Китай-город – это торговый центр Москвы, квартал, примыкавший к Красной площади и Кремлю. На трех его улицах, Никольской, Ильинке и Варварке, с переулками Юшковым и Черкасским, в Теплых рядах, на Чижевском подворье, были сосредоточены почти все фабричные конторы и амбары оптовых предприятий. Это был московский Сити.
Лейтмотив романа: купцы захватили в свои руки всю Москву. Не только вся деловая жизнь руководится ими, они не только хозяйничают в городском управлении, но пробираются и в науку, и в искусство. Вот это последнее обстоятельство особенно не нравится автору. Описывая магистерский диспут в университете, на котором присутствует один из его героев, он так характеризует происходящее:
«Магистрант – из купцов. Вот и подите. Дворяне, культурные люди, люди расы, с другим содержанием мозга, – и не могут стряхнуть с себя презренной инертности, а тут тятенька торговал рыбой или «пунцовым» товаром каким-нибудь, а сынок пишет монографию о средневековых цехах или об учении Гуго Гроция».
Надо сказать, впрочем, что мнение, согласно коему считалось, что занятие отвлеченными науками – не купеческое дело, долго держалось в России. Недаром Константин Аксаков подчеркивал в шуточном стихотворении:
- В тарантасе, в телеге ли,
- Еду ночью из Брянска я,
- Все о нем, все о Гегеле,
- Моя дума дворянская.
Главный герой романа Андрей Палтусов – барин, который пытается войти в деловой мир и создать собственное дело. Это ему нужно не только для заработка, но и как выполнение своего рода миссии – противопоставить дворянина торжествующему по всей линии купцу и приготовиться к будущему представительству, которое могут тоже захватить купцы. Для выполнения своей миссии он входит в общение со многими представителями и представительницами купеческой Москвы. Он имеет большой успех, особенно у последних, но миссия явно не удается, так как он попадает в тюрьму «за растрату вверенного ему имущества». Впрочем, все кончается благополучно, так как он женится на богатой купчихе.
Среда, в которой происходит действие, – крупная торговля и промышленность «миллионщицы». Быт и, в частности, особняки описаны фотографически точно. Описан и большой купеческий бал, и купеческие похороны, и концерт в Благородном собрании, и бенефис в Малом театре. Проходит много действующих лиц. «Самодуров», как у Островского, нет, зато почти все – чудаки и оригиналы. Трудно понять, как выведенные Боборыкиным персонажи могли руководить большими делами. Да и сам автор говорит о них тоном барского презрения. Исключение составляет главная героиня, сама управляющая двумя фабриками, Станицына. Она была срисована с известной московской общественной деятельницы В. А. Морозовой, урожденной Хлудовой.
Кроме «Китай-города» у Боборыкина не раз в романах повторялось описание купеческой Москвы. Каждый год в январской книжке одного из толстых журналов – «Вестника Европы» или «Русской мысли» – начиналось печатание его новой вещи. Постепенно манера изображения стала более беспристрастной, нужно бы сказать менее «барственной», но портретный характер для главных героев – и особенно героинь – сохранился.
Такой же портретный характер носили и две пьесы, о которых весьма много говорили в начале ХХ столетия. Шли они на императорской сцене, в Малом театре, в Москве и, во всяком случае, одна из них – в Александринском театре Петербурга. Пьесы эти – «Джентльмен» кн. Сумбатова-Южина и «Цена жизни» Вл. Немировича-Данченко.
«Джентльмен» был списан с Мих. Абрам. Морозова. Выведен он был в карикатурном виде, и слово «джентльмен» взято не как характеристика, а как насмешка.
В Малом театре шла она с исключительно блестящим составом, смотрелась легко и нравилась интеллигентской публике, которая была не прочь посмеяться над «купцами». Главного героя играл Рыбаков и удивил зрителей своим сходством с оригиналом.
«Цена жизни» шла в Москве и в Петербурге. Центральная женская роль весьма удалась автору. В Москве ее играла Ермолова, в Петербурге – Савина. Как всегда, театралы обоих городов спорили, кто лучше. Нужно сказать, что каждая в своем роде играла с присущей ей силой и блеском и имела шумный успех.
Роль эта не носила «портретного» характера, но в пьесе были выведены Владимир Соловьев и Маргарита Кирилловна Морозова, последняя довольно карикатурно. Мне еще придется вернуться к той роли, которую сыграла Морозова в развитии философской мысли в Москве. Можно лишь пожалеть, что и Немирович-Данченко отдал дань прежнему шаблону: занятие философией не купеческого ума дело.
А. П. Чехов сравнительно мало уделил внимания купеческому быту, но у него имеются необычайно характерные для его времени вещи. Как известно, он сам происходил из этой среды, но о детстве у него были весьма печальные воспоминания. Он скоро стал настоящим русским интеллигентом, и ничего «купеческого» в нем не осталось. Для тех немногих рассказов из жизни купечества, которые он написал, ему приходилось специально документироваться. У него был двоюродный брат, Михаил Михайлович, который служил доверенным в оптовом галантерейном деле Ивана Егоровича Гаврилова. К нему и обращался Антон Павлович, собирая сведения о московской купеческой жизни. Этот гавриловский амбар и один из их служащих, окрестивший водку с красной головкой «помощником начальника станции», описаны Чеховым в повести «Три года». Гавриловскую семью я знал с раннего детства и хорошо помню, как там с гордостью говорили: «Чехов наш амбар описал в своем рассказе».
В декабрьской книжке «Русской мысли» за 1894 год был напечатан рассказ Чехова «Случай из практики». Это, несомненно, один из самых замечательных рассказов Чехова, но вместе с тем и из самых характерных примеров отношения интеллигенции того времени к промышленности, к фабрике и к капитализму. Молодой врач попадает на фабрику к больной девушке, дочери хозяйки, которая живет на фабрике вместе с матерью и гувернанткой. Фабрика производит на доктора сильное, ужасающее впечатление.
«Тут недоразумение, конечно… – думал он, глядя на багровые окна. – Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».
Этот рассказ оказал огромное влияние на читающую публику, чего нельзя сказать о повести «Три года», «Бабье царство» и о других небольших рассказах.
Мне остается добавить несколько слов о влиянии творений Максима Горького, вернее – о влиянии одного из его ранних произведений, романа «Фома Гордеев». Это не единственная его вещь, где изображается быт русского купечества. Но другие романы – «Васса Железнова», «Дело Артамоновых» – появились значительно позже, и, следовательно, их влияние не успело сказаться на возникновении того презрительного и недоброжелательного отношения к купечеству как к особой общественной группе. Да разбирать их, может быть, было бы и излишне. Уже в «Фоме Гордееве» Горький выявился полностью как «пролетарский» писатель, как правоверный марксист, идеолог классовой борьбы и противопоставленник «капиталистов» и пролетариата. Его подход к теме, остающийся до сих пор признаваемым в СССР как образец «пролетарской» литературы, конечно, весьма разнится от его предшественников.
«Фома Гордеев», одна из первых крупных вещей Горького, появился в самых последних годах прошлого века. Это повесть о «нетипическом купце», как ее называет сам автор. Нетипический он потому, что вступил в борьбу со своей средой, протестует против того, как она ведет свою жизнь и работу, обличает своих собратьев за их пороки и преступления. «Не жизнь вы сделали, а тюрьму; не порядок вы устроили – цепи на человека выковали… Душегубы вы», – восклицает он.
Но истинными героями повести являются старшие представители купечества. Все они хищники, самодуры и часто преступники. Игнат Гордеев, отец Фомы, живет только ради «дела» и денег. «Дело – зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет. Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать… Это был человек высокий, широкоплечий, большие глаза смотрели из-под темных бровей смело и умно… Во всей его мощной фигуре было много здоровья и грубой красоты. От его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы».
Совсем другим изображен его друг Яков Маякин. Он низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой. Он символизирует купечество, которое хочет сосредоточить в своих руках и хозяйственную и политическую власть. «Нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни… Мы жизнь строим…»
Наконец, третьим представителем старшего поколения является Ананий Щуров. Это человек старой закалки, старинной складки. Ненавидя новшества, он враг машин. Он ратует за старину, потому что он ей обязан своими миллионами, а в глазах Щурова – деньги единственная ценность в мире.
Всех их объединяет стремление к наживе, нежелание останавливаться перед чем бы то ни было, даже перед преступлением, для достижения своих целей… Изображены они с необычайной яркостью, огромный талант Горького проявился в этой вещи в полной силе, и этот роман произвел сильное впечатление. Но нужно сказать, что уже тогда – полвека тому назад – Горький стал рассматриваться не только и не столько как писатель, как творец художественной прозы, а как проповедник марксистской идеологии, можно сказать, как художественное воплощение марксистской пропаганды. А с начала века уже родилась против марксизма борьба, родилась уже тяга «от марксизма к идеализму». Поэтому круг тех читателей, на которых мог Горький влиять, был несколько уже; да, собственно говоря, и влиять на них было не нужно: это была та часть русского общества, которая уже прияла марксистскую идеологию. Наконец, непопулярность торгового, точнее торгово-промышленного, класса в России имела причины и более глубокого характера. В России необычайно долго держалось мнение, что это страна земледельческая, что фабрично-заводское производство ей не нужно, что русская индустрия никогда не сможет успешно конкурировать с западноевропейской и, наконец, что фабрика и весь уклад ее деятельности растлевающим образом влияет на население.
Теперь, когда жизнь так далеко ушла вперед, трудно себе даже представить, что можно было всерьез спорить против развития производительных сил страны, против ее индустриализации. Но в свое время это было так, и что особенно характерно, как это уже указывалось, в таковом утверждении сходились два полюса русской общественности – крайне правые аграрии и крайне левые народники. Все эти споры начались в александровское время на почве обсуждения вопросов тарифной политики. В эту эпоху таможенный тариф пересматривался несколько раз, причем запретительная система сменялась более либеральной, а затем восстанавливалась вновь.
В мою задачу не входит рассмотрение истории русской таможенной политики, но небезынтересно воспроизвести некоторые аргументы русских фритредеров того времени, органом коих был еженедельник «Дух журналов», главной целью которого была борьба и против запретительной системы, и полемика с протекционистами, а прежде всего с Мордвиновым, автором недавно вышедшей книги, посвященной защите высоких таможенных ставок.
Вот некоторые из аргументов из отдельных статей «Духа журналов»:
«Хлебопашество, скотоводство и овцеводство – вот наши промыслы. Они единственно могут доставить нам изобилие. Изобилие всегда процветает в таком государстве, где земледелие в чести…» – «Пусть двести фабрикантов ошибутся в своих монополистических расчетах, от этого не омрачится солнце, освещающее Россию…»[12]
В другой статье говорится:
«Зайди в избу мужика: тепло обуто, одето, хотя и в лаптях. Посмотрите же на фабричного: бледно, бедно, босо, наго, холодно и голодно… Может ли такой человек быть счастлив и сохранить нравственность? И поневоле предается разврату и злодеянию. Кто из стариков московских не помнит, что у Каменного моста (там была крупная суконная фабрика, основанная еще при Петре) ни днем, ни ночью прохода не было, но Екатерина истребила гнездо сие, истребила и злодеяния».
И наконец, психологическая характеристика крестьянина и фабричного:
«Земледелец зарыл в землю зерно, но прозябания его и оплодотворения ожидает свыше. Земледельческий народ есть самый набожный, а также и самый миролюбивый, крепкий и благонравный. Он вместе и самый покорный царю. Он привязан к родной земле своей, которая его возрастила. Мастеровой ничего не ожидает от Бога, а все от машин и, ежели бы Господь не насылал на него болезней, то он едва ли бы когда вспомнил о Боге. Сообщество нескольких сот или тысяч мастеровых, и живущих, и работающих всегда вместе, не имеющее никакой собственности, питает в них дух буйства и мятежа. Частые мятежи в английских мануфактурных городах служат тому доказательством…»
Фритредерская литература того времени была гораздо богаче, разнообразнее протекционистской и производила сильное впечатление на читающую публику. Можно отметить некоторые ее особенности. Прежде всего защита свободной торговли совпадала с защитой крепостного права. Это не было случайным явлением. Земельное дворянство, не имевшее фабрик, относилось враждебно к запретительной системе и прославляло выгоды земледелия, противопоставляя «благополучие крепостного мужика» тяжелой жизни пролетария Западной Европы. Борьба за сохранение крепостного права велась как бы в интересах самого мужика, как бы в целях гарантии его от обезземеливания.
Далее свобода торговли защищала, во имя охранения России, от пролетаризации большей части ее населения. Известный прусский путешественник, странствовавший по России за казенный счет, барон Гакстгаузен в своей весьма нашумевшей книге «Исследование о внутреннем состоянии России»[13] видит громадное преимущество России в том, что у нее нет пролетариата. Его приводят в восторг община и кустарное производство, сохранение и развитие коих гарантирует Россию от социальных потрясений и социальной революции. А таковая угрожает Западной Европе, благодаря враждебности пролетариата существующему хозяйственному режиму. Поэтому для охраны существующего строя нужно было установть свободную торговлю, поощрять кустарей и не допускать развития фабричного промысла. Эту точку зрения в общем восприняли и государственные люди николаевского времени, в частности Канкрин и Киселев.
Такую же преданность защите кустарной – иногда говорилось сельской – промышленности проявляли и славянофилы. Они не были врагами насаждения промышленности в России, но предпочитали крупной фабрике кустарную избу, находя, что она ближе подходит к условиям русского быта. Само собой разумеется, западники держались иного мнения и были сторонниками индустриализации России. Например, Огарев много писал о благодетельности фабрик для сельского населения. Правда, у него в имении была писчебумажная фабрика.
Во второй половине XIX века борьба против фабрично-заводской промышленности, можно сказать, усилилась, захватив новые группы в обществе, что видно по статьям, печатавшимся в толстых журналах. А среди экономистов продолжала господствовать тенденция не только, что Россия страна земледельческая, но что она и не может стать страной промышленной. Так это и говорится, например, в известной книге Тенгоборского:
«Так как Россия не в состоянии сравниться или превзойти другие страны на поприще мануфактурной промышленности и не имеет всех условий, необходимых для того, чтобы сделаться страною мануфактурной, то мы должны преимущественно стараться о распространении тех отраслей промышленности, которые наиболее соответствуют положению нашей страны, в высшей степени земледельческой, и наилучше могут быть соединены с нашей сельской промышленностью. Вообще должно поощрять те отрасли промышленности, для которых наша почва производит в изобилии сырой материал»[14]






