Странник, пришедший издалека Ахманов Михаил
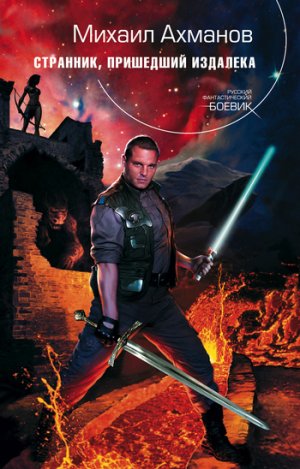
Часть I
РУБИН И АМЕТИСТ
Глава 1
ДОКТОР
Вселенная была гигантской арфой с туго натянутыми струнами. Мириады и мириады нитей паутинной толщины тянулись из Ничто в Никуда, из Реальности в Мир Снов, изгибаясь, перекручиваясь, пересекаясь, образуя запутанные клубки или уходя в безмерную даль извилистым потоком, в котором каждая струйка имела свой цвет. Между струнами титанического инструмента серело нечто мглистое, неопределенное, туманное – будто темный фон, на котором была подвешена Вселенская Арфа. Он не знал природы этой серой ледяной субстанции, называя ее Тем Местом – местом, где не было струн. Не знал, но чувствовал, что туманная область холода и безвременья столь же необходима в мировом распорядке, как необходимы яркие цветные нити, потоки света, пестрые клубки-водовороты и сияющие радужные водопады. Во всяком случае, стоило коснуться любой из струн – коснуться не рукой, а, разумеется, мыслью, как серая мгла отзывалась чуть ощутимым трепетом. Она не становилась теплее или ярче, не испускала ни запахов, ни звуков, однако он улавливал незримое содрогание чудовищного занавеса – или, быть может, стены, поддерживавшей Вселенную-Арфу. Он не любил погружаться в То Место; гораздо приятней было любоваться разноцветными струйками, торившими путь сквозь серую мглу.
Цвет, однако, был не единственным их различием; когда он прикасался к какой-нибудь нити, она откликалась своей особой нотой, рождала звук, непохожий на другие звуки – то трепетный и нежный, то резкий и пронзительный, то гудящий, громыхающий, рокочущий или звенящий подобно колокольному набату. Цвета и звуки были взаимосвязаны; это позволяло проследить любую из нитей-паутинок, узнать ее на ощупь, различить на вид и на слух. Они даже пахли по-разному, имели разный вкус и различную фактуру, отличаясь еще тысячей или миллионом признаков, недоступных человеческим чувствам, не имеющих аналогий в привычном мире, не поддающихся описанию словами, цифрами или иероглифами алгебраических уравнений.
Впрочем, он никогда не пытался их описать. Он, Повелитель Мира Снов, был всего лишь музыкантом, игравшим на Арфе Мироздания без партитуры, без нот и без сопровождения оркестра. Правда, он нуждался в указующей дирижерской палочке, ибо мелодии, извлекаемые им, не были оригинальными – они лишь повторяли те пьесы, рапсодии и симфонии, которые диктовались извне. Каждой из них соответствовал свой клубок, определенное переплетение нитей, своя гамма звуков, запахов, красок и прочих невыразимых характеристик, ощущаемых им тем не менее с отчетливой и ясной остротой. Обнаружив такой клубок, один из бесчисленных миров Вселенной, блиставший на сером занавесе, он запоминал его навсегда; так гениальный пианист помнит услышанную мелодию и воспроизводит ее в любое время дня и ночи.
Но, пока эта мелодия длится, трудно или невозможно сыграть другую. Тут существовали некие пределы – как в количестве струн, которые он мог проследить по их цветам и фактуре, так и в различимости звуков, тембров, тонов и голосов. Он слышал, видел и осязал тысячи нитей разом, но все же их число оставалось несопоставимым с бесконечностью. Одни из этих струн являлись наиболее важными, звучали громче, светились ярче; таких он контролировал немного, ибо вели они к людям – к путникам, которые диктовали ему напевы. Другие ниточки, не столь заметные, связывали их – и, разумеется, его самого – с предметами неживыми, со всем тем, что путники брали с собой или желали извлечь из Мира Снов; эти струны он ощущал не столь отчетливо, с некоторым напряжением – что, однако, не сказывалось на результате. Он мог, потянув за главные нити, вернуть в Реальность все разом – и странников-людей, и их имущество, и их добычу; мог вытянуть одну из струн со всем ее вещественным обрамлением, оставив прочие в том пестром клубке Мироздания, который виделся ему столь же отчетливо и ясно, как солнце на небесах.
Исход, или путь домой, к защитному силовому кокону, вообще не представлял для него проблемы. Настроиться на нужную мелодию, отыскать необходимый мир-клубок – вот в чем состояла главная задача! Ибо этих миров имелось такое множество, что правильный выбор был сопряжен с известными трудностями, усугублявшимися тем, что взмахи дирижерской палочки не всякий раз отличались необходимой четкостью. Иногда они были робки, расплывчаты, неуверенны – а это значило, что странник по Миру Снов сам страшится своих желаний. В таких случаях ему приходилось искать; искать долго и напряженно, преодолевая сопротивление будущего путешественника, вслушиваясь в смутную гамму его интуитивных намерений и чувств, подбирая клубок, чья мелодия звучала бы в унисон с заданной музыкальной темой. Это было нелегко и удавалось не всегда.
Впрочем, он мог отыскать что-то более или менее подходящее, ибо миров, как уже было сказано выше, имелось превеликое множество, а инструмент, на котором он играл, простирался в бесконечность. Когда мир был найден и тропа к нему проложена, дальнейшее уже не представляло особых трудностей: нащупав нити между Реальностью и Сном, он посылал путников в полет – точь-в-точь как созвездие огоньков, плавно и стремительно скользящих вдоль гибких струн титанической арфы. Они уходили, вливались в пестрый многоцветный мир-клубок, но он не терял с ними связи; какая-то частица его разума бодрствовала днем и ночью, ожидая либо тревожного сигнала, либо истечения сроков странствия. В мелодии, к которой он постоянно прислушивался, то и другое отзывалось тонким беспокойным звоном, диссонансом, нарушавшим вселенский хорал, и по этому звуку ему полагалось вернуть путников под защитный кокон. Он совершал это одним мгновенным и мощным усилием, ибо промедление могло означать смерть. Пока что никто не погиб в Мире Снов, но он хорошо представлял себе, как это выглядит: оборванная струна, погасший огонек, стихшая нота, ощущение холода и, быть может, погружение в То Место…
То Место!.. Место, где не было ни светящихся струн, ни звуков, ни запахов, ни времени, ни пространства ..
Владыка Мира Снов старался не замечать его, хотя не испытывал страха, случайно касаясь серой вязкой мглы; он видел и ощущал ее слишком часто, чтобы испытывать боязнь. Привычное не ужасает, не пугает… Тем более не удивляет!
Для удивления, впрочем, имелись другие поводы.
Кто-то пытался сыграть свою мелодию на его арфе. Пожалуй, не пытался, а играл: он мог легко заметить новый аккорд, новое свечение, озарившее одну из струн – ту, которой он не касался. Не трогал мыслью, не задевал неощутимым ментальным усилием… И все же она вспыхнула и зазвучала!
Теперь к миру-клубку, называемому Амм Хамматом, скользили два огонька: фиолетовый и цвета ярко-алого рубина. Первый звучал ударами медных колоколов, был горячим, твердым и шершавым, словно не скатанный морскими водами камешек; второй, производивший впечатление гладкости, холодноватой стеклянистости, тянул долгую протяжную ноту, похожую на стон горна, отпевавшего вечернюю зарю. Колокол-аметист – фиолетовый, горн-рубин – алый: такими они представлялись ему.
Но двух огоньков, двух струн, двух пылающих камешков быть не могло! Он отправил в Мир Снов лишь фиолетового странника – того, что отзывался колоколом, был горяч и шершав; прохладному же и стеклянистому полагалось оставаться в безмолвии и темноте. Однако и его струна зазвучала! И То Место отозвалось двойным эхом, двумя всплесками серой мглы, так что об ошибке или иллюзии не стоило и говорить.
Никаких иллюзий! Он ощущал, как посланец-аметист стремится к многокрасочному водовороту избранного им мира, к той его точке, чей образ сохранился в памяти и чувствах; рубин же незваным гостем поспешал вослед. Две струны гудели ровно, наливались ярким светом, выпевали странную мелодию – звон колокола на фоне протяжного призыва трубы ..
Этого не могло быть, но это случилось.
Впервые, насколько он помнил, Арфа вышла из повиновения.
Глава 2
СКИФ
Запястья и щиколотки Скифа стягивали прочные кожаные ремни. Еще один ремень шел от щиколоток к запястьям, так что, поднявшись, он не смог бы выпрямиться во весь рост – широкая полоса толстой кожи была слишком короткой. На шее у него блестел медный обруч с двухметровой цепью, которую днем пропускали в кольцо под лукой седла Ноги при этом, разумеется, развязывали, но руки не освобождали ни на минуту. Через пару суток такой пытки Скиф уже почти не чувствовал онемевших пальцев.
Святой Харана! Вот он и попался, как кур в ощип! Вместе с Джамалем, верным компаньоном, странником из миров иных. И теперь оставалось лишь гадать, что ждет их в самом близком будущем: каменоломни, галеры или нечто еще более неприятное. Скиф хотя и был в душе романтиком и оптимистом, склонялся к последнему варианту.
Джамаль лежал на спине рядом с ним, согнув колени и глядя в ночное небо Амм Хаммата, усеянное яркими блестками звезд. Руки и ноги его тоже были связаны, медный ошейник подпирал нижнюю челюсть, всклокоченные черные волосы падали на лоб. Дальше скорчились в траве еще семеро собратьев по несчастью – семь парней и молодых мужчин неизвестной племенной принадлежности, все – грязные, лохматые, босые, облаченные в жалкое рубище. Джамаль не многим отличался от них: был так же грязен, бос, скручен ремнями и закован в рабский ошейник. Правда, одеяние его выглядело поприличней – некогда роскошная шелковая пижама в ярких разводах, изображавших павлиньи перья. В таком виде князь и заявился сюда, попав в амм-хамматские пределы прямо с больничной койки Теперь, после трехдневных скитаний в дикой степи, пижама изрядно запылилась и разорвалась в дюжине мест; вдобавок шинкасы срезали с нее все пуговицы. И неудивительно – пуговицы были золотыми.
Сейчас вся их компания, все девять окольцованных и связанных невольников, располагалась меж двух костров под присмотром рослого вонючего бандита с огромной секирой, откликавшегося на имя Коготь. Был он одним их трех ближайших подручных Полосатой Гиены, которых Скиф называл про себя сержантами. Сам Гиена, по-местному – Тха, являлся невеликой кочкой на ровном месте, всего лишь шаманом и вождем маленького отряда степных разбойников – или, если угодно, капитаном. Но замашки и амбиции у этой толстой жабы были генеральские, что внушало Скифу самую острую неприязнь. Как говаривал майор Звягин, не стоит капитану принюхиваться к генеральскому коньяку: пьян не будешь и свое пиво расплескаешь. Верная мысль, Скифу тоже казалось, что всякой гиене положено знать свое гиенье место: начальствовать над двадцатью шакалами, рвать глотки беззащитным антилопам и не строить из себя льва, готового схватиться с буйволом.
Так размышлял Скиф, с горечью сознавая, что он-то сейчас не могучий степной бык, способный поднять хищника на рога, и даже не быстроногая антилопа. Так, нечто вроде кролика-кафала… да еще со связанными лапами…
Желая отвлечься от мрачных дум, он повернул голову к Джамалю и тихо, сквозь зубы, пробормотал:
– Ну, выходит что-нибудь, князь?
Джамаль перекатился на бок и снизу вверх заглянул в лицо компаньону.
– Не выйдет это, дорогой, придумаем другое. Найдется кусок мясца, чтоб подманить шакалов… только выбрать надо полакомей, с тухлинкой…
– Поторопись с выбором-то, – произнес Скиф, – Иначе дело труба.
О себе он, впрочем, не тревожился; колокола Хараны-заступника молчали, а это значило, что он сумеет выкрутиться из любой передряги. Но вот Джамаль… С ним-то что будет?.. С одной стороны, Скиф за него не отвечал, ибо таинственное явление князя в амм-хамматские пределы свершилось по собственной его воле и желанию, и был он сейчас не клиентом, коего полагалось лелеять да беречь, а равным партнером. И в этом качестве князь на законном основании подвергался всем опасностям и риску, всем тяготам странствий в жестоком мире прошлого, где судьбой человеческой правили меч, стрела да аркан. С одной стороны, все обстояло именно так; но с другой… С другой, Джамаль был ему дорог; и не просто дорог, а жизненно необходим. И самому Скифу, и Сарагосе, и всей Системе! Отсюда следовал бесспорный вывод: князя надо спасти, даже если для этого придется назвать пароль, досрочно прервав амм-хамматское странствие. Но такую возможность Скиф приберегал на крайний случай.
Сейчас Джамаль пытался решить проблему иными способами, не столь радикальными: уже два дня он внушал Гиене мысль забыть о пленниках, бросить их где-нибудь посередь степи и убраться к дьяволу. Или к нечистому Хадару, игравшему в шинкасском пантеоне роль Сатаны… Однако все усилия князя оставались тщетными; либо он не мог повторить фокус, сыгранный некогда с Зуу'Арборном, джараймским купцом, либо Полосатый Тха, смрадный хиссап, потомок ксиха, не поддавался гипнозу. Впрочем, надежды Джамаль еще не потерял.
– Как думаешь, – спросил он, по-прежнему заглядывая Скифу в лицо, – куда нас тащат? Тот дернул плечом.
– Сказано было – к ару-интанам, в сеняков превращать… А дальше – понимай как знаешь! То ли продадут кому, то ли…
Он рухнул лицом вниз, едва не перевернувшись через голову; острая боль прострелила поясницу. Коготь, сын ксиха, приложился сапогом по самому копчику! Сапог у него был мягким, шитым из хорошо дубленной шкуры, но ступня не уступала крепостью лошадиному копыту.
Стоя над поверженным Скифом, Коготь с минуту разглядывал его. От шинкаса попахивало немытым телом, пропотевшей кожей и конским навозом; ко все этим ароматам примешивался едкий запах пеки, местного хмельного напитка, который шинкасы потребляли в невероятных количествах.
Коготь прочистил горло, поиграл висевшей на шее серебряной цепью и внушительно произнес:
– Сену! Сену – не болтать, молчать! Твой, мутноглазая зюла, еще говорить. Коготь дух вышибать. Твой до арунтанов не доживать!
– Сам ты зюла, – прошипел Скиф, корчась от боли. – Зюла безносая, ксих недорезанный, хиссапья моча…
Новый удар, в почки, заставил его прикрыть рот. Поминать зюлу, ксиха или хиссапа считалось у шинкасов страшным оскорблением, и за первым ударом тут же последовали второй и третий – по одному за каждый непечатный эпитет. Зюла была огромной бородавчатой жабой, самого мерзкого обличья, обитавшей кое-где в лесных ручьях; ксих являлся абсолютным подобием земной свиньи, а хиссап напоминал бесхвостого койота, вонючего, словно скунс. Все эти тварюги Скифу еще не встретились ни разу, но ему пришлось свести с ними заочное и самое близкое знакомство, так как язык шинкасов наполовину состоял из проклятий, божбы да смачных ругательств. Правда, до русского в этой части было ему далековато.
– Молчать! – прикрикнул Коготь, раздуваясь от злости. Его физиономия, почти безносая, с огромной выступающей челюстью, побагровела, сальные черные пряди разметались по плечам. Остальные шинкасы, развалившиеся сейчас на траве по другую сторону костра, почти ничем не отличались от этого неандертальца: были такими же темноглазыми, смуглыми, плосколицыми, с ноздрями, смотревшими не вниз, а вперед. Скиф, светловолосый и белокожий, казался им, очевидно, уродом, что подчеркивалось неоднократно и в самых крепких выражениях и Полосатым Тха, бандитским капитаном, и его сержантами, Клыком, Когтем и Ходдом-Коршуном, и прочими воинами, включая распоследнюю шваль – Пискуна и Две Кучи.
Коготь ткнул пленника топорищем в ребра. Секира его весила килограммов пять и древко имела соответствующее – длиной в полтора метра, толщиной с лошадиную ногу, украшенное кольцами из серебра. Скиф уставился на нее с вожделением. Были б у него свободны руки… и если б он добрался до своей катаны и топора… или хоть до проволоки, зашитой в комбинезонную лямку…
Мечты, мечты! Ну, добрался бы, совладал с Когтем, самым крепким бойцом в отряде… Так ведь оставалось еще два десятка! Против них не выстоять… ни в одиночку, ни на пару с Джамалем… Разве что семь братцев-невольников помогут? Но с ними Скиф еще не успел свести близкого знакомства.
– Глядеть туда, мешок с дерьмом Хадар! – Древко секиры вновь прогулялось по Скифовым ребрам. – Глядеть! – Коготь вытянул над костром длинную мускулистую руку. – Твой скоро менять на сладкий трава, вот так! Твой стать сену… ничего не понимать, ничего не видеть, не слышать, только работать. Пока твой видеть, понимать – глядеть! Глядеть, какой шинкас грозный воин! Бояться шинкас! Сильно бояться!
– Боялся моськи волкодав… – пробормотал Скиф, но тут Джамаль, вытянув связанные руки, коснулся его локтя:
– Слушай, дорогой, не надо, не заводись. Побереги здоровье. И погляди… Может, придумаем чего.
Совет был мудр; очевидно, поэтому Коготь и не приложился рукоятью секиры к пояснице торгового князя. Впрочем, с Джамалем шинкасы не рукоприкладствовали – оттого ли, что был он черноволос и смугл, как сами они и остальные пленники, или подчиняясь некой таинственной эманации, исходившей от великого финансиста. Эманации сей не хватало, чтоб подчинить Полосатого Тха, но по крайней мере князь ухитрялся избегать побоев.
Скиф, уже не огрызаясь, в угрюмом молчании уставился на пространство за костром, где важно восседал Гиена в ожерелье, в котором сверкали пуговицы с пижамы Джамаля, с чашей пеки в левой руке. Троном степному князьку служили три седла, поставленные друг на друга; остальные седла и упряжь были аккуратно разложены в стороне, вместе с большими секирами, луками, колчанами и походными мешками. Имелось там и два-три длинных прямых меча, украденных либо отвоеванных у амазонок из Города Двадцати Башен; однако ни шлемов, ни металлических панцирей Скиф не замечал. Похоже, шинкасы брезговали доспехами, предпочитая идти в бой нагими по пояс, в одних своих устрашающих масках из размалеванной кожи.
Чуть дальше, за рядом седел и секир, фыркали стреноженные кони. Их, как всегда, стерегли Пискун и Две Кучи, обладавшие самым низким статусом в орде и потому назначенные на роль вечных козлов отпущения. Прочие шинкасы, числом восемнадцать, сгрудились перед своим владыкой, размахивая легкими топориками и ножами длиной в половину руки. Лица их прикрывали плотные кожаные маски, одевавшиеся, как знал уже Скиф, и во время сражения, и во время боевых плясок; то и другое посвящалось Шаммаху, богу Чистого, Одноглазому Кондору Войны, Всевидящему Оку.
Тха отхлебнул из своего серебряного кубка, шлепнул правой ладонью торчавший у колена небольшой барабан; резкий звук раскатился в сумраке ночной равнины. Из толпы выступили двое: коренастый Клык и широкоплечий жилистый Ходд-Коршун, самые сильные воины после Когтя. Клык был обнажен до пояса, и с шеи его свисало ожерелье, а Ходд щеголял в безрукавке из оленьей шкуры мехом наружу и широких браслетах. Каждый держал топорик с треугольным лезвием и длинный нож; маска Ходда пестрела серыми полосами, маска Клыка была размалевана рыжей охрой. Скиф отлично видел обоих: света хватало, так как над степью уже взошли луны, темно-багровая Миа и Зилур, больший из двух серебристых амм-хамматских сателлитов.
Гиена вновь ударил в барабан, и гибкие фигуры воинов заскользили по кругу. Ноги их в мягких сапогах приминали траву, руки плавно двигались, словно отбивая некий ритм: взмах топором, два взмаха ножом, оружие скрещивается перед грудью, затем руки идут в стороны, вверх… И снова – взмах топором, два взмаха ножом. Постепенно движения шинкасов делались все быстрее, все стремительнее, а круг становился уже; наконец, они сошлись на расстояние трех шагов.
Раздался грохот. Замелькали топоры и клинки, то отсвечивая алым в пламени костра, то сверкая чистым серебром или отливая багрянцем в лучах Зилура и Миа. Клык и Коршун танцевали, звеня оружием, и танец их был грозен. Пляска диких воинов, вступивших в почти реальный поединок! Они рубили и секли, наносили удар за ударом, отступали и наступали, уклонялись, делали быстрые выпады, то ныряли в сторону, то падали в траву, то подскакивали вверх. Фехтовальная техника, на взгляд Скифа, была невысока, однако пляска производила устрашающее впечатление. Казалось, один из воинов вот-вот рухнет на землю с пробитым черепом или дырой в груди.
Тха, степной князек, одобрительно кивая головой, потягивал хмельную пеку, подбадривал сражавшихся гортанными возгласами. Рука его опять потянулась к барабану, послышались четыре рокочущих удара, и четверо шинкасов из толпы, размахивая топориками, прыгнули к бойцам. Круг сразу стал шире; теперь шесть фигур метались за костром, и перезвон клинков сделался почти непрерывным.
Новые удары барабана – три, четыре, пять… Уже все шинкасы кружились в боевом хороводе, подобные сражавшимся насмерть демонам. Жуткие кожаные маски, скрывавшие их лица, трепетали; длинные пряди, словно десятки змей, скользили по плечам; ноги, подчиняясь грохоту барабана, отбивали четкий ритм. Внезапно, после двух резких ударов, кольцо танцующих распалось: теперь каждый бился со своим противником, но все девять пар в прежнем темпе двигались по кругу, вздымая свои топоры и ножи.
– Половецкие пляски, – пробормотал Скиф, чувствуя, как Коготь нетерпеливо переминается за спиной; охраннику тоже, вероятно, хотелось поразмяться.
– Женщин не хватает, – прокомментировал Джамаль и поскреб колено сквозь прореху в пижамных штанах. – Вах, не хватает! В театре, с девушками, все же лучше получается.
– В театре, – заметил Скиф, – у танцоров хоть шеи чистые. А эти… Грязны, как задница ксиха!
Разумеется, он тут же получил древком по ребрам. Затем Коготь, склонившись к нему, дыша вонючим перегаром, прохрипел:
– Смотреть! Страшно, а? Какой шинкас воин! Чик-чик, – он похлопал по лезвию своей огромной секиры, – и голова – нету! Голова идти гулять к Хадар, кишки тоже к Хадар, а твой печень – жрать Коготь!
– Развяжи руки, ублюдок, и твой печень жрать хиссап, – ответил Скиф. – Твой печень и их печень тоже, – он кивнул в сторону танцующих.
Некий план начал складываться у него в голове; весьма рискованный, способный в равной мере привести к успеху либо к провалу. Тут уж все зависело от главаря шинкасов, от его чванства, амбиций и степени презрения, питаемого им к невольникам. Скифу казалось, что шансы у него есть, ибо недостатком самомнения Гиена отнюдь не страдал.
Коготь, вероятно, тоже. В очередной раз ткнув пленника топорищем, он хрипло расхохотался.
– Твой – кафал, а зубы скалить, как пирг! Ха! Твой топор не держать, меч не держать! Твой видеть острое железо, мочиться со страха! Твой…
– Не нужны мне меч и топор! – прервал его Скиф, свирепо ощерившись и не обращая внимания на предостерегающие знаки Джамаля. – Я без топора уложу любого! На выбор! И долго плясать у костра не стану! Не девка!
– Твой?! – изумился Коготь. – Твой – убить любого? Без меча? Без ножа? Без топора? – Он скорчил жуткую гримасу и резко выдохнул: – Твой – хиссап!
Затем, переложив секиру в левую руку, шинкас вцепился правой в ошейник Скифа и рывком поднял пленника на ноги. Тонкие губы Когтя скривились в злобной ухмылке, в глазах – узких, как амбразуры дота, – мелькнул опасный огонек. Намотав цепь на запястье, он потащил Скифа вокруг костра, пиная коленом под зад и рявкая:
– Твой – убить – любого! Ха! Вонючий червь! Кал ксиха! Отрыжка зюлы! Убить – любого! Ха! Твой кафала не зарезать! А шинкас – все шинкас! – великий воин! Любой выпустить твой кишки! Ха-ха! Выпустить одним ножом, без топора!
* * *
Кое-какие основания для подобных выводов имелись: слишком уж легко он им достался.
Три дня назад, когда Джамаль спас его от дурманного морока, Скиф, отдышавшись, тут же приступил к ревизии. В голове у него теснилось десятка два вопросов сразу – и как торговый князь сумел проникнуть в Амм Хаммат, и как оказался на опушке рощи, и почему убийственный запах падда вроде бы не повлиял на него, и каким образом человек, минутой раньше беспомощно пускавший пузыри на больничной койке, ухитрился выздороветь – исцелиться окончательно и бесповоротно, о чем свидетельствовали и его связная речь, и быстрые энергичные движения, и лукавый блеск темных глаз. Пожалуй, это внезапное исцеление являлось самым поразительным – и, разумеется, самым приятным моментом; но в первые пять минут Скиф даже не пытался разрешить сию загадку.
Он проверял свою память.
Проверял быстро, тщательно, словно бы экзаменуя сам себя, отвечая на вопросы некой невидимой анкеты: имя, фамилия, адрес, основные факты биографии, события последних дней, задача, с которой его послали в Амм Хаммат, рекомендации и приказы Сарагосы, пароль… Он помнил все; на этот раз, похоже, кладовые памяти не потерпели ущерба, и объяснить это можно было лишь одним: он не терял сознания, а значит, дурные сны не успели овладеть его разумом и душой. Убедившись в этом, Скиф сразу почувствовал себя уверенней; сел и во все глаза уставился на Джамаля.
Торговый князь был облачен в роскошную пижаму цвета нежной зелени, с яркими разводами и золотыми пуговками; если б не босые ноги и щетина на щеках, походил бы он сейчас на Гаруна аль-Рашида, заявившегося по-домашнему в свой гарем, чтобы скрасить ночь с одной из многочисленных одалисок. Волосы у князя были слегка растрепаны, лоб блестел от проступившей испарины, но вид он имел довольный и никоим образом не походил на идиота. На кретина, в беспамятстве пускавшего слюну в медицинском боксе фирмы «Спасение»!
«Отрадный факт», – подумал Скиф; затем встал, утвердился на чуть подрагивающих ногах и произнес:
– Ну?
Любопытное словечко! При случае может означать что угодно: «да» или «нет», согласие либо отрицание, возмущение или восторг, просьбу, решительный вызов или желание стушеваться. Наконец, вопрос; не конкретный, а самого общего свойства – мол, выкладывай, парень! Все выкладывай, до самого донышка!
Судя по лицу Джамаля, ситуацию князь понял верно.
Он хмыкнул, переступил с ноги на ногу, потом пробежался пальцами по золотым пижамным пуговкам, будто пересчитывая их; губы его отвердели, у переносья собрались морщинки, и Скиф вдруг понял, что перед ним стоит сейчас не тот Джамаль, Георгиев сын, с коим довелось ему странствовать по амм-хамматским лесам и равнинам, а некая загадочная личность, неизмеримо более значительная, властная и суровая. Это превращение свершилось словно бы в одну-единственную секунду: был Джамаль – и нет Джамаля. А вместо князя – чужой человек, и душа у него – потемки. Ну, может, не потемки, а тот самый серый туман, о котором толковал Сарагоса…
«Оборотень! Двеллер из серой мглы!» – мелькнуло в голове у Скифа, и рука сама потянулась к лазеру.
Но тут Джамаль заговорил:
– Вижу, сомневаешься, дорогой? Правильно, сомневайся… Сомнение полезно; сомнение – ключ к истине.
– А в чем она? – спросил Скиф, отмечая про себя, что даже интонации у князя изменились: грузинский акцент стал едва заметен, и речь сделалась как бы уверенней и чище.
– Истина – сложная штука, – произнес Джамаль, – и нет одной истины для всех, генацвале. У каждого она своя – у меня и у тебя, у Нилыча и у Доктора. И всякая истина сложна… Какую же ты хочешь знать?
– Твою, князь, твою. Если ты – прежний Джамаль…
– Прежний. – Он кивнул головой и усмехнулся. – Почти весь прежний… ну, не весь, так наполовину. Джамаль, сын Георгия, из рода Саакадзе… может, князь, а может, не князь, но уж во всяком случае не то, что ты обо мне подумал.
– Наполовину… – протянул Скиф. – На одну половину… А на другую?
Джамаль вздохнул и вновь переступил с ноги на ногу.
– На другую – Наблюдатель. Ну, если хочешь – странник и гость… Но не из тех, которых ищет Нилыч. И потому не стоит тебе, дорогой, хвататься за пистолет. Я – союзник, не враг, клянусь могилой матери!
Странник и гость… Голова у Скифа пошла кругом.
– Это какой же могилой ты клянешься? – выдавил он. – Той, что на Марсе? Или в созвездии Ориона?
– Той, что на Южном кладбище, у Пулковских высот, – спокойно ответил Джамаль. – Там моя мама и лежит, рядом с отцом, уже года четыре. А другие… – он сделал паузу, подняв лицо к ясным небесам Амм Хаммата, – другие мои родители еще живы. Надеюсь, что живы, дорогой. Я, видишь ли, немного запутался со временем… Далекий путь, понимаешь? Не с Марса, нет, и не из созвездия Ориона… Дальше! Вах, как далеко!
Вах!
Это восклицание словно вернуло прежнего Джамаля. Скиф перестал нащупывать локтем ребристую рукоятку лучемета; брови его приподнялись, рот недоуменно округлился.
– Не понимаю, – пробормотал он, – не понимаю… Отец и мать на Южном кладбище… а другие дальше Ориона… Ты что же, два раза родился?
– Не два, четыре, – уточнил Джамаль. – Вот видишь, истина, как я сказал, сложна. Не всякий поверит, генацвале. Понял, нет?
Он так точно скопировал интонации Сарагосы, что Скиф невольно рассмеялся. Затем оглядел золотую рощу, сверкавшую метрах в двухстах на фоне изумрудного кедровника, бросил взгляд на холмы, пологими волнами уходившие на восток, в степь, и на горные вершины, что розовели южней, у самого горизонта, поднял глаза к бездонному бирюзовому небу, вдохнул воздух, пронизанный запахами трав и хвои. Он снова был в Амм Хаммате! В прекрасном и диком Амм Хаммате, рядом с Сийей! И рядом с Джамалем… Сийю еще предстояло отыскать, но Джамаль был здесь, на расстоянии протянутой руки. Гость, странник, пришелец, четырежды рожденный – и все-таки Джамаль… Чужой – и близкий…
Он опустил взгляд на лицо князя, будто пытаясь отыскать в нем что-то странное, непривычное, нечеловеческое. Тот, вероятно, понял: глаза его насмешливо сверкнули, губы растянулись в усмешке.
– Что так смотришь, генацвале? У меня нет ни рогов, ни копыт, ни хвоста.
– Ты чужой… – в смущении пробормотал Скиф.
– Чужой, вах! Разве ты мало повидал чужих за последнее время? Ты даже любил одну красавицу… или любишь, а? Так что – она тебе тоже чужая? Или нет? – видя, что Скиф отвечать не собирается, князь – или Наблюдатель? – ободряюще похлопал его по плечу. – Сегодня чужой, завтра свой, генацвале. А для нас это завтра миновало еще вчера… когда мы с тобой тут бродили и мерились силой с полосатыми собачками… Разве не так?
– Так, – согласился Скиф, – так.
– Тогда идем! Солнце уже высоко, – прищурившись, Джамаль поглядел на золотисто-оранжевое светило, потом махнул в сторону ближнего холма.
– Идем! Вот только одежка у тебя неподходящая… Князь ухмыльнулся, колыхнул полами пижамной куртки.
– Это верно! Слишком я торопился вслед за тобой… Ну, ничего! Доберемся до наших девушек, будет и одежда.
Они направились к востоку, к холмам, за которыми лежала бескрайняя степь, поросшая низкой и высокой травой, пересеченная оврагами и ручьями, украшенная цветущим кустарником и древесными рощами. Где-то там, далеко, на восходе солнца, высилась огромная скала, а на ней стоял Город Двадцати Башен, девичье царство… Скиф, впрочем, полагал, что им не придется тащиться пешком в такую даль; рано или поздно встретятся путникам Белые Родичи или отряд Стерегущих Рубежи, а значит, будут и кони. На миг закрыв глаза, он ощутил ритм бешеной скачки, порывы ветра, бьющего в лицо, едкий запах конского пота… Сийя скакала рядом с ним; он слышал ее смех, видел, как вьется за плечами девушки белый плащ, подобный крылу чайки, как сверкает на солнце ее шлем с пышной гривой султана…
Поднявшись на ближайший курган, Джамаль остановился. Отсюда, с высоты, была видна изумрудно-зеленая полоска кедровника, окаймлявшая морское побережье; за ней равнина резко обрывалась вниз, к скалам и соленым водам, лиловевшим на западе. Море было пустынным: ни лодки, ни корабля. Проклятый Берег, припомнил Скиф. Так называли это место амазонки, и теперь он догадывался почему: тут и там среди яркой зелени кедров светились золотые купола над рощами падда, деревьев дурных снов, недосягаемые ни для человека, ни для зверя, ни для птицы.
Однако ж надо как-то добраться до них, промелькнула мысль. Хотя бы ветку с дерева раздобыть, как Пал Нилыч велел…
Взглянув на сосредоточенное лицо Скифа, Джамаль спросил:
– О чем задумался, дорогой? Что-то не так?
– Не так. Рановато мы направились в степь… Меня ведь сюда не гулять послали.
– Понимаю, что не гулять. И чего же ты хочешь?
– К роще подобраться. Пал Нилычу, понимаешь ли, образцы нужны. Кора, листья… Да и на купола эти стоит поближе взглянуть…
Джамаль покачал головой.
– Не советую. Два раза я тебя вытаскивал, а в третий мы оба можем там остаться. Иначе действовать надо, дорогой. – Иначе? Как?
– Помнишь, о чем девушки толковали? Есть, мол, среди них Видящие Суть, те, которые не спят и могут говорить без слов… Только им дозволено касаться падда. Выходит, известно им, как попасть в рощу и как выбраться назад. Найдем их, поинтересуемся… – Джамаль устремил взгляд на восток, в сверкающую под солнцем степь, где обитали таинственные жрицы народа Башен. Затем, покосившись на Скифа, спросил: – Сам-то ты как на опушке очутился? Другого места выбрать не мог, а?
Скиф пожал плечами.
– Глупость вышла. Думал грешник о черте, вот и угодил на сковороду. Понимаешь, если в момент Погружения представить себе нечто конкретное… ну, море там или горы…
– Я знаю. Доктор находит подходящий мир, а уж место в этом мире ты выбираешь сам, если не договорился заранее. Я знаю!
– Знаешь? – подозрения опять ожили в душе Скифа. – А что ты еще знаешь? И как ты сюда попал? Ты же валялся в койке да пускал пузыри! Тебя ведь разрядником стукнули – эти, атаракты! Так врезали, что Сарагоса уже заупокойную по тебе отслужил!
– Много он понимает, твой Сарагоса! – Джамаль, усмехнувшись, начал спускаться по склону. – Мне нужно было попасть сюда, в этот мир, вот я и попал. Мы давно его искали… я искал, и другие… другие Наблюдатели… А пока искал, кой-чему научился у Доктора. Так что теперь, когда он проложит тропинку среди звезд, я пройду по ней и назад не оглянусь. Понимаешь?
– Нет! – Скиф решительно помотал головой. До сих пор ответы Джамаля, неопределенные и уклончивые, лишь множили вопросы. К примеру, зачем он искал этот мир? И кто те другие, которые тоже участвовали в розысках? Что им было нужно в Амм Хаммате? И при чем тут Доктор? Если уж Джамаль сумел добраться до Земли и обзавестись там родителями, отчего бы не повторить этот фокус и в Амм Хаммате?
– Нет, не понимаю! – Скиф прикоснулся к плечу князя, словно хотел убедиться, что тот не призрак, не туманная тень, возникшая из небытия. – Не понимаю и не пойму, если ты не расскажешь все. Все! Откуда ты пришел на Землю, чего тебе надо, что ты ищешь и зачем? А для начала хотелось бы узнать, как ты из койки-то вылез? Ведь остальные…
– Остальные… – медленно протянул Джамаль. – Остальные – люди, а я все-таки не совсем человек… Конечно, если б они, – князь будто выделил это «они», – взялись за меня по-настоящему, и я бы не выдержал. Но разрядником меня не возьмешь! Так что считай, что болезнь моя была притворством. Неплохо сыграно, да?
– Неплохо, – согласился Скиф. – Но зачем?
– Шеф твой сказал, что отправит людей в Амм Хаммат… Сказал ведь, так? Еще говорил, может, и сам пойдет, верно? – Скиф молча кивнул. – Выходит, и я мог бы проскользнуть следом… за тобой, за Нилычем… Но разыскать нужную тропку непросто, дорогой! Тут лучше пристроиться поближе к Доктору – так близко, как сможешь подобраться. Вот я и подобрался… Дело случая!
– Случай, что к тебе атаракты заявились? Да еще стукнули разрядником?
Джамаль усмехнулся.
– Верно! Помогли они мне, вах, как помогли! Не хотели, а помогли! Попал я, как ты говоришь, в койку, метрах в пятнадцати от Доктора, считая напрямую. И когда он принялся над тобой колдовать…
– Ну хорошо, – сказал Скиф, представляя сейчас эту койку, скрытую мерцающей пленкой защитного кокона, – хорошо, с этим мы разобрались. А со всем остальным?
Об остальном Джамаль рассказывал не один час. Путники успели пересечь неширокую цепочку холмов, перебраться вброд через два-три ручья и углубиться в степь километров на двадцать. Оранжево-золотое амм-хамматское солнце поднялось в зенит, потом неторопливо покатилось к западному горизонту, к морю, оставшемуся далеко позади; в прозрачном степном воздухе повеяло вечерней прохладой, стада газелей, оленей и антилоп потянулись на водопой, бирюзовое небо начало темнеть, наливаться огненными предзакатными красками. Князь все говорил и говорил, и, слушая его, Скиф невольно задавался вопросом: кто же шагает сейчас рядом с ним? То ли прежний Джамаль, финансовый гений с темпераментом авантюриста, человек хоть и странный, но понятный, невзирая на все странности; то ли Наблюдатель с далекой и неведомой планеты Телг, четырежды рожденный в разных мирах, сменивший не одну личину, проживший не одну жизнь, преодолевший безмерные пространства – такие, что не постигнуть ни разумом, ни чувством.
Обе эти личности сосуществовали в Джамале в неразрывном и тесном единении. Пожалуй, о двух личностях не стоило и говорить; по сути дела, он являлся созданием на редкость цельным, помнившим как свою земную биографию, так и все прочие жизни, иные существования и ипостаси, объединенные одной задачей: разыскивать и наблюдать. Он вел свои поиски в трех мирах, считая с земным, и надеялся, что теперь его миссия близка к завершению. Личины, которые он надевал, не были чем-то искусственным и чуждым; возрождаясь в каждом мире, принимая новый облик и новую судьбу, он становился частицей новой своей родины – такой же, как любое из мириад существ, родившихся и проживших свой век на Земле. А значит, он был земным человеком, хоть сам временами утверждал обратное; и Скиф, успокоившись на сей счет, уже не видел разницы между Джамалем прежним и Джамалем нынешним.
Смеркалось, в небесах вспыхнули первые звезды, темно-красный диск Миа медленно всплывал над горизонтом, озаряя степь багровыми отблесками. Скиф, продолжая слушать речи Джамаля, начал озираться по сторонам, присматривая место для ночлега. За день они одолели немалое расстояние и теперь приблизились к небольшому озеру у подошвы крутого холма. Водоем окружали заросли высокой травы, походившей по виду на бамбук; стебли ее, как помнилось Скифу, были мягкими и гибкими, но довольно прочными. Вполне подходящий материал, чтобы сплести сандалии для князя, решил он, выбрав это место для ночлега. Вода плескалась рядом, а в зарослях хватало сухостоя для подстилок и костра – правда, жарить на костре было нечего: днем Скиф не охотился, увлеченный беседой. Ну, ничего, подумалось ему, на первый раз обойдемся консервами.
Вскоре, нарезав сухих стеблей, они расположились рядом с банками в руках, то и дело прикладываясь к фляге. Перед ними пылал костер, разожженный вспышкой лазера; за кругом мерцающего света лежала холмистая степь, полная прохлады, таинственных шорохов и шелеста трав. Они поели; пища была еще земной, но вода в объемистой фляге и огонь, плясавший над грудой сушняка, уже принадлежали Амм Хаммату.
Но Скиф об этом сейчас не думал. Внимая речам Джамаля, он будто бы отключился от реальности, забыл про темную амм-хамматскую степь, расстилавшуюся вокруг, про купола и золотые рощи, про город на скале, увенчанный двадцатью башнями, где поджидала его Сийя ап'Хенан. И даже о ней он не вспоминал в этот миг, ибо рассказы князя были такими же чарующими, как сказки «Тысячи и одной ночи» или эллинские предания о битвах богов и титанов. Правда, казалось ему, что Джамаль слегка обеспокоен тем, как будут восприняты его истории. Повествуя о делах удивительных и необычайных, он как бы старался подчеркнуть, что ничего удивительного и необычайного в них нет, что цель его поисков не столь уж отличается от целей и задач Системы и сам он, наподобие Скифа, Самурая или Сентября, принадлежит к некой межзвездной Суперсистеме, является ее агентом и полномочным эмиссаром.
Таковым был его статус, если определять его в земных терминах; и Скиф уже собирался успокоить своего компаньона, сказав, что теперь ему все понятно и что он не считает телгского Наблюдателя коварным инопланетным чудищем, а готов рассматривать его как союзника и коллегу. Но тут за спинами путников, в высокой траве, раздался шорох, а затем над ними взметнулась большая ременная сеть. Не успел Скиф выхватить оружие, как был повержен наземь, спеленут и связан; жуткие маски склонились над ним, а перевернутая лодка багровой луны, будто символ поражения, плыла в вышине, насмешливо покачивая днищем.
* * *
Коготь проволок его вокруг костра, не скупясь на зуботычины и пинки. Резким ударом о барабан Тха остановил танец, и теперь разгоряченные шинкасы сгрудились за спиной вождя, не выпуская из рук своих ножей и маленьких топориков. Маски их чуть подрагивали, и Скифу казалось, что они ухмыляются, предвкушая новое развлечение. От воинов разило потом и кислым запахом хмельной пеки.
Цепь дернулась вверх, ошейник врезался в челюсть, заставив Скифа задрать голову. Он стоял перед Гиеной Тха в унизительной позе, согнувшись и вытянув связанные руки ниже колен; ремень, соединявший запястья со щиколотками, не позволял выпрямиться.
Тха, на редкость упитанный среди своего сухощавого воинства, поерзал в седле толстым задом и оттянул двумя пальцами отвислую нижнюю губу – знак удивления, принятый среди шинкасов. Он не смотрел на пленника, видно, считая его недостойным ни взгляда, ни плевка; узкие щелочки меж припухлых век уставились на Когтя, лицо перекосила гримаса раздраженного недоумения.
– Что надо? – пропыхтел вождь. – Зачем твой тащить сюда этот падаль? Этот бледный вошь?
На следующий день после пленения Скиф выяснил, что язык степных разбойников ничем существенным не отличается от наречия амазонок. Слова оказались теми же самыми, но было их гораздо меньше, если не вспоминать о ругани; кроме того, глагольные формы отсутствовали напрочь. «Такие изыски, – размышлял Скиф, – не для шинкасов; под толстыми их черепами не наблюдалось изобилия мыслей. Они думали о вещах понятных и простых – о женщинах и лошадях, о драках, пьянках и жратве, о набегах и добыче, о золоте и серебре, о пленниках, коих ару-интаны обращали в покорных сену. Пожалуй, самым отвлеченным соображением являлась идея о собственном величии и непобедимости, сидевшая в темени всякого шинкаса словно гвоздь в доске; свои победы они считали естественной закономерностью, а поражения – происками злобного Хадара, нечистого и завистливого божества…» Скиф, руководствуясь этой доктриной, надеялся, что вызов его не останется без ответа.
Его охранник, сжимая в одной руке цепь, а в другой – огромную секиру, вытянулся перед вождем.
– Мутноглазая зюла говорить: убить шинкас! Любой шинкас! Любой воин! Убить без топора, без меча, без ножа. Ткнуть пальцем – и убить! Плюнуть – и убить! Ха!
Гиена почесал толстую щеку и ухмыльнулся.
– Зюла – ядовитый тварь. Ядовитый слюна! Вдруг плюнуть – убить, а? Убить! Семь ног Хадара! Быть Коготь – нет Когтя!
Выпустив цепь, Коготь поднес грязную ладонь к губам Скифа. Пальцы у него были толстые, с обломанными ногтями; кожа, покрытая валиками мозолей, напоминала древесную кору.
– Плюнуть! – рявкнул он. – Плюнуть! Скиф плюнул, и шинкас с торжествующим видом вытер ладонь о голый живот.
– Коготь не умирать! Коготь брать нож, резать глотку длинноносой крысе!
Воины за спиной Тха одобрительно загалдели, а сам князек в задумчивости принялся оглаживать то свое ожерелье, то отвислую щеку, то рукоять торчавшего за поясом меча. Меч этот был Скифу отлично знаком: его драгоценная катана в черном лакированном футляре, ставшая добычей победителей, а с ней и охотничий нож, кисет с золотом и пуговицы с пижамы Джамаля. Всем остальным шинкасы побрезговали, оставив в траве, у прогоревшего кострища, рюкзак, консервы, лазер, компас и прочее добро. Скиф полагал, что, не ведая назначения этих предметов, дикари сочли их бесполезными и недостойными называться добычей. Его скрутили ремнями и подвергли обыску, быстрому и не слишком тщательному, ибо понятия о карманах у шинкасов явно не было. Пластинка Стража, висевшая под рубахой, не возбудила их алчности, не нашли они и проволоку в комбинезонной лямке, и плоскую коробочку, прощальный дар дяди Коли.
Тха наконец принял решение. Повернувшись к Скифу, он дважды ударил в барабан и с важностью произнес:
– Твой хочет драться? Твой будет драться. Шинкас смотреть и думать: вот кафал кусать пирга! Очень весело! Ха-ха!
Кафалами у шинкасов звались те безобидные длинноухие создания, полукролики-полукрысы, на которых Скиф с Джамалем охотились в амм-хамматских степях и лесах во время прошлого визита. Что касается пиргов, то они внушали степным разбойникам опасливую ненависть, так как хищников сильнее и страшнее их в степи не водилось. Впрочем, сила, ловкость и едва ли не человеческий разум пиргов пользовались у шинкасов уважением – в той мере, в которой этот дикий народ мог испытывать подобное чувство. Судя по репликам, услышанным Скифом, пирги являлись Белыми Родичами – уже знакомыми ему степными тиграми с белоснежной шерстью, заключившими союз с племенем Сийи ап'Хенан.
– Твой драться с Пискун? – спросил Тха. – Или с Две Кучи?
Это предложение было откровенным оскорблением: двое названных являлись слабейшими бойцами, самыми распоследними, самыми тощими, самыми грязными во всей орде и почти не имевшими украшений. Скиф презрительно сплюнул:
– Пирг не давит хиссапов!
– Пирг? Твой – пирг? – Гиена в изумлении оттянул губу. Сейчас он был особенно похож на жабу, на толстую коричневую жабу, внезапно потерявшую девственность. Его широкий безгубый рот приоткрылся, жирные щеки затряслись. – Хо-хо! Хо-хо-хо! Ну, мой поглядеть! Скоро поглядеть! Твой драться с Дырявый. Дырявый – сильный воин!
Этот шинкас был обязан своей кличкой рваному отверстию, зиявшему в щеке, сквозь которое просвечивали зубы. Скиф полагал, что эта дыра являлась напоминанием о встрече с амазонками, а точнее, с длинным копьем, коим воительницы владели с поразительной ловкостью. Дырявому еще повезло: копейный наконечник лишь взрезал плоть от нижней челюсти до скулы, вырвал клок мяса и скользнул над плечом.
С пренебрежительной усмешкой Скиф ткнул пальцем в щеку.
– Дырявый – плохой воин! Женщина победить Дырявый. Женщина проколоть его копьем! Я – мужчина! Я не буду с ним драться.
Видимо, его предположение оказалось верным: Тха побагровел и раздраженно стукнул в барабан.
– С кем твой драться, отрыжка Хадар? Мой слушать тебя и думать: твой – прямо Кондор Войны, как Шаммах! Много болтать, а?
– Я хочу драться с ним! – Скиф мотнул головой в сторону Когтя. – С этим вонючим хиссапом!
– Хей-то! Пожрать твой Хадар! Коготь – лучший воин! Луна не успеть подняться, он кушать твою печень! И твой говорить, что взять Когтя без оружия? Без ножа, без топора?
– Взять, – подтвердил Скиф. – Я взять Когтя, отправить его к Хадар, ты отпустить меня, отпустить моего друга, отдать мой меч. Хорошо?
– Там посмотреть. – Гиена почесал жирные складки на шее. – Пока мой глядеть, как твой плясать с Коготь, и смеяться. Сильно-сильно смеяться! – Он повернулся к Когтю и отрывисто приказал: – Резать ремень! Брать нож!
Шинкас, сопевший за спиной Скифа, полоснул клинком ремни, и тот наконец выпрямился, разминая запястья. Руки были свободны, и ноги тоже; кровь снова пульсировала в пальцах, покалывая их острыми иголочками. Харана, бог с жалом змеи, верный Скифов хранитель, молчал; значит, судьба не сулила ему ни поражения, ни серьезной раны.
– Дерьмо ксиха! – прошипел Коготь, натягивая на лицо кожаную маску, столь же страшную, как собственная его физиономия. – Дерьмо ксиха! Мой спустить шкура, весь шкура с хиссап! Твой не стать сену, но арунтан не обижаться на Когтя, Коготь поймать других хиссап, других зюла, привести арунтан! Арунтан давать Коготь много сладкий трава.
Не слушая его злобного бормотанья, Скиф продолжал массировать руки. С ногами все было уже в порядке; он подпрыгнул несколько раз, потом обмотал цепь вокруг шеи, закрепив конец ее под ошейником. Его противник потянулся к торчавшей за поясом рукояти ножа.
– Э, нет! Пусть бьется секирой, – произнес Скиф, оборачиваясь к костру и пытаясь разглядеть лицо Джамаля. Встревоженный князь приподнялся на коленях, остальные пленники тоже зашевелились, вырванные из обычной своей апатии. Никто из них добрых чувств к шинкасам не питал, а к Когтю – особенно.
– Биться топором? Большим топором? – Рука Гиены вновь потянулась к нижней губе. – Нехорошо! Слишком быстро! Раз – и Коготь снять твой глупый голова! Не успеть повеселиться! Нож лучше.
– Топор, – настаивал Скиф.
Тха в раздумье помял отвислую щеку.
– Коготь – топор, твой – нож, – наконец распорядился он. – Так интересно. Топор – тяжелый, медленный, нож – легкий, быстрый. Твой, длинноносый крыса, быстро бегать, мой воины стеречь, чтоб не убежать совсем. – Он махнул рукой Клыку, и тот поднял свой лук и колчан.
– Пусть он оставит нож себе, – сказал Скиф, плюнув Когтю под ноги.
– Твой драться голой рукой? Мой говорить – нельзя! Шаммах не велеть! Шаммах тоже хотеть повеселиться! Долго повеселиться!
Шаммах, бог Чистого, почитаемый в облике огромного степного кондора, был кровожаден и неуступчив, так что спорить тут не приходилось. Рванув зубами комбинезонную лямку, Скиф вытащил заточенный обрезок проволоки, продемонстрировал его Гиене и пояснил:
– Я биться этим. Вместо ножа.
Неожиданно вождь шинкасов согласился. На его жирной физиономии расплылась ухмылка, глаза превратились в две крохотные щелочки, ладонь легла на барабан, пальцы дрогнули, выбивая короткую дробь.
– Не спешить, – сказал он, взглянув на Когтя. – Не спешить, безногий ящерица, или мой закопать твой в землю. Дать бледный вошь побегать. Побегать, хо-хо!
Барабан отрывисто грохнул, и бойцы начали сходиться.
Озирая рослую фигуру Когтя, Скиф перебирал в уме все способы, которыми мог прикончить этого дикаря. Их, изобретенных на Земле за пару тысячелетий, насчитывался не один десяток; одни годились в групповой схватке, когда предстояло сражаться с несколькими противниками, другие шли в ход против воина в броне, против всадника или человека с огнестрельным оружием, третьи – когда противостоял равный по силе враг, мастер рукопашного боя. Коготь, разумеется, таким мастером не был; полагаясь на свой топор и тупую мощь мускулов, он двигался с небрежностью дворняги, собиравшейся запустить клыки в цыплячье горло.
Но массивная секира шинкаса, и длинный нож, и свисавший с пояса кистень не значили сейчас ничего. Как говорил Кван Чон, сингапурский наставник Скифа, неуклюжий меч только щекочет воздух. И еще он говорил, что смертоносным оружием может стать любой предмет – карандаш или остро заточенная палочка, шнурок, игла, свернутый особым образом бумажный лист, шелковая нить… Но самым грозным и страшным орудием убийства являлся сам человек. В то же время он был уязвим в сотне мест; его глаза, ноздри, рот, уши; виски, нервные центры и кровеносные сосуды позволяли закончить бой одним ударом или превратить врага в инвалида на веки вечные. Древнее искусство ходу коросу, умение убивать обнаженной рукой, ценилось Кван Чоном превыше всего; он поучал, что ладонь надежней стального клинка, а быстрота и ловкость важнее защитной брони.
Живот Когтя, поднявшего топор над головой, был открыт. Одним стремительным выпадом Скиф мог проколоть шинкасу печень, пробить сквозь брюшину позвоночник, быть может, достать до сердца… Но Тха – Полосатая Гиена и Шаммах – Кондор Войны желали насладиться редким зрелищем, и потому Скиф подпрыгнул, перевернулся в воздухе и отпечатал подошву башмака чуть ниже ребер Когтя, угодив врагу в солнечное сплетение. Он не стал бить носком, такой удар мог отправить Когтя к Хадару раньше времени.
Шинкас покачнулся, но устоял на ногах; из-под маски донеслось гневное рычание, потом огромный топор обрушился на Скифа. Но там, где сверкнуло стальное лезвие, была лишь одна пустота.
– Торопишься, хиссап! Так мы побегать не успеем, – заметил Скиф, перемещаясь к границе светового круга. Теперь багровый диск встававшей на востоке Миа был у него за спиной, а шинкас находился перед самым костром. Пламя немного слепило Скифа, но имелись в этой позиции и кое-какие преимущества. В конце концов разделаться с Когтем – не главная задача; важней удивить толстую жабу, восседавшую на трех седлах с чашей пеки в руках. Удивить, а еще лучше – напугать!
Скиф пал на землю, перекатился, поджал ноги к груди, ударил ступнями шинкаса по коленям. Тот рухнул на спину в двух шагах от пылающего огня. Маска задралась на лоб, приоткрыв распяленный в вопле рот, топор отлетел в сторону, и какую-то долю секунды Скифу пришлось бороться с искушением – подхватить секиру да и обрушить ее на башку Тха и грязные шеи его воинства. Но их было много, слишком много – даже для бойца, владевшего искусством рукопашной схватки. О луках тоже не стоило забывать: пользоваться ими шинкасы умели.
Под их выкрики и волчий вой Скиф поднялся и отступил к краю светового круга. Тха, покинув свое высокое сиденье, потрясал кулаками; глотка его извергала брань, щеки налились кровью.
– Моча хиссапа, блюющий кафал, гнилая плесень! Твой перепить пеки, а? Твой не стоять на ногах, вонючий ксих? Твой не держать топор? Твой спотыкаться, как жеребая кобыла? Недоумок, мокрица, падаль, отродье зюлы! Забрать твой Хадар! Забрать в Великую Паутину, пожрать сердце и печень, выколоть глаза, набить брюхо дерьмом!
– Подожди ругаться, толстозадый, – сказал Скиф, – может, твой ублюдок еще меня прикончит. Луна ведь только поднимается. Мы…
Он собирался сказать, что у них с Когтем еще хватит времени для танцев, но противник прервал его. С утробным воем вскочив на ноги, он ринулся к Скифу, и следующие четверть часа тот уворачивался, как змея, прыгал то в сторону, то вверх, падал в сухую траву, ударами башмака о топорище изменял смертельный полет секиры, успевая ткнуть шинкаса отточенной проволокой в руку или в плечо. Кровь, мешаясь с потом, струйками текла по груди Когтя, воздух клокотал в его глотке, тяжелый топор вздымался уже не с прежней резвостью, однако натиска шинкас не ослаблял Его соплеменники улюлюкали и рычали, Тха то стучал в барабан, поощряя своего бойца, то прикладывался к чаше, то бил себя по толстым коленям. Невольники по другую сторону костра оживились и, как показалось Скифу, о чем-то расспрашивали Джамаля. Но Наблюдатель и звездный странник внимания на них не обращал. На его небритой пыльной физиономии застыло выражение тревожной сосредоточенности, пальцы терзали ошейник, будто князь хотел оторвать его вместе с головой. Судя по всему, он не был уверен в том, кто окажется победителем, и мучился от бессилия.
Пора кончать, решил Скиф. Руки его вдруг распростерлись наподобие птичьих крыльев; правая, с зажатой в кулаке проволокой, пошла вниз, коснулась земли, подбросила вместе с ногами-пружинами тело в воздух; левая, с плотно сложенными пальцами, метнулась вперед, ударила, словно острие клинка, нацеленного в горло. Прием сей назывался поэтично, с присущей Востоку изысканностью: «южный ветер летит, окуная в воду одно крыло». Вот другим-то он и врезал Когтю – под самую челюсть!
Шинкас захрипел, опустил секиру и, шатаясь, сделал несколько шагов назад. Сейчас он находился спиной к костру, и желтые языки пламени как бы обтекали высокую темную фигуру; искры огненным фонтанчиком вихрились над головой, улетая вверх, в ночное небо. Миа, багровая луна, стояла уже высоко, над горизонтом показался краешек диска серебристого Зилура, звезды горели многоцветьем сказочного фейерверка. Но за ними, за космическим мраком, чудилась Скифу иная тьма – черный полог Безвременья, о котором говорил Джамаль. Темпоральный вакуум, тропинка к иным мирам, к Фрир Шардису, к Ронтару, Альбе, Земле… к Амм Хаммату…
Коготь, прикрываясь топором, пытался увернуться от града ударов, но Скиф безжалостно загонял его в костер. Удары не были смертельными, но шинкас, хрипя и булькая поврежденным горлом, не мог ступить и шагу; сапоги его начали тлеть, потом занялись кожаные штаны, и Коготь испустил хриплый тоскливый вопль – точно волк, почуявший свою погибель. Он уже стоял в начале вечной тропы – не той, что вела сквозь пустоту Безвременья к иным равнинам и небесам, но убегавшей прямиком в пасть Хадара. К смерти и забвению!
В руке Скифа блеснула проволочка, метнулась к левой глазнице дикаря, вошла под череп, жалящей змейкой проникла в мозг…
Хрип и вой смолкли, секира выпала из рук Когтя. Он начал оседать на подгибающихся ногах, опрокидываться в костер, но победитель, ухватив мертвеца за волосы, выдернул тело из огня. Запах паленой кожи и обгоревшей плоти ударил по ноздрям; сморщившись, Скиф поднял топор, отступил, волоча труп по траве, швырнул его на землю перед Гиеной, замершим в остолбенении, и сказал:
– Ну, хорошо повеселились вы с Шамахом? Прекратим пляски или продолжим?
Продолжение было ему на руку: если прикончить Клыка и Ходду-Коршуна, отряд останется без главарей. Лучше всего вызвать на поединок Тха, Полосатую Гиену, но об этом Скиф и не мечтал; вождь шинкасов слишком ценил свою шкуру, чтобы сражаться с мутноглазой длинноносой зюлой, уложившей лучшего его бойца.
Тха пришел в себя, спустил штаны и помочился на труп Когтя – высшая мера презрения среди шинкасов.
– Хадар любить соленое мясо, – выдавил он и кивнул воинам. Они обступили Скифа редкой толпой, настороженные, с топориками и луками в руках; десятки щелочек-глаз уставились на него, пасти приоткрылись, смрадное дыханье стаи хищников отравило воздух. Сейчас бросятся, решил Скиф и вскинул топор к плечу.
Но Тха, не подавая сигнала к нападению, деловито подтянул штаны и сказал:
– Мой веселиться, хорошо веселиться, и Шамах, Всевидящий Глаз, тоже. Хей-хо! Мой не видеть, чтоб голой рукой убить воина с топором. Никогда не видеть! А? – Он обвел взглядом своих людей, молчаливых, словно гранитные изваяния, потом ткнул Скифа кулаком в грудь. – Чудо! Такой чудо жаль отдать арунтан! Жаль делать сену! Такой, – он ткнул Скифа под ребро, – драться, с кем велю! Убивать! Убивать Большеногий из Клана Коня, убивать Длинный Волос, убивать Змей-Кигу, убивать самый главный – Четыре Рога из Быков! И тогда мой – главный! Клык – вождь левого стремени, Ходд – правого, Копыто, Дырявый и Ноздря – с тысячей воинов позади! Хорошо, а? Мой бить в барабан, все пускать стрелы, бить топором, хватать падаль, делать сену! Моча хиссапа! Идти к горам, жечь город с ведьмами! Идти в лес с синим мхом, брать трусливых ксихов, тащить к арунтан! Идти к Петляющей реке, брать поганых зюл Синдора, тоже тащить к арунтан! Много воинов – много добычи!






