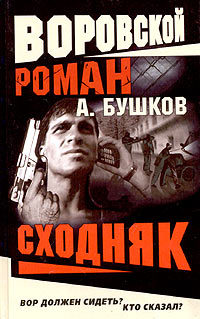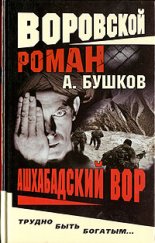Безумное танго Арсеньева Елена
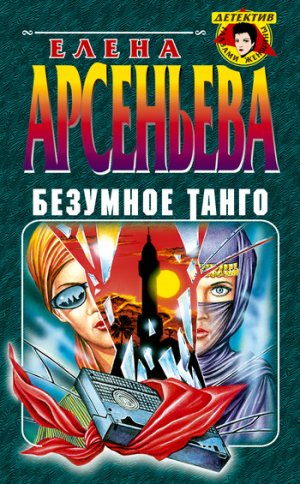
Рука Алёны зависла над столиком в поисках флакона с йодом. Вот странности, его нет. Подошла с шкафчику с лекарствами, который стоял в глубине операционной, но йода не оказалось и там.
– Ну, моя дорогая… – пожала полными плечами Фаина Павловна. – Непорядок, непорядочек. Пойди-ка принеси и сделай все как надо. Уж не знаю, чем твоя голова занята. Если опять за Ингу переживаешь, то вот мой тебе совет: плюнь ты на нее! Взрослая девка, своим умом живет, у нее своя судьба, и не тебе…
Алёна закрыла двери операционной, отсекая рассудительный голос Фаины Павловны.
Все правильно. Все именно так, как она говорит. Своя судьба, своя голова на плечах… Очень даже соображучая голова, кстати сказать! Первое, что брякнула Инга, узнав, что в центре «Ваш новый образ», где работает старшая сестра, начали делать операции по восстановлению девственной плевы, было:
– Ну наконец-то! А то тут один хахаль недавно брякнул, что всю жизнь мечтал переспать с девочкой, да их, говорит, теперь уже днем с огнем не сыщешь. Я ему уже хотела посоветовать к своей сестричке обратиться, но теперь, похоже, своими силами обойдусь. А запиши-ка ты меня на эту операцию, вот он вытаращит глаза, когда в следующий раз протолкаться в меня не сможет! А я ему так и скажу: я теперь девочка, если целку порвешь, в загс поведешь! Как ты думаешь, он сделает мне предложение? И, кстати, эту операцию небось не один раз проводить можно? Это какой же простор для аморалки!
И захохотала, повалившись на диван, высоко задрав ноги, чтобы сестра видела: трусиков Инга по-прежнему не носит. Для удобства употребления, как она выразилась однажды…
Алёна постояла перед аптечным шкафом, пока не рассеялись перед глазами эти желто-красные круги и она разглядела на верхней полке с десяток пузырьков с йодом. Черт бы их подрал! Черт бы подрал эту Фаину! Зачем она брякнула про Ингу? Нарочно, определенно нарочно – ведь прекрасно знает, как ранит Алёну, что похождения ее сестрички известны всем и каждому! Главное, все утро потратила на попытку успокоиться перед операцией, и ей это даже почти удалось, а теперь снова… Ого, как дрожат руки, удастся ли точно попасть в вену или, как в прошлый раз, истычет всю руку пациентки?
– Что-то ты долго, – холодновато сказала Фаина Павловна, когда Алёна вернулась в операционную. – Соберись, соберись!
– Может быть, позвать другую сестру? – послышался голос, и Алёна увидела не замеченную прежде Соню Колобанову, старшую медсестру, которую дернуло именно в этот момент заглянуть в операционную. – А что с тобой, Васнецова, какие-то проблемы?
– Со мной все в порядке, – холодно ответила Алёна и высоко подняла руку, показывая пузырек. – Просто ходила за йодом, только и всего.
– Об этом надо было позаботиться до операции, – буркнула Колобанова, но тут окончательно потерявшая терпение Фаина Павловна нетерпеливо махнула на нее рукой, и Соня захлопнула дверь с такой поспешностью, что едва не прищемила свой длинный и не в меру любопытный нос.
– Мы начнем когда-нибудь? – В голосе гинеколога звучали металлические нотки.
Алёна торопливо смазала злосчастную папиллому, аккуратно отломила горлышко ампулы и распечатала пакетик со шприцем. И тут же вспомнила, что забыла проверить вены пациентки. О господи, да что за напасть!.. Хоть лоботомию делай, чтобы не думать об этой поганке, которую судьба дала ей в сестрицы!
Спасибо, вены у Надежды оказались хорошие. Настолько худые руки, что каждая жилочка видна. И при этом сильные руки, вон какие загрубелые ладони!
Да, она еще кое-что забыла.
– У вас аллергические реакции есть какие-нибудь?
– Это в смысле на пенициллин? – взглянула на нее Надежда. – Нет, бог миловал.
– Пенициллин мы вам вводить не будем. На нейролептики, на самбревин? На обезболивающие, я имею в виду?
– Когда зуб рвали – кололи, все в порядке было.
– Аборты делали? Никаких осложнений?
Надя оглянулась на Фаину Павловну, потом опять робко воззрилась на Алёну:
– Нет… у меня первый выкидыш был, а потом я уж не беременела…
В глазах у нее мелькнуло извиняющееся выражение, и Алёне, непонятно почему, вдруг стало стыдно за свои профессионально холодные вопросы.
Она протерла место будущего укола ваткой со спиртом:
– Сейчас обезболивающий укол – и все. Спокойно лежите. Это совершенно не больно.
– Я не боюсь, не переживайте, – шепнула Надя, и Алёна взглянула ей в глаза, изумленная ноткой сочувствия, прозвучавшей в этом хриплом от волнения, срывающемся голосе.
Это надо же! Сама едва жива от страха и еще пытается кого-то утешать!
Ей вдруг стало стыдно собственного внутреннего хихиканья, с каким она встретила немолодую пациентку, решившую в полном смысле слова начать новую жизнь… в смысле, новую половую жизнь. Попыталась улыбнуться, но под маской Надежде все равно не было видно ее улыбки, и Алёна только шепнула – как могла ласково:
– Все будет хорошо. Все будет очень хорошо!
Надежда моргнула в знак согласия и пошевелилась, как бы устраиваясь поудобнее.
Алёна отошла положить шприц, Фаина приблизилась и встала над изголовьем пациентки.
Надежда лежала, чуть повернув голову, разглядывая столик с лекарствами.
«Интересно, о чем она сейчас думает? – Алёна отложила шприц и взяла пациентку за запястье. Пульс хороший, немножко неровный, но это от волнения. – Может, об этом своем… как его там? Фаина вроде бы говорила, что он младше ее. Надо же, какая любовь! А Надюше за сорок. Значит, это бывает в любом возрасте!»
И голос Инги, словно по какому-то дьявольскому приказу, вдруг зазвучал в памяти, – насмешливый, презрительный голос:
«Конечно, чем раньше, тем лучше, но, по-моему, в любом возрасте начинать не поздно. Ничего, мальчики у меня хорошие, с понятием, поймут, что такое чудо природы, как ты, требует бережного обращения. А если тебе не понравится, твоя Фаина тебя быстренько заштопает – и ты снова сможешь смотреть на меня с этой брезгливой мордой, по которой мне иногда так и хочется вдарить!»
– Она уснула, – сказала Фаина Павловна, становясь в изножье кресла и беря инструмент. – Алёна, а тебе спать вряд ли стоит. Подойди ко мне, смотри, учись, не век же тебе в медсестричках бегать.
Операция началась.
Когда Алёна смотрела на руки Фаины, то всегда забывала, какая же она, в сущности, противная и скандальная тетка. Пальцы ее двигались так точно, экономно, проворно! Иногда Алёна думала, что если бы эти операции не носили столь интимного характера, если бы обновленную девственную плеву можно было извлечь из женского лона и как следует разглядеть, то зрители залюбовались бы тщательностью и тонкостью наложения стежков, как любуются художественной вышивкой!
Трудно было отвести глаза от работы Фаины, однако вдруг Алёна заметила, что худой живот Надежды покрылся испариной. Взглянула на ее лицо…
Что такое? Глаза приоткрыты, видны белки, на лбу испарина.
– По-моему, ей нехорошо, – пробормотала она, берясь за пульс – и ахнула: пульс еле прощупывался.
Тоненькая ниточка слабела с каждым мгновением. Внезапно тело Надежды судорожно сжалось, вновь распрямилось…
– Да что там? – раздраженно прикрикнула Фаина. – Я же ее снова порву! В чем дело? Проверь давление!
Алёна суматошно огляделась в поисках тонометра. По идее, манжетка должна была быть надета на руку больной, но кто и когда это делал при таких незначительных операциях, как аборт или восстановление плевы, при получасовом рауш-наркозе, когда человек ненадолго вырубается и скоро опять приходит в себя? Давление отслеживали по пульсу… а пульс едва прощупывается. Значит, у Надежды давление катастрофически падает!
Что такое? Неужели все-таки аллергия на самбревин? Но первое применение аллергена не дает катастрофических результатов, только повторное, а ведь Надежда уверяла, что ни разу не делала аборта. И вообще это не картина аллергии, когда больной начинает задыхаться от отека гортани, хрипит, конвульсивно хватается руками за грудь, теряя сознание от удушья. Что с ней?..
– Господи! Пульса нет!
Фаина Павловна воздела руки в окровавленных перчатках, мгновение постояла, немо глядя на Алёну, потом вздохнула так глубоко, что маску втянуло в рот.
Раздраженно сорвала ее, принялась стягивать перчатки, неотрывно глядя на бледное, покрытое крупными пятнами пота лицо Надежды с закаченными глазами и бессильно приоткрывшимся ртом.
Схватила другую руку, отбросила, не найдя и признаков пульса:
– Адреналин! Массаж сердца! Вызывай реаниматора! Мы ее теряем!
Алёна Васнецова. Май 1999
– И что? – глухо спросил Юрий.
– Ну и… – Алёна помедлила с ответом. – Ну и все. Потеряли.
– Значит, она умерла? – уточнил он, как будто тут еще что-то требовалось уточнять.
Алёна кивнула, утыкаясь лицом в подушку. На какой-то миг стало жутко: а вдруг Юрий сейчас вскочит и убежит, наконец-то поняв и поверив, что ее истерические выкрики – не пустая болтовня, что за ними – судьба и смерть конкретного человека, случившаяся по Алёниной вине, из-за недосмотра, служебной, так сказать, халатности. Но рука Юрия на ее плече не дрогнула, и все так же тепло дышал он ей в затылок, и так же мерно вздымалась грудь, прижатая к ее спине.
Не сказать, что Алёна чувствовала его тело: все-таки их разделяли три одеяла, в которые она была укутана, как куколка в кокон. Но он, конечно, оказался прав: вдвоем теплее. Это ощущение дружественной, более духовной, чем физической, близости крепко прижавшихся друг к другу тел оказалось именно тем средством, которое помогло Алёне не только успокоиться, но почти прийти в себя. Как странно – испытывать такое доверие к человеку… к мужчине! Сколько раз, лежа распластанная под каким-нибудь смуглым телом, отчаянно трудясь над ним сверху или исступленно работая ртом, она спасала душу и рассудок только тем, что давала себе отчаянные клятвы: никогда, ни за что, ни с кем больше! Если это будет зависеть от нее, никогда ни один мужчина не коснется ее тела. Физической близости было за эти месяца столько, что хватит воистину на всю оставшуюся жизнь! То, чем раньше Инга пугала ее, чем могла заронить хоть зерно сомнения в ее девственную душу: судьба их двоюродной бабушки Варвары Васильевны Громовой, прожившей век в одиночестве, так и не нашедшей себе никого после гибели мужа, не нажившей ни семьи, ни детей и с возрастом совершенно одичавшей от своей неприкаянности, – теперь казалось Алёне самой завидной участью. Но все-таки в такой вот близости лежащих рядом людей что-то есть… что-то особенное.
Она так глубоко утонула в своих мыслях, что вздрогнула, услышав тихий голос Юрия:
– И все-таки я не понял… Если не было аллергических реакций, как ты говоришь, почему же Надя тем не менее умерла?
– Чего тут понимать? – буркнула Алёна, дернув плечом так, словно ей было совершенно необязательно, чтобы его рука продолжала лежать на этом плече. – Умерла она не от аллергии, а от переизбытка инсулина.
– То есть как? – удивленно выдохнул он, и ее стриженому затылку снова стало тепло от его дыхания.
– Молча! Я ей впрыснула инсулин, оказывается.
– А разве на ампуле…
– На ампуле не было никакой надписи, – перебила Алёна. – В том-то и штука, понимаешь? Такое сплошь и рядом бывает, что маркировка стирается. А поскольку я сама ее взяла из упаковки с самбревином, из ряда других точно таких же ампулок, причем там половина была с надписями, половина без, то у меня и сомнений никаких не могло возникнуть.
– Значит, это выяснилось при вскрытии, ну, что инсулин стал причиной?..
Алёна тяжело вздохнула.
– В том-то и дело, что инсулин при вскрытии найти невозможно! Это ведь гормон, который вырабатывается нашим организмом. При диабете его резкая нехватка, необходимо добавлять искусственно. А в нормальном, здоровом организме количество его строго дозировано. Есть, правда, такая болезнь – гиперинсулемия, это антипод диабета. Больной гиперинсулемией человек болезненно реагирует на все сладкое, для него даже лишнее яблоко съесть – уже значит вызвать приступ, потому что резко увеличивается количество инсулина в организме. А Наде я впрыснула целую ампулу…
– Нет, и все-таки, – упрямо сказал Юрий. – Каким же образом было установлено, что Надя погибла именно от инсулина? Ах да! Ну какой же я тупой! В ампуле что-то оставалось на дне, на стенках? Наверное, в милиции провели анализ этих остатков, и…
– Провели, – усмехнулась Алёна. – Только не в милиции. Понимаешь, когда мы поняли, что Надюша уплывает, такая началась суматоха! Мы реаниматоров вызвали, там куча народу как-то образовалась. И в этой сумятице ампула исчезла. Не сама по себе – вместе со всем содержимым кюветы, куда я складывала мусор: ватки использованные, осколки отломанного горлышка ампулы, ну, всякое такое. Почему-то исчезло абсолютно все. В этом пытались обвинить меня: я, мол, скрыла следы преступления, – но нашлись люди, которые подтвердили, что я оставалась все время на виду, никуда ничего не выбрасывала, не выносила. Да я вообще была в таком состоянии… Каждую минуту думала, что вот сейчас арестуют и поведут в тюрьму. Но никто меня не трогал, только допросы были, конечно. Но что я могла сказать? Ампулу я накануне операции взяла из фабричной упаковки, ввела больной то, что было в этой ампуле… Если это все-таки был самбревин, Надя могла погибнуть только от аллергии. Но картина не аллергическая – картина, типичная для передозировки инсулина. Однако это обнаружить невозможно. И ампула исчезла, неизвестно, был ли это инсулин или все-таки самбревин, на который Надя дала такую страшную реакцию. Замкнутый круг! Сказка про белого бычка! В конце концов эксперты дали такое заключение: смерть наступила от аллергической реакции на самбревин, ну, там как-то иначе написали, но суть такая. Короче говоря… короче говоря, меня оставили в покое, дисквалифицировав как медработника.
– Короче говоря, – повторил Юрий. – Значит, есть о чем говорить длинно?
Алёна промолчала. Есть, как не быть! Только не хочется. Вообще ни о чем не хочется говорить. Хочется просто так лежать и радоваться, что наконец-то удалось согреться, что потянуло в сон, и было бы здорово сейчас задремать, забыться…
– Погоди-ка. – Голос Юрия вонзился в тоненькую паутинку дремоты и порвал ее. – А что ты имела в виду, когда сказала, что анализ все же провели, но только не в милиции?
Да, надо было ожидать, что он прицепится к этим словам. Угораздило же сболтнуть…
– Понимаешь, – неохотно пробормотала Алёна, – не знаю, какое у тебя по моим словам сложилось впечатление о Фаине Павловне, но в этой истории я ей обязана очень многим. Даже не ожидала, что она поведет себя так достойно. Все время твердила, что это была несчастная случайность, что дело не в моей служебной халатности, а в трагическом недосмотре упаковщицы на фабрике, ну и все такое. Она клялась и божилась, что я не могла, не было у меня такой возможности – выбросить ампулу и весь остальной мусор. Словом, она стояла за меня горой и, как я подозреваю, привела в действие какие-то свои очень даже немаленькие знакомства. Ей и самой тяжело пришлось, ведь это такое пятно легло на центр – ужас! Нет, конечно, никакой информации никуда не прошло, Фаине как-то удалось этого добиться. Но ведь этот несчастный укол я сделала в ее присутствии… С точки зрения Рашида, виноваты были мы обе.
– С точки зрения Рашида? А это еще кто?
– Это парень с Мытного рынка, азербайджанец, кажется, жених бедной Надежды. Ради него, вернее, из-за предрассудков его матери она и решилась на операцию. Не решилась бы – жила бы и жила в свое удовольствие вместе с этим Рашидом. Похоже, он ее крепко-таки любил. Я его дважды только и видела, но этого хватило… – Ее снова начал бить озноб. – В январе и феврале, пока не уехала в Амман, я жила под страхом смерти. Пряталась по знакомым, по подружкам сестры, даже в Выксе у тетушки пыталась скрыться, но… Понимаешь, у меня тетка – мирская послушница, у нее одна цель в жизни: самой монашкой стать и нас с Ингой – это сестра моя – в монастырь пристроить. И пока я у нее жила, она меня до такой степени достала неизбежностью пострига, что даже Рашид стал казаться меньшим злом. Теперь-то я, дура, понимаю, что она была совершенно права, мне Бог еще тогда знак давал, на какую стезю следует стопы свои направить, ну а тогда я боялась монастыря, как последняя идиотка. Мне Бог просто-таки в лоб стучал: вот, вот где спасение, а я… А тут как раз позвонила Фаина, я и вернулась в Нижний. Вот уж правда, что кого Бог хочет погубить, того лишает разума.
– По-моему, ты совсем запуталась, – перебил Юрий. – То Бог наставлял тебя на путь истинный, то разума лишил…
– Наставлял, – упрямо кивнула Алёна. – Сначала пытался наставить, а потом, когда увидел, что я не внемлю свету и в темноте своей упорствую, отступился от меня и предоставил дьяволу.
– Вот в чем-чем, а в теологии и софистике я не силен, – хмыкнул Юрий. – Поэтому сдаюсь без боя. Однако ты все время норовишь уйти от ответа: что же все-таки случилось с ампулой?
– Ах да… – неохотно протянула Алёна. – Ампула потом нашлась. Вернее, она никуда и не девалась. Ее сразу забрала и спрятала Фаина Павловна.
– По-нят-но, – пробормотал Юрий. – Знаешь, я почему-то именно так и подумал.
– Значит, ты умнее меня, – вздохнула Алёна. – А мне это и в голову не могло прийти. И когда Фаина вдруг показала мне ампулу и заключение независимого эксперта, я только и знала, что смотрела на нее и недоумевала.
– И чем же она объяснила свой поступок?
– Заботой обо мне, чем же еще! Мол, ей сразу стало ясно, что Надюша умирает от передозировки инсулина, но она сообразила, что мне очень трудно будет оправдаться, если ампулу найдут. Нет ампулы со следами инсулина – нет и категоричного ответа. Возможны, так сказать, варианты. Ну что ж, Фаина оказалась права, ведь в заключении судмедэкспертизы подтверждался факт аллергической реакции!
– То есть Фаина тебя от тюрьмы спасла, я правильно понял? – уточнил Юрий.
Алёна молча дернула плечом: выходит, так. Выходит, спасла.
– Вот это я понимаю: ловкость рук и никакого мошенства. Как же ей это удалось сделать, что никто не заметил?
– А кому замечать? Я была в полной отключке, в такую истерику впала, что до сих пор стыдно вспомнить. И сначала мы с ней были вдвоем около Надежды, народ уже потом, где-то через несколько минут набежал. Да ты и сам говоришь: ловкость рук…
– И по какой причине, интересно знать, она так старалась?
Алёна чуть не засмеялась этим ноткам неприязни, прозвучавшим в голосе Юрия. Вот это солидарность!
– А как насчет человеколюбия vulgaris у Фаины?
– Да ведь ты и сама в это не больно-то веришь, так?
– Ну, так, – пробормотала Алёна неохотно. – Фаина спасала себя почти в такой же степени, как и меня. Одно дело – непредвиденная реакция организма, другое дело – преступная халатность. Конечно, ее не посадили бы, наверное, даже не лишили бы лицензии, но все равно… А центр, работа в нем – это ее жизнь, ради этого она на все готова.
– Даже тебя отмазать?
– Даже на это.
– То есть ты ей как бы благодарна, я так понял?
– Ну да… как бы.
– Не получается, – озабоченно сказал Юрий.
– Что не получается?
– Вернее, не стыкуется.
– Да ты о чем?!
– Если ты ей как бы благодарна, если признаешь, что она вела себя по отношению к тебе достойно и благородно, – за что же ты ее так ненавидишь?
Варвара Васильевна Громова. Май 1999
– «…Через несколько дней она вдруг проснулась с чувством тревоги. В комнате стоял какой-то странный холод. И жуткая тишина. За занавесками обозначился чей-то силуэт. «Это ты?» – позвала она сына. Ночь словно расступилась, и из темноты вышел… муж. «Ну что, хорошо на моей крови живешь?» – спросил глухим голосом…»
Варвара Васильевна споткнулась на ступеньке. Да, хорошо читают! Не зря «исполнительница» долгие годы работала диктором на вокзале: объявляла прибытие и отправление поездов. Конечно, от этого у нее в голосе поселился некий металл, однако сейчас это очень кстати: газетная заметочка в ее исполнении звучит ну прямо как сцена из «Макбета», честное слово!
Чтение между тем продолжалось:
– «Женщина так и обмерла. «А раны мои хочешь потрогать?» – снова спросило видение и приблизилось. Распахивая на себе окровавленную рубашку. Женщина упала в обморок. Наутро у нее по телу пошли красные пятна…»
На втором этаже хлопнула дверь, зазвучали шаги.
Варвара Васильевна сжала зубы. Ну сколько можно стоять в подъезде, не решаясь выйти? Не хватало, чтобы кто-нибудь увидел, как она, затаившись, слушает всякие глупости! Нет, надо выходить. В конце концов, это не страшнее, чем рукопашный бой. Странно все-таки, что, когда длилось это кошмарное разбирательство, соседи были вроде бы на ее стороне, сочувствовали, даже как-то передали печенье и сок в камеру, где она немного просидела, пока совет ветеранов не добился изменения меры пресечения на подписку о невыезде. А потом ее вообще оправдали. Но тут соседок словно подменили. Особенно эту Нинель Петровну, эту чтицу-декламаторшу, артистку погорелого театра!
Варвара Васильевна оторвала от пола затекшую ногу, сделала шаг, потом управилась с другой ногой. Вышла на крыльцо и успела увидеть, как одна из соседок, сидевших на лавочке, толкнула в бок вальяжную женщину с темно-фиолетовыми волосами, которая держала в руках «Ведомости». Варвара Васильевна холодно поздоровалась со всеми и прошла мимо, отметив, что вслед ей прозвучал один только робкий отклик:
– Здра… – и тут же замер, будто отступница от общего бойкота сама себе зажала рот. Или ей зажали, что вернее.
Почему-то вспомнилось, как тот темноглазый парень в спортивной шапочке, натянутой на лицо, скучным, мудрым голосом изрек: соседки, мол, везде одинаковы, старые суки, которым в кайф, когда у кого-то беда. Прав он был, фашист «Адидас»!..
А газетка та самая, точно. Сначала Варвара Васильевна решила, что еще какой-то бульварный листок перепечатал эту чушь, но нет: тот же «Губошлеп», как называли в народе газету «Губернские ведомости» за ее пристрастие к поганым сплетням, частенько измышленным самими же сотрудниками желтого листка. Теперь нет сомнений, кто подкинул ей вчера в почтовый ящик эту газетенку, предварительно отчеркнув красным карандашом заметочку с жутким названием: «Труп навещает убийцу». Что характерно, заметка была набрана белым шрифтом на черном фоне, так что Варваре Васильевне пришлось надеть вторые очки, прежде чем в глазах перестало рябить и она смогла докопаться до смысла этой жути.
Жуть состояла в том, что в собственной квартире был зарезан какой-то не очень бедный человек. Подозрение пало на его пасынка. То есть он не сам убивал, но привел в дом тех, кто расправился с хозяином. Однако пасынка освободили от ответственности: и несовершеннолетний еще, и справку из психиатрической лечебницы мать выправила. Зажили наследники припеваючи, однако в скором времени начал являться в их квартиру призрак убитого, пугал до смерти, а наутро у преступных матери и сына возникали на теле красные пятна… Сын вскоре умер от неизвестной болезни; мать продала квартиру и уехала куда-то.
«Переедешь, наверное, – мрачно подумала Варвара Васильевна. – Можно себе представить, как ее донимали все кому не лень. Неизвестно, виновата, нет, убивала, нет, – главное, побольнее ударить человека, причем совершенно безнаказанно».
Ну вот, не хватало еще, чтобы она начала жалеть, как товарищей по несчастью, каких-то незнакомых убийц, причем вполне вероятно, что выдуманных.
Однако какова пакость эта Нинель Петровна! Обнаглела! Почему она так уверена, что Варвара Васильевна ее не спросит прямо?
Варвара Васильевна резко повернулась и пошла к подъезду, откуда доносилось громогласное:
– Это же закон! Закон небесной справедливости! Если наши суды не могут наказать преступников, их карают небеса. «Поезд номер 38 сообщением Москва—Горький прибывает к первой платформе!»
Впрочем, увидев стремительно приближающуюся Варвару Васильевну, Нинель Петровна осеклась и заерзала на лавочке, будто собиралась вскочить и дать деру, но все же осталась сидеть: слишком тесно была стиснута с двух сторон своими благодарными слушательницами.
Глядя в ее испуганно заметавшиеся, некогда фиолетовые, а ныне выцвевшие глаза, Варвара Васильевна негромко спросила:
– Нинель Петровна, зачем вы мне в почтовый ящик подсунули «Губернские ведомости»?
– Я не… – шлепнула та губами, но тут же, поняв, сколько куботонн авторитета теряет среди подружек-сплетниц, возмущенно взвилась: – Я ничего вам не подсовывала! Что вы себе позволяете?!
– А что я такого особенного себе позволяю? – притворно удивилась Варвара Васильевна. – Я только хочу поблагодарить вас, что подсунули мне интересную газетку. Я ее никогда не покупала – брезговала, знаете ли, – но для разнообразия прочла. И спасибо, кстати, что самую интересную заметку обвели красным карандашом. Ту самую, которую вы сейчас с таким пафосом исполнили. Интересная тема, правда? Но неужели вы всерьез воспринимаете всю эту ахинею? В ваши-то годы, прожив такую бурную жизнь, и еще верить в бродячие трупы и… небесную справедливость?
Ужасно, ужасно хотелось напомнить Нинельке, что ее-то есть за что карать небесам! Например, за то, что сдала в дом престарелых своего отца, полупарализованного старика. Варвара в то время была в санатории, а иначе, может быть, и образумила бы соседку. Со стариком она была дружна: он ведь тоже воевал, правда, на Севере, но им было о чем вспомнить вместе. Когда Варвара Васильевна вернулась, дед уже умер, не пробыв в доме престарелых и двух недель. Тогда Варвара все высказала Нинельке в лицо – все, что о ней думала. Да толку-то! Вскоре соседка выжила из квартиры прописанную там внучатую племянницу, и теперь девочка скитается с ребенком по общежитиям, хотя у нее есть все основания поселиться в трехкомнатных хоромах, где Нинель сейчас обитает одна, даже без кошки и собаки. Только вот совестливая девочка не может пойти против бабки, хотя стоило бы. И бросить все это Нинель в лицо стоило бы, но Варвара Васильевна не смогла заставить себя сделать это. И не потому, что боялась… хотя нет, именно боялась! Боялась помойной свары, боялась грязи, которая разлетится вокруг зловонными липкими брызгами. А ей и так есть от чего отмываться. Поэтому она просто поглядела в глаза по очереди всем шестерым женщинам, которые жались на лавке (а все торопливо отдергивали от нее взгляды), и пошла своей дорогой.
За ее спиной раздалось шипящее:
– Я по крайней мере людей не убивала!
Варвара Васильевна резко вскинула голову, так что ее седые, легкие, коротко стриженные волосы взлетели облачком – и тут же послушно улеглись. Эта прическа была ужасно модной до войны и называлась «бубикоп» (женская стрижка под мальчика), но она так стриглась и потом, ведь трудно было с длинными волосами на фронте, а ей очень шли эти летящие кудряшки вокруг лица, и, главное, Даниле нравилось, ну а затем, все годы, прожитые без него, она делала только то, что одобрил бы Данила…
Нет, она не сбилась с ноги и не опустила плеч – зашагала еще четче, прямее, как в строю. Данила шел чуть впереди, оглядываясь через плечо, сверкал своими диковинными синими глазами:
– Тверже шаг, Варенька! Тяни носочек и ни о чем не думай!
Рядом с Данилой чеканил шаг угрюмый, тяжеловесный Серега Ухарев. Он тоже был влюблен в Варю, но безответно, мучительно, не скоро смирился с тем, что у его любимой любовь с другим и что самое тяжелое – с лучшим Серегиным другом, земляком и побратимом Данилой Громовым. Серега оглядывался, щурил глаза в улыбке, которая так редко освещала его лицо, совершенно преображая грубоватые черты, и хрипловато трубил своим прокуренным горлом:
– Варюша, держись! Ты теперь за всех за нас тут отстреливаешься – держись!
Рядом просигналил автомобиль – и дорогие, любимые лица исчезли. Варвара Васильевна даже не успела прощально улыбнуться им, но ничего, ей все-таки стало легче.
Она шла, не сбиваясь с твердого строевого шага, и думала: «А где эта Нинелька, интересно знать, была в 42-м, когда мы заживо сгорали от жары в курских степях? Когда брали Киев? Когда нас расстреливали на пражских улицах засевшие на чердаках фашисты-смертники?»
Этот вопрос, она знала, другие фронтовики тоже задавали тыловикам. Громогласно и возмущенно задавали его сразу после возвращения в чужую, странную и порою страшноватую мирную жизнь. Потом, спустя годы, – все тише, все горестнее звучал он. В последние годы спрашивали только мысленно – потому что все меньше оставалось тех, кто имел право задавать этот вопрос.
Варваре Васильевне в этом году исполнится семьдесят пять, Нинель младше ее года на четыре. Значит, в 45-м, когда Варя потеряла все самое дорогое в жизни, когда у нее оставалась одна Победа, воистину – одна на всех: и на нее, и на Данилу, и на Сережку, и на весь их скошенный пулеметным огнем взвод… и на ребенка, которого она потеряла, раненная в живот… сама едва выжила, какой тут ребенок! – значит, в 45-м, когда Варе исполнился двадцать один, Нинели было семнадцать. Она заканчивала среднюю школу – прелестная, высокая, немножко пухленькая девушка с загадочными фиолетовыми глазами, в которые не мог равнодушно глядеть ни один мужчина, особенно только что вернувшийся с этой мясорубки, которая называется войной.
Насколько знала Варвара Васильевна, Нинель рано вышла замуж и рано овдовела: муж ее, фронтовой лейтенант, спился года через три, когда какая-то тыловая крыса в очках сообщила ему, что он не годен ни к какой работе, а бесконечно травить байки об убитых фрицах – не тот род деятельности, за который начисляется зарплата. Так и умер. Может быть, тыловая крыса была и права: много знавала Варвара Васильевна таких ребяток, которым война оставила жизнь, отняв умение пользоваться ею… Потом Нинель еще четырежды выходила замуж: кого-то из мужей хоронила, с кем-то разводилась, но, как и Варвара, осталась бездетной и теперь одиноко доживала свой век.
Они кое-чем были похожи – этим своим одиночеством, например, даже без кошек и собак… Но одно существенное различие все-таки имелось. Нинель Петровна и впрямь никогда и никого не убивала. А Варваре Васильевне приходилось… Нет, не только на фронте: там это и убийством-то не считалось. Уже в мирной жизни. Причем совсем недавно – каких-нибудь три месяца назад.
Алёна Васнецова. Май 1999
Алёна сглотнула ком, внезапно образовавшийся в горле. Интересно, почему Юрий так решил? Уж не она ли сама что-то сболтнула?
Напряглась, пытаясь вспомнить, что кричала, когда началась эта постыдная истерика. Нет, вроде бы про Фаину речь не шла. Про Амман – да, про Алима, про то, как оттолкнула его с силой последнего отчаяния, а он возьми да и шарахнись виском о тяжелую бронзовую цацку в виде львиной головы с кольцом в зубах, исключительно в целях украшательских прибитую к гардеробу… Нет, не только в украшательских – еще и в человекоубийственных целях, как выяснилось!
Человек… Алёна не единожды сомневалась, человек ли вообще Алим или животное, лишенное даже понятия о жалости, милосердии, обо всем том, что отличает зверя от человека.
Она вонзила ногти в ладони, прогоняя морок ужаса, вновь подползающий к сознанию. Алим сладко улыбается ей в аэропорту и, прижав руку к груди, наклоняет голову, а его темные, непроницаемые глаза не отрываются от лица Алёны… Алим бьется в ее распятое на кресле тело своим телом, извергается в нее, размазывая по их слившимся бедрам кровь, смеется: «Если бы я знал, что ты девушка, оставил бы тебя любителям!» Алим показывает ей альбом , сладострастно дышит в ухо: «Это гурия Наргис[5], видишь, какая она была красавица? Настоящий скандинавский тип, моим гостям очень нравилась. К сожалению, гурия Наргис оказалась глупа, никак не хотела меня слушаться и была за это наказана. Вот это тоже она. Не узнаешь? Можешь поверить на слово. А это гурия Лу-лу[6]. Здесь она очень хороша, ничего не скажешь, а вот здесь ее опять не узнать, верно? Она тоже оказалась очень непослушной… А это гурия Туба[7], та самая девушка, про которую я тебе говорил. Она заработала здесь очень хорошие деньги и до сих пор вспоминает меня добрым словом!» Алёну снова передернуло от отвращения к приторным, отдающим дешевым одеколоном прозвищам девушек и от ужаса перед тем, во что превратило их «непослушание» Алиму.
Нет, не думать, не надо думать об этом!
Она перевела дыхание, попыталась расслабиться. Но не скоро удалось прорваться сквозь судорогу, стиснувшую горло, не скоро удалось найти слова для ответа на вопрос Юрия.
– Я ненавижу Фаину за то… за то, что она продала меня в рабство.
Тамара Шестакова. Май 1998 – август 1999
Роман вдруг споткнулся и захохотал.
Тамара покосилась испуганно. Он смотрел на рекламный щит: красивая бутылка с прозрачной, ключом кипящей водой, даже на вид ледяной, вкусной и удиви-тельно полезной, просто-таки жизнетворящей. Об этом же вещал и текст рекламы: «Вода «Серебряный источник» наполнит жизнью край родной!».
– Бред собачий, – прокомментировал Роман. – Мы что, в пустыне Гоби обитаем? Вода полезна для организма, об этом и должен быть текст. – Он прищурил лукавый карий глаз и, ни на минуту не замедлясь, выдал: – Вода «Серебряный источник» наполнит жизнью… мочеточник!
Тамара издала короткий смешок, но не сказала ни слова. Роман обиженно дернул углом рта. Ну конечно, он привык слышать в ответ восхищенный смех, видеть, как сверкают от восторга глаза Тамары. А вместо этого – скупое хмыканье, и снова на ее лицо наползла та же тень раздражения, которая затемняла его с самого утра.
Тамара опустила голову. Мысли Романа словно начертаны на том же рекламной щите. Только ей ведь куда печальнее оттого, что нет у нее сил по-прежнему реагировать на все эти милые глупости. Что-то изменилось в душе… Да и он тоже изменился. Раньше забеспокоился бы сразу, схватил бы в объятия, зацеловал, бормоча встревоженно:
– Том, ты что, Том? Ты меня, что ли, не любишь больше? А ну-ка улыбайся!
Или какую-нибудь такую же чепуху, которая ни ему, ни ей тогда вовсе не казалась чепухой.
Вот именно – тогда… А теперь идет как ни в чем не бывало, задрав бороду, улыбается в усы. И вид у него при этом – самодовольнее некуда. Перефразируя поэта, ты сам свой высший суд, всех выше оценить сумеешь ты свой труд, ты им доволен ли, взыскательный художник? А попросту, сам себя не похвалишь, никто не похвалит!
Тамара боялась вызвать его неудовольствие, опасалась критиковать его. Потому что, как это ни печально, теперь она нужна ему меньше, чем он ей, и он легко мог бросить ее. Как хорошо было, когда все обстояло наоборот…
Они шли мимо решеток на Покровке. Около решеток все проходили, глядя не прямо пред собой, а вывернув головы либо налево, либо направо, в зависимости от того, сверху шли или снизу. Таким образом нижегородцы приобщались к искусству на этой ежедневной выставке-продаже работ местных художников, живущих плодами своего мастерства и торговавших ими возле ограды маленького парка, окружавшего филфак университета.
– Шесть секунд, – вдруг сказал Роман и протолкался к осанистому дядьке с одутловатым лицом запойного пьяницы, стоявшему возле картин в стиле Бориса Вальежо: мускулистые красавицы в объятиях всяческих монстров.
При виде Романа лицо дядьки приобрело испуганное выражение, и он начал выворачивать карманы. Роман взял немалую пачку денег, пересчитал и спрятал к себе в карман, а когда дядька что-то сказал с просительным выражением, сунул ему под нос фигу, повернулся и пошел к Тамаре. Он не заметил, но она-то отлично заметила, с какой ненавистью смотрел на него продавец картин, как плюнул ему вслед…
– Ты что, не заплатил ему? – спросила Тамара.
– Он сам себе заплатил. С утра уже наклюкался – на какие деньги? Процент взял раньше, чем товар продал! – сердито ответил Роман.
Почему-то он всегда говорил о деньгах только сердито. Сначала Тамара этим умилялась: ведь о них в основном говорят с нежностью, с трепетом, с придыханием, с алчностью, и даже равнодушие всегда напускное, более или менее тщательно скрывающее жажду обладать ими. Роман говорил сердито. Не скоро Тамара догадалась, чем деньги так его злили. Тем, что никак ему не давались, вот чем! Но и потом, когда Роман по сравнению с прежними временами мог считать себя состоятельным человеком, он говорил с прежними сердитыми интонациями, обманывавшими свежих людей. Но не Тамару…
Она оглянулась на решетки. Вот здесь они когда-то познакомились… хотя встретились немножко раньше. Днем их первой встречи следует считать тот, когда она однажды вышла из подъезда и чуть не угодила в гору земли, вывороченной будто бы прямо из-под фундамента. Несколько рабочих били ломами и лопатами обнажившийся низ дома, а две старухи-собачницы с трудом удерживали на поводках ротвейлера и ризеншнауцера, которые, похоже, уже утомились облаивать разрушителей их жилища.
Хотя работа, как стало ясно со второго взгляда, шла скорее созидательная. Заброшенный подвал очищали, расширяли, облагораживали, чтобы превратить в офис (магазин, оказалось позднее). Обычное дело в наше время, и Тамара забыла об этом через секунду после того, как вышла со двора.
Работали строители, надо отдать им должное, споро и чисто, моментально, как цивилизованные люди, убирая за собой всякий строительный мусор. Единственным неудобством, связанным с их деятельностью, было то, что какое-то время к подъезду приходилось добираться не прежней прямой дорогой, а в обход, мимо гаражей, мусорных баков и зарослей полыни, которые к августу были уже выше человеческого роста. Тамара, которая вообще все бытовые дела делала на автопилоте, так привыкла к этой дороге, что продолжала ходить по ней, даже когда обычный путь расчистился. Из-за этого все в ее жизни и перевернулось с ног на голову.
В тот вечер она возвращалась около полуночи. Удалось взять отличный материал в «Рокко», где выступали стриптизеры-»голубые». Дам туда практически не пускали, но Тамару провел один визажист (тоже гомик, конечно), который когда-то работал в ее студии и был многим ей обязан. Честно говоря, Тамаре была многим обязана чертова уйма разного народу, но все они, завидев ее, теперь переходили на другую сторону улицы: «Шестакова? Тамара Шестакова? Кто такая, впервые слышу!» Ну а этот визажист оказался порядочным человеком. К тому же он был наполовину кореец, а значит, мудр, как всякий восточный человек, и предпочитал не плевать в колодец, даже если тот и кажется на первый взгляд высохшим.
В «Рокко» в тот вечер тако-ое творилось! Ну, может, по столичным меркам это было что-то вроде взаимной демонстрации писек и попок в детском саду, но с точки зрения провинциалов… Именно для газеты «Провинциал» и намеревалась Тамара сделать основной материал – обличающий. Хоть от нее теперь многие и воротили носы, но редакторы ведь не идиоты, для них нет хороших или плохих людей, есть хорошие или плохие журналисты, ну а писать Тамара умела, что да, то да! Толик Козлов, бывший оператор-алкоголик, а теперь директор самой престижной студии в городе, «2Н», сохранивший с Тамарой самые добрые отношения, но при этом не подпускавший ее к эфиру (персона нон грата!), как-то сказал: «Томка, ну какого черта ты тратишь время, ждешь у моря погоды? Пиши для газет, тебя с твоим пером всегда будут печатать, а телевидение – это не твое, ты слишком любишь слово, а на экране надо любить человека!» Тамара не верила, что телевизионные времена для нее кончены, но жить-то надо было…
Толик, пьяница этакий, оказался совершенно прав! Конечно, она печаталась теперь под псевдонимами, но редакторы-то знали, кто истинный автор материалов. Их и правда брали охотно, а псевдонимов можно навыдумывать на все случаи жизни. Только когда Тамаре взбредала фантазия увидеть свою статеечку в «Губошлепе», приходилось идти ну о-очень кружным путем и пускаться на разные смешные ухищрения, но цель оправдывала средства. К примеру, стоило лишь вообразить себе, что редактор «Губошлепа» Римка Поливанова, которую Тамара некогда выперла с телеканала за воинствующее лесбиянство, теперь украшает страницы своей тухлой газетенки публицистикой ненавистной Шестаковой, даже не подозревая об этом, как у означенной Шестаковой резко улучшалось настроение.
Вторую заметку, в разнузданно-обличительном духе, она завтра же отправит в «Губошлеп». В «Рокко» был оттуда фотокор, Тамара его приметила в толпе, однако знала: писать этот парень вообще не способен, в лучшем случае даст простейшую информацию, а вот посмаковать в подробностях поведение некоторых именитых гостей, которые пришли в клуб как бы брезгливо подергать губами, но к концу вечеринки совершенно расслабились и начали срывать со стриптизеров последнее оперенье, а с себя – фрачные брюки, – такое по плечу только…
Тамара споткнулась. В кустах, мимо которых она проходила, кто-то захохотал – так внезапно и отвратительно, что мурашки побежали по спине. «Дура, зачем я тут пошла!» – ругнула себя Тамара и на всякий случай повернула в обратном направлении, на асфальтированную дорожку, но тут вдруг зашуршали высоченные полынные стебли, и ей наперерез вывалилась какая-то фигура, умоляюще пробормотав что-то вроде: «Девушка, дай курнуть!»
– Я не курю! – сердито бросила Тамара, пытаясь обойти идиота. И ноги ослабели от страха, когда она увидела, что мужчина стоит в расстегнутых штанах, нянча обеими руками…
Ей стало тошно, заметалась туда-сюда, но он метался вместе с ней, бормоча умоляюще:
– Ну дай, дай…
– Пошел вон!
Тамара кинулась напролом через кусты, чтобы наконец-то избавиться от него, но тут кто-то схватил ее за руку и укоризненно сказал:
– Ну чего ты человека мучаешь, курва? Он что, дрочить теперь должен, раз ты такая грубая? Просит человек – значит, надо дать!
Ей вцепились в плечи, рванули – Тамара неуклюже повалилась навзничь. Завозилась, пытаясь вскочить, натянуть на колени задравшуюся юбку, но руки ей больно вывернули:
– Не мешай!
Она взвизгнула, еще не понимая, что происходит, не веря, все еще пытаясь вскочить, но какая-то темная тяжесть уже наваливалась сверху, комкала юбку, лапала грудь.
– Ой, скорей, ой, скорей! – причитал кто-то рядом, и Тамара вдруг услышала, как человек мелко топочет от нетерпения. – Я сейчас кончу, дай мне!
– Кончишь – так снова начнешь, – деловито пробурчал другой, грубо разводя Тамарины судорожно сжатые ноги и разрывая ее трусики. – Да не дергайся, что, не нравится, когда с передка? Я и в задницу могу, как скажешь!
Она взвыла от ужаса, пытаясь сбросить тяжелое тело… Он был не один, их было шестеро. В ослепших от слез, от боли и страха глазах замелькали фигуры, которые нетерпеливо топтались около стола, бормоча: «Шуня, давай скорей! Шунька, слазь, кто-то идет!» А этот парень со странным прозвищем Шунька словно не слышал тревожного шепота. Да он и криков Тамары не слышал, а она захлебывалась стонами: «Мне больно! Пусти, больно!» Ее уже достаточно измучили перед этим, но все остальные пятеро парней от нетерпения, от долгого воздержания и страха делали свое дело быстро, один почти не успел ее коснуться, как отвалился, засопел удовлетворенно… А Шунька возился, возился, сопел, кряхтел, то терзая губами ее шею, то нависая над Тамарой и роняя ей на лицо капли пота.
– Дурак, хватит! – закричал кто-то, но Шунька прохрипел:
– Не мешай! Я хочу, чтобы она тоже кончила. Пусть узнает, что это такое!
Услышав это, Тамара завизжала так, что мгновенно сорвала горло и уже только сипела задушенно. Шунька… нет, сейчас кто-то другой с усилием проталкивал в нее раздутую плоть, кряхтел от напряжения. И не в воспоминаниях, а наяву!
«Боже мой, да неужели опять?!» – вспыхнуло в мозгу. Вместе с этой мыслью вернулось осознание действительности, Тамара поняла, что валяется на земле в полыни, что судьба решила-таки поизмываться над ней во второй раз, но теперь ей этого не пережить. Она последним усилием попыталась вывернуться, задергалась, забилась, но на горло налегла широкая ладонь, и в глазах сразу завертелись огненные колеса. Гул в голове становился все громче, гасил сознание. Она еще билась, но все слабее, все реже.
«Задуши меня! Убей меня, ну пожалуйста!»
Губы дрогнули, пытаясь высказать эту последнюю мольбу, но с них не сорвалось и стона. Тело обмякло, ноги вяло раскинулись, и насильник довольно хохотнул, поняв, что сопротивление подавлено.
И вдруг воздух прорвался к пережатому горлу Тамары. Она слабо вздохнула, почти ненавидя себя за эту попытку вернуться к жизни, но поделать ничего не могла: дышала жадно, глубоко, громко всхлипывая, и за своими хрипами не сразу расслышала топот и звуки ударов.
Кто-то дрался рядом, жестоко, кроваво. Тамара приоткрыла заплывшие слезами глаза: двое били одного… нет, один бил двоих. Пригнувшиеся фигуры мельтешили в темноте, но вот одна метнулась в сторону и исчезла, а вторая повалилась на карачки, медленно поползла, мотая головой.
– Ку-да? – со злой насмешкой спросил человек, оставшийся на ногах. Вздернул ползущего, сильно встряхнул: – Ментов вызвать торопишься? Ничего, не спеши, я сам тебе ментом буду. Ну, говори, ты с ней что-нибудь сделал? Сделал? Успел?
– Не… не… – послышалось в ответ испуганное блеяние. – Она дергалась, я не… гадом буду, ничего не… да я хотел просто так побаловаться! Пусти, браток, я тебе… возьми в кармане деньги, только отпусти!
– Брато-ок? Козел в зоне тебе браток!
Он с новой силой встряхнул пленника, но, видно, не рассчитал: нечаянно выпустил его из рук. Тот какое-то мгновение перебирал ногами на месте, но тотчас спохватился и ринулся наутек, даже не оглянувшись.
Тамара, лежа на земле, смотрела вокруг неподвижными глазами, не веря тому, что случилось, не веря в спасение.
Незнакомое лицо склонилось над ней:
– Вы как? Вы ничего? Он вам действительно ничего не сделал?
Она бессильно шевельнула руками, не в силах даже юбку оправить, и мужчина осторожно сделал это за нее. Потом помог Тамаре подняться, а вернее, просто поднял ее и поставил на ноги, как куклу. Ноги у нее подгибались, и мужчина не выпускал ее, тревожно заглядывая в глаза и то и дело спрашивая:
– Ну, вы как? Как вы? Идти можете? – то принимаясь объяснять: – Я в подвале как раз докрашивал, вышел мусор вынести, слышу – а тут… – то неловко успокаивая: – Да не переживайте. Он же ничего не сделал, гад. Я понимаю, вы испугались, но больше не ходите этой дорогой, а я завтра же вырублю всю эту полынь, чтоб больше никто…
Тамара в ужасе оглянулась. Ее спаситель, чья майка белела в темноте, думал, что разогнал насильников, но она-то отлично знала: удрали только двое, а там, в темных, остро пахнущих зарослях, затаились остальные из ее прошлого и среди них – Шунька, который утирает пот со лба и бормочет своими толстыми губами: «Нет, я хочу, чтобы она кончила, со мной кончила…»
Тамара зажала рот рукой и, пригнувшись, метнулась куда-то, не разбирая дороги. Ноги сами донесли ее до подъезда, но она напрасно рвала и дергала дверь: кодовый замок не открывался.