Оболганный сталинизм. Клевета XX съезда Ферр Гровер
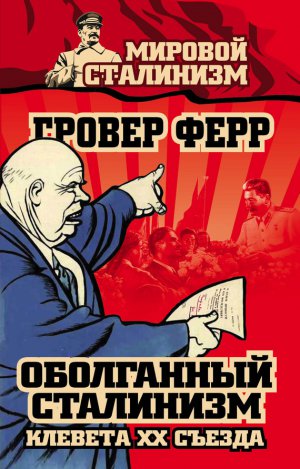
Многие из присутствующих знают, что т. Сталин не раз в этом духе высказывался и решительно осуждал немарксистское, эсеровское понимание роли личности в истории».
И далее Жуков отмечает:
«Ему (Маленкову. – Г. Ф.) не позволили собрать Пленум для осуждения культа личности. Кто именно – сегодня установить невозможно… Противниками же могли оказаться… Н. С. Хрущёв…»[43]
Июльский (1953) Пленум ЦК: нападки на Берию за критику «культа»
Выступая на июльском (1953) Пленуме ЦК, ближайший из хрущёвских приверженцев А. И. Микоян обрушился с резкой критикой Л. П. Берии за его отрицательное отношение к культу:
«В первые дни [после смерти Сталина] он ратовал о культе личности. Мы понимали, что были перегибы в этом вопросе и при жизни товарища Сталина. Товарищ Сталин круто критиковал нас. То, что создают культ вокруг меня, говорил товарищ Сталин, это создают эсеры. Мы не могли тогда поправить это дело, и оно так шло. Нужно подойти к личности по-марксистски. Но Берия ратовал. Оказалось, что он хотел подорвать культ товарища Сталина и создать свой собственный культ»[44].
А. А. Андреев тоже выступил на Пленуме с осуждением Берии, но отметил, что выплывший «откуда-то вопрос о культе личности» давно решён и в марксистской литературе, и в жизни[45]. В том же ключе выступил Каганович[46].
В действительности за всеми подобными рассуждениями о «культе» содержалась скрытые порицания Маленкова!
Максименков тоже оценивает критику «культа личности» Маленковым в марте 1953 года как «самокритику», т. к. именно его этот вопрос касался в самую первую очередь. Но порицание Берии за «культ» на июльском (1953) Пленуме ЦК КПСС – очевидный образчик нечистоплотной критики со стороны Андреева.
Кто раздувал «культ»?
Из стенограммы очной ставки между Л. С. Сосновским и Н. И. Бухариным в ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1936 года:
БУХАРИН:
– Я припоминаю один такой эпизод. По указанию Климента Ефремовича я написал статью относительно выставки Красной Армии. Там говорилось о Ворошилове, Сталине и других. Когда Сталин сказал: что ты там пишешь, кто-то возразил: посмел бы он не так написать. Я объяснил все эти вещи очень просто. Я знаю, что незачем создавать культ Сталина, но для себя я считаю это целесообразной нормой.
СОСНОВСКИЙ:
– А для меня вы считали это необходимым.
БУХАРИН:
– По очень простой причине, потому что ты бывший оппозиционер. Ничего плохого я в этом не вижу[47].
Акцентируя внимание читателей на том, что именно «Радек, будучи троцкистом, в течение многих лет вёл самую активную борьбу против Сталина», Рой Медведев в ставшей классикой антисталинизма книге «К суду истории» пишет:
«В первом номере газеты «Правда» за 1934 год была помещена на двух полосах огромная статья К. Радека, в которой он прямо-таки упивается восхвалениями в адрес Сталина… Это была, по-видимому, первая большая статья в нашей печати, специально посвященная восхвалению Сталина. Весьма характерно, что эта статья Радека была вскоре выпущена как брошюра огромным для того времени тиражом в 225 тысяч экземпляров»[48].
Сталин тоже догадывался, что во многих случаях культ его личности раздували скрытые оппозиционеры. Финский ревизионист Туоминен рассказывает, что в 1935 году, когда Сталина проинформировали, что его бюсты повсеместно расставлены на самых видных местах в Третьяковской галерее, он возмущённо воскликнул: «Это откровенный саботаж!»[49].
Хрущёв и Микоян
По мнению британского исследователя Уильяма Бланда[50], Хрущёв был одним из тех, на ком лежит личная ответственность за раздувание «культа».
Именно Хрущёв предложил использовать термин «вождь» (аналог немецкоязычного слова «фюрер»). На московской партийной конференции, состоявшейся в январе 1932 года, свою речь он закончил такими словами:
«Московские большевики под руководством МК[51], сплочённые как никогда вокруг ленинского ЦК, вождя нашей партии т. Сталина, бодро и уверенно идут к новым победам в боях за социализм, за мировую пролетарскую революцию» (выделено мной. – Г. Ф.)[52].
В 1934 году на XVII съезде ВКП(б) Хрущёв – и один только он – назвал Сталина «нашим гениальным вождём»[53].
В августе 1936 года во время процесса над Каменевым и Зиновьевым (т. н. «процесса 16») «Правда» опубликовала статью «Московский партийный актив (читай: Хрущёв. – Г. Ф.) – великому вождю коммунизма, любимому другу, отцу и учителю трудового народа товарищу Сталину!», где говорилось:
«Наш близкий друг, наш мудрый вождь, товарищ Сталин! С твоим именем неразрывно связана победоносная борьба нашей партии за социализм…
Ты, товарищ Сталин, высоко поднял над всем миром и несёшь вперёд великое знамя Маркса – Энгельса – Ленина…
Имя – Сталин (так в тексте. – Г. Ф.) – живёт в сердцах миллионов нашей страны, как надежда, как радость настоящего, как прекрасное будущее всего человечества.
Мы заверяем тебя, товарищ Сталин, что московская большевистская организация – верная опора Сталинского Центрального комитета – ещё выше поднимет сталинскую бдительность, выкорчует без пощады остатки троцкистско-зиновьевских контрреволюционных последышей, ещё сильнее сплотит ряды партийных большевиков вокруг Сталинского Центрального комитета и великого Сталина»[54].
Как отмечает Бланд, именно Хрущёв предложил именовать принятую на Чрезвычайном VIII съезде Советов СССР (ноябрь – декабрь 1936) Конституцию «сталинской». По словам того же оратора, она якобы «от начала и до конца написана рукой товарища Сталина»[55]. Между тем об особой роли Сталина в создании Конституции ничего не сказал ни тогдашний глава Советского правительства (председатель СНК) В. М. Молотов, ни первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии А. А. Жданов. Наконец, именно в этой речи Хрущёв «изобрёл» термин «сталинизм»:
«Наша Конституция – это марксизм – ленинизм – сталинизм, победивший на одной шестой земного шара! Не сомневаемся, что марксизм – ленинизм – сталинизм победит во всём земном шаре»[56].
Речь Хрущёва, произнесённая на многотысячном митинге во время суда над Радеком и Пятаковым, состоит из тех же неумеренно восхвалительных выражений:
«Подымая руку против товарища Сталина, они подымали её против нас всех, против рабочего класса, против трудящихся! Подымая руку против товарища Сталина, они подымали её против учения Маркса – Энгельса – Ленина! Подымая руку против товарища Сталина, они подымали её против всего лучшего, что имеет человечество, потому что Сталин – это надежда, это – чаяния, это – маяк всего передового и прогрессивного человечества. Сталин – это наше знамя! Сталин – это наша воля! Сталин – это наша победа!»[57]
На XVIII съезде ВКП(б), состоявшемся в марте 1939 года, Сталин был представлен Хрущёвым как «наш гениальный руководитель, вождь, наш великий Сталин». В другом месте своей 20минутной речи Хрущёв говорил, что Сталин – это «величайший гений человечества, учитель и вождь, который ведёт нас победоносно к коммунизму»[58]. В речи Хрущёва Сталин был упомянут в общей сложности 32 раза.
Микоян не только не отставал от Хрущёва, но и во многом опережал его. В декабре 1929 года, т. е. ещё до избрания Хрущёва секретарём Бауманского райкома Москвы, Микоян в поздравительной речи в связи с 50летием Сталина заявил:
«Заслуга т. Сталина заключается не только в том, что он, как меткий наводчик, помог партии произвести артиллерийскую подготовку всеобщего наступления на фронте борьбы за социализм…
Великие победы нашей партии в строительстве социализма, в постановке и разрешении звеньевых (так в тексте. – Г. Ф.) вопросов хозяйственной политики пролетарской диктатуры неразрывно связаны с именем тов. Сталина»[59].
И ещё:
«…50летие тов. Сталина даёт толчок к тому, чтобы мы, идя навстречу законным требованиям масс, взялись, наконец, за разработку его биографии и сделали её доступной партии и всем трудящимся нашей страны»[60].
Но и через 10 лет Микоян в речи по случаю 60летия Сталина всё продолжал настаивать на создании научной его биографии.
Ленинское «завещание»
Л. Д. Троцкий в статье «По поводу книги Истмена “После смерти Ленина”», опубликованной в 1925 году в журнале «Большевик», писал:
«В нескольких местах книжки Истмен говорит о том, что ЦК “скрыл” от партии ряд исключительно важных документов, написанных Лениным в последний период его жизни (дело касается писем по национальному вопросу, так называемого “завещания” и пр.); это нельзя назвать иначе, как клеветой на ЦК нашей партии. Из слов Истмена можно сделать тот вывод, будто Владимир Ильич предназначал эти письма, имевшие характер внутриорганизационных советов, для печати. На самом деле это совершенно неверно. Владимир Ильич со времени своей болезни не раз обращался к руководящим учреждениям партии и её съезду с предложениями, письмами и пр. Все эти письма и предложения, само собою разумеется, всегда доставлялись по назначению, доводились до сведения делегатов XII и XIII съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решения партии, и если не все эти письма напечатаны, то потому, что они не предназначались их автором для печати. Никакого “завещания” Владимир Ильич не оставлял, и самый характер его отношения к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого “завещания”. Под видом “завещания” в эмигрантской и иностранной буржуазной и меньшевистской печати упоминается обычно (в искажённом до неузнаваемости виде) одно из писем Владимира Ильича, заключавшее в себе советы организационного порядка. XIII съезд партии внимательнейшим образом отнёсся и к этому письму, как ко всем другим, и сделал из него выводы применительно к условиям и обстоятельствам момента. Всякие разговоры о скрытом или нарушенном “завещании” представляют собою злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича и интересов созданной им партии»[61].
Именно ЦК партии наделил Сталина полномочиями по изоляции Ленина:
«РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)
18 декабря 1922 года
В случае запроса т. Ленина о решении Пленума по вопросу о внешней торговле, по соглашению Сталина с врачами, сообщить ему текст резолюции с добавлением, что как резолюция, так и состав комиссии приняты единогласно.
Отчёт т. Ярославского ни в коем случае сейчас не передавать и сохранить с тем, чтобы передать тогда, когда это разрешат врачи по согласованию с т. Сталиным.
На т. Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками, так и переписки»[62].
Ответ Сталина на письмо Ленина в связи с «телефонным конфликтом» с Крупской:
«7. III.23
т. Ленин!
Недель пять назад я имел беседу с тов. Н[адеждой]. Конст[антиновной]., которую я считаю не только Вашей женой, но и моим старым партийным товарищем, и сказал ей (по телефону) прибл[изительно] следующее:
“Врачи запретили давать Ильичу полит. информацию, считая такой режим важнейшим средством вылечить его. Между тем Вы, Н. К., оказывается, нарушаете этот режим. Нельзя играть жизнью Ильича” и пр.
Я не считаю, чтобы в этих словах можно было усмотреть что-либо грубое или непозволительное, предприн[ятое]. “против” Вас, ибо никаких других целей, кроме цели быстрейшего В[ашего]. выздоровления, я не преследовал. Более того, я считал своим долгом смотреть за тем, чтобы режим проводился.
Мои объяснения с Н. К. подтвердили, что ничего, кроме пустых недоразум[ений]., не было тут да и не могло быть.
Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения “отношений” я должен “взять назад” сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя “вина” и чего, собственно, от меня хотят.
И. Сталин»[63].
Как сообщает сестра Ленина Мария Ильинична, приведённое выше письмо не было показано Ленину: «Так В. И. и не узнал его ответа, в котором Сталин извинялся»[64].
Спустя многие годы М. А. Володичева, бывший секретарь Ленина, вспоминала:
«Передавала письмо из рук в руки. Я просила Сталина написать письмо Владимиру Ильичу тотчас же, т. к. он ожидает ответа, беспокоится. Сталин прочёл письмо стоя, тут же, при мне. Лицо его оставалось спокойным. Помолчал, подумал и произнёс медленно, отчётливо выговаривая каждое слово, делая паузы между ними: “Это говорит не Ленин, это говорит его болезнь. Я не медик. Я политик. Я Сталин. Если бы моя жена, член партии, поступила неправильно и её наказали бы, я не счёл бы себя вправе вмешиваться в это дело. А Крупская – член партии. Но раз Владимир Ильич настаивает, я готов извиниться перед Крупской за грубость”»[65].
Другая из помощниц Ленина, Лидия Фотиева, отмечала:
«Надежда Константиновна не всегда вела себя, как надо. Она могла бы проговориться Владимиру Ильичу. Она привыкла всем делиться с ним. И даже в тех случаях, когда этого делать нельзя было… Например, зачем она рассказала Владимиру Ильичу, что Сталин выругал её по телефону?»[66]
В одной из бесед с писателем Чуевым Л. М. Каганович коснулся темы взаимоотношений Сталина и Ленина:
«Ну, при Ленине у него были тяжёлые неприятности. Мне Сталин однажды сказал по поводу письма Ленина: “А что я тут могу сделать? Мне Политбюро поручило следить за тем, чтоб его не загружать, чтоб выполнять указание врачей, не давать ему бумаги, не давать ему газет, а что я мог – нарушить решение Политбюро? Я же не мог! А на меня нападают”. Это он с большой горечью говорил мне лично, с большой горечью. С сердечной такой горечью»[67].
Меньше чем через две недели после т. н. «конфликта» с Лениным из-за Крупской последняя обратилась к Сталину с конфиденциальной просьбой раздобыть страдающему от сильных болей Ильичу кристаллики цианистого калия. Передав Ленину своё согласие, Сталин обратился с письмом в Политбюро, проинформировав его обо всём случившемся:
«СТРОГО СЕКРЕТНО.
Членам Пол. Бюро
В субботу 17 марта т. Ульянова (Н. К.) сообщила мне в порядке архиконспиративном просьбу Вл. Ильича Сталину о том, чтобы я, Сталин, взял на себя обязанность достать и передать Вл. Ильичу порцию цианистого калия.
В беседе со мной Н. К. говорила, между прочим, что “Вл. Ильич переживает неимоверные страдания”, что “дальше жить так немыслимо”, и упорно настаивала “не отказывать Ильичу в его просьбе”. Ввиду особой настойчивости Н. К. и ввиду того, что В. Ильич требовал моего согласия (В. И. дважды вызывал к себе Н. К, во время беседы со мной и с волнением требовал согласия Сталина), я не счёл возможным ответить отказом, заявив: “Прошу В. Ильича успокоиться и верить, что, когда нужно будет, я без колебаний исполню его требование”. В. Ильич действительно успокоился.
Должен, однако, заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу В. Ильича, и вынужден отказываться от этой миссии, как бы она ни была гуманна и необходима, о чём и довожу до сведения членов П. Бюро ЦК.
И. Сталин.21 марта 1923 г.»[68].
На подлиннике письма изложено отношение членов Политбюро к записке генерального секретаря.
Первой идёт резолюция Томского: «Читал. Полагаю, что “нерешительность” Сталина – правильна. Следовало бы в строгом составе членов Пол. Бюро обменяться мнениями. Без секретарей (технич.)».
Зиновьев и Бухарин написали коротко: «Читал». Молотов, Троцкий и Каменев расписались без комментариев.
Глава 2
Плоды попранной коллегиальности
Сталинская «нетерпимость» к коллегиальности • «Моральное и физическое уничтожение» всех несогласных с личным мнением Сталина • Массовые репрессии: роль Хрущёва • Кто такие «враги народа»? • «Невиновность» Зиновьева и Каменева • «Безобидные» троцкисты • «Попранные нормы» партийной демократии
3. «Нетерпимость» к коллегиальности
В нескольких фрагментах своей речи Хрущёв изъявляет неудовольствие отсутствием у Сталина коллегиальности и жалуется на нарушение им принципа коллективности руководства. Вот одно из типичных заявлений такого рода, прозвучавших в «закрытом докладе»:
«Мы должны серьёзно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его установкам»[69].
Как видим, обвинение носит весьма общий характер. Его легко опровергнуть, но в столь же общих выражениях, процитировав с этой целью свидетельства тех, кто работал вместе со Сталиным иногда даже значительно теснее, чем когда-либо удавалось Хрущёву.
Маршал Г. К. Жуков всю войну находился рядом со Сталиным, хорошо изучил методы его руководства и подробно рассказал о них в воспоминаниях. Имея в виду «закрытый доклад», маршал недвусмысленно указывает на лживость хрущёвских заявлений о нетерпимости Сталина к чужим мнениям и об отсутствии в его руководстве коллегиальности[70]. Почти то же можно найти и в мемуарах генерала С. М. Штеменко.
По словам бывшего министра сельского хозяйства СССР И. А. Бенедиктова, занимавшего этот пост (с небольшими перерывами) на протяжении двух десятилетий, все решения Политбюро принимались только коллегиально. Д. Т. Шепилов, хотя и не был столь близок со Сталиным, приводит шутливый, но весьма показательный рассказ на тему коллегиальности. И сам Хрущёв, противореча собственным же заявлениям, писал в воспоминаниях об одной из «характерных» черт Сталина – изменять точку зрения, когда кто-то не соглашался с ним, но был способен должным образом аргументировать своё мнение.
А. И. Микоян искренне поддерживал Хрущёва и относился к Сталину с неприязнью. В то же время Анастас Иванович выражал недовольство тем, что принципы демократизма и коллективности оставались недостижимым идеалом во времена Хрущёва и Брежнева.
Говоря о необходимости, как сказано в «закрытом докладе», «исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия» каких-либо отступлений от коллективности руководства, следует напомнить: Хрущёв вскоре сам отрёкся от этого принципа, что стало одной из причин его вынужденной отставки в 1964 году. Как следует из публикации материалов октябрьского (1964) Пленума, М. А. Суслов в своей пространной обвинительной речи, с одной стороны, повторил ленинские «характеристики» Сталина 1922 года, чтобы обвинить с их помощью Хрущёва, а с другой, – для той же цели воспользовался нападками на «культ», позаимствованными из самого «закрытого доклада»… Издёвка, возможно, не осталась незамеченной Хрущёвым и остальными слушателями.
4. Сталин «морально и физически уничтожал» несогласных
Хрущёв:
«Он [Сталин] действовал не путём убеждения, разъяснения, кропотливой работы с людьми, а путём навязывания своих установок, путём требования безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречён на исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением»[71].
В течение всей жизни у Сталина не было ни одного случая, когда кто-то был «исключён из руководящего коллектива» только из-за несогласия с его мнением. Примечательно, что и в докладе Хрущёв нет ни одного такого конкретного примера.
Стоит напомнить: Сталин был генеральным секретарем ЦК ВКП(б), в ЦК и в Политбюро у него был только один голос. Центральный комитет мог освободить его в любое время, и сам Сталин пробовал уйти с поста генерального секретаря четыре раза. Но каждый раз его прошения об отставке отклонялись. Последняя из попыток такого рода была предпринята на XIX съезде партии в октябре 1952 года. Она была тоже отклонена, как и все другие.
Хрущёв и другие не только могли оказывать сопротивление Сталину, но нередко на деле шли против его мнения. Ряд характерных случаев описывается ниже, – к примеру, проваленная Хрущёвым и Микояном попытка введения по предложению Сталина налога на крестьянство в феврале 1953 года[72]. Никто из тех, кто открыто или неявно противодействовал этому, не был подвергнут ни «исключению из руководящего коллектива», ни моральному истреблению (что бы под этим ни подразумевалось), ни тем паче «физическому уничтожению».
Хотя Сталин никого не освобождал только из-за расхождения во взглядах, Хрущёв, наоборот, действовал именно таким образом. 26 июня 1953 года по ложным обвинениям и без предъявления каких-либо доказательств он и его клевреты подвергли внезапному аресту Л. П. Берию. Впоследствии Берия и шесть его ближайших соратников – В. Н. Меркулов, В. Г. Деканозов, Б. З. Кобулов, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешик и Л. Е. Влодзимирский – были расстреляны. Сталин никогда не допускал ничего подобного.
Берия был не единственным человеком в партийном руководстве, кого Хрущёв удалил из-за несогласия с ним. В июле 1957 года он созвал Пленум ЦК и добился изгнания Маленкова, Молотова, Кагановича и Шепилова, поскольку те не соглашались с проводимой им политикой и намеревались «прокатить» его кандидатуру при голосовании. Хрущёвский беспредел, как очевидно, стал главной причиной его отстранения Центральным комитетом в 1964 году.
Хрущёв и все, кто его поддерживал, нуждались в каком-то оправдании или объяснении, почему в течение стольких лет они не могли противодействовать Сталину и всем его т. н. «преступлениям» и почему они оставались у руководства партией вместе с ним. Складывается впечатление, что угроза «уничтожения» превратилась в их алиби. Хрущёв не раз повторял, что если бы «они» попробовали «восстановить ленинские нормы в партии» или предложили Сталину отставку, «от нас бы мокрого места не осталось»[73].
Кое-кто в коммунистическом движении проницательно заметил, сколь недостойно выглядит подобное оправдание:
«Когда советский лидер Анастас Микоян во главе делегации КПСС в Китае присутствовал на VIII съезде КПК в 1956 году, Пэн [Дэхуай] с глазу на глаз спросил его, почему только сейчас советская партия осудила Сталина. Микоян предположительно ответил: «Мы не осмеливались выступать со своим мнением в то время. Поступить так означало смерть». На это Пэн [Дэхуай] возразил: «Что это за коммунист, который боится смерти?»[74].
Но, конечно же, ложно само хрущёвское обвинение Сталина в уничтожении всех несогласных с его мнением.
5. Практика массовых репрессий в целом
Хрущёв:
«Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже в разгар ожесточённой идейной борьбы против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и других к ним не применялись крайние репрессивные меры. Борьба велась на идейной основе. Но через несколько лет, когда социализм был уже в основном построен в нашей стране, когда были в основном ликвидированы эксплуататорские классы, когда коренным образом изменилась социальная структура советского общества, резко сократилась социальная база для враждебных партий, политических течений и групп, когда идейные противники партии были политически давно уже разгромлены, против них начались репрессии.
И именно в этот период (1935–1937–1938 гг.) сложилась практика массовых репрессий по государственной линии сначала против противников ленинизма – троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, давно уже политически разбитых партией, а затем и против многих честных коммунистов, против тех кадров партии, которые вынесли на своих плечах Гражданскую войну, первые, самые трудные годы индустриализации и коллективизации, которые активно боролись против троцкистов и правых, за ленинскую линию партии»[75].
Ничто в речи Хрущёва не выглядит столь отвратительно, как обвинения Сталина в подстрекательстве к массовым и необоснованным репрессиям. Более конкретные утверждения доклада касательно судеб тех или иных подвергшихся репрессиям высокопоставленных большевиков будут рассмотрены ниже; здесь же необходимо сделать ряд замечаний общего характера и выделить в них несколько важных аспектов рассматриваемой далее проблемы репрессий.
Главный из них состоит в том, что именно Хрущёв несёт личную ответственность за массовые репрессии. Причём, возможно, даже большую, чем кто-либо иной, за исключением разве что Н. И. Ежова, стоявшего во главе НКВД с середины 1936го до конца 1938 года, и, несомненно, самого кровавого из круга подобных лиц[76]. В отличие от Сталина и центрального партийного руководства (перед кем все первые секретари должны были отчитываться), Хрущёв, как, впрочем, и Ежов, не понаслышке знал, что значительная часть, а может, и подавляющее число репрессированных с его участием лиц были невиновны или, по крайней мере, что их участь решалась без тщательного расследования.
На заседании Президиума ЦК КПСС 1 февраля 1956 года, т. е. за 24 дня до «закрытого доклада», Хрущёв выступил в защиту как Ежова, так и Г. Г. Ягоды (предшественника Ежова на посту наркома НКВД). Труднообъяснимым такое заступничество выглядит только до тех пор, пока не учитывается личное мнение Хрущёва, что никаких заговоров вообще не существовало и что, таким образом, всех тех, кто подвергся репрессиям, следует считать невиновными жертвами. Такой точки зрения Хрущёв придерживался довольно длительное время и после XX съезда. В «закрытом докладе» он утверждал, что за репрессии Ежова ответственность нужно возложить на Сталина. Но лживость подобных представлений не могла оставаться неизвестной для самого Хрущёва: кто-кто, а он, несомненно, обладал в то время гораздо большим числом доказательств, чем есть в нашем распоряжении сейчас. Однако из всех тех источников, что доступны исследователям в настоящее время, явствует: вина за широкомасштабные незаконные репрессии лежит не на Сталине, а на Ежове.
В дни и месяцы, когда шло следствие, установившее несомненную вину Ежова, Хрущёв был кандидатом в члены, а затем стал членом Политбюро ЦК ВКП(б). В состав Политбюро тогда же входили А. И. Микоян, В. М. Молотов, Л. М. Каганович и К. Е. Ворошилов. Однако только этим обстоятельством нельзя объяснить, почему все они согласились (пусть временно) с основными положениями «закрытого доклада»[77].
Ещё до завершения (а нередко начала) официальной процедуры изучения дел, заведённых на тех или иных казнённых партийных руководителей, Хрущёв a priori провозгласил их жертвами необоснованных репрессий. Что прямо противоречит имеющимся сейчас доказательствам, хотя достоянием гласности пока стала лишь малая толика документов, касающихся деятельности этих лиц. Подготовленный комиссией П. Н. Поспелова доклад[78] предназначался специально для того, чтобы вооружить Хрущёва необходимыми ему материалами и наперёд заданным выводом, согласно которому руководящие партработники подверглись несправедливым репрессиям.
Однако в докладе остался совсем без рассмотрения внушительный по объёму массив свидетельств, наличие которых на архивном хранении, как нам известно, не подлежит никакому сомнению. При всём том сам доклад составлен таким образом, что в нём всё равно отсутствуют доказательства невиновности лиц, репрессии в отношении которых он анализирует будто бы всесторонне…
Все имеющиеся свидетельства указывают на существование серии разветвлённых правотроцкистских антиправительственных заговоров, куда были вовлечены многие ведущие партийные лидеры, руководители НКВД Ягода и Ежов, высокопоставленные военные и многие другие[79]. Вообще говоря, о сложившейся ситуации так или иначе сообщалось сталинским правительством того времени; умалчивалось лишь о таких существенных частностях, как уастие Ежова в руководстве заговора правых, о чём ранее ничего не сообщалось.
Большое число косвенных улик указывает на причастность к правотроцкистскому заговору самого Хрущёва. Несмотря на то, что такая гипотеза опирается на множество свидетельств[80], она, скорее, наводит на размышления, нежели представляет собой окончательный вывод. Так или иначе, но с её помощью можно понять первопричины хрущёвских нападок на Сталина и даже объяснить некоторые особенности последующей истории КПСС.
6. Термин «враг народа»
Хрущёв:
«Сталин ввёл понятие “враг народа”. Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведёшь полемику: он давал возможность всякого, кто в чём-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной законности. Это понятие “враг народа” по существу уже снимало, исключало возможность какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по тем или иным вопросам даже практического значения. Основным и, по сути дела, единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам современной юридической науки, “признание” самого обвиняемого, причем это “признание”, как показала затем проверка, получалось путем физических мер воздействия на обвиняемого»[81].
Конечно, не Сталин ввёл это понятие в советский лексикон 1930х годов. Термин l’ennemi du peuple широко использовался ещё в период Великой французской революции. Кажется, впервые его употребил публицист Жан-Поль Марат в первом же номере революционного информационного бюллетеня L’Ami du Peuple в 1793 году[82]. «Враг народа» – так называется широко известная пьеса Ибсена (1908). Максим Горький употребил это словосочетание в присяге херсонесцев в очерке «Херсонес Таврический», изданном в 1897 году.
Все революционеры 1917 года склонны были смотреть на происходящее в России через призму французской революции 1789 года, поэтому термин «враг народа» получил среди них широкое распространение. Ленин активно пользовался им перед революцией 1905 года. «Кадеты» (конституционные демократы) – политическая партия, выражающая интересы крупной буржуазии, запрещённая декретом Совета народных комиссаров 28 ноября 1917 года как партия «врагов народа».
Locus classicus[83] для термина «враг народа» 1930х годов стало постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров СССР от 7 августа 1932, известное под именем «Закон о трёх колосках». Здесь термин «враг народа» относится не к партийным оппозиционерам, а к преследуемым в рамках законодательства ворам, грабителям и жуликам всех разновидностей. Закон подписан председателем ЦИК СССР М. И. Калининым, председателем СНК СССР В. М. Молотовым и секретарём ЦИК СССР А. С. Енукидзе. Подписи Сталина нет, поскольку в это время он не занимал в советском правительстве руководящих должностей в законодательной и исполнительной ветвях власти.
С начала 1917 понятие «враг народа» употребляется в работах Сталина около 10 раз. Много и часто этим термином пользовался и сам Хрущёв[84].
7. Зиновьев и Каменев
Хрущёв:
«В своём “завещании” Ленин предупреждал, что “октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью”. Но Ленин не ставил вопроса об их аресте и тем более о их расстреле»[85]






