Золото Крюкова Елена
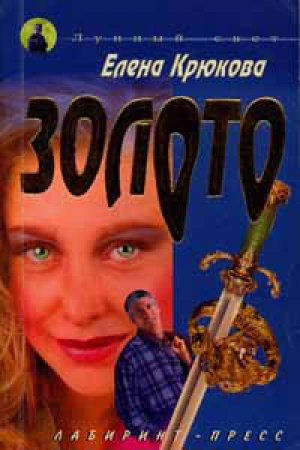
«Светочка, пощупай мне лоб, у меня, кажется, температура!.. ну вот не вру, ей-Богу, честное слово…»
Она, смеясь, проходила мимо мужских палаток, задирала голову к небесам. Крупные киммерийские звезды стремили из себя наружу, в густую бездонную тьму, раскидистые лучи, как полынные лапы, выпускали светящиеся стрелы. Хотелось петь долгую, бесконечную песню, подняв руки к звездному небу. Степь и полынь. И тимьян. И чабрец. И скоро, совсем скоро утро. Южная ночь темна и коротка. И она встает в пять утра и бежит на море – купаться одна. До медного гонга Сереги. До вопля: «Копа-а-ать!..»
Они раскапывали греческую колонию Гермонассу, и раскоп зиял прямо на обрыве над морем. Вылезая из раскопа, они видели море. Необъятно раскинутый по земле водный плат, и полоска суши вдали, туманная, призрачная: Керчь. Древний Пантикапей. Катерки жуками-плавунцами шустро бегали через пролив. В субботу Князь Всеволод разрешал предорогим работничкам отправиться в Керчь, погулять. Они все любили керченские гулянья. Гулянье по ночной Керчи было главным и единственным развлеченьем, если не считать купанья в море. Светлане казалось – она не идет по набережной, она кружится на карусели, и огни рассыпаются, плывут перед глазами, как светящиеся медузы в ночном море. Ребята смеялись, курили, покупали девчонкам дурацкие банки ледяной «Пепси» и «Фанты». В экспедиции была одна иностранка, миссис Моника Бельцони. Она была американка, а замужем за итальянцем. Ирена Кайтох тоже, конечно, была наполовину иностранка, хоть и в России жила. Муж поляк, она полька, а в России родились, в России и умрут. Курица не птица, Польша не заграница. Из перерусских русские. Ирена даже польского языка толком не знает, так, несколько расхожих слов, какая ж она полька. Она ездила на катерах с ними в Керчь; Моника не ездила. Ирена в экспедиции была не одна – с сыном Георгием, Ежи, Ежиком. Все так и звали мальчишку – Ежик. Он и не мальчишка, юноша уже, вытягивается весь в небо, и усики смешные растут, как волоски на кактусе. И пялится на Светлану, пялится. Море, жара, солнце, любовь. Первые вздохи, первые подарки. Светлана, проснувшись, обнаруживала у входа в свою палатку огромную алую розу; или бронзовый античный светильник, добытый в раскопе, и в нем горел, чадил на ветру фитиль, обмокнутый в рыбий жир, похищенный из ее аптечки; или сложенную вчетверо бумажку с нескладным стихом, подсунутую под потертый брезент. Автор стихов пребывал инкогнито, смущенно опускал взор, но Светлана доподлинно знала, кто это. Ирена не препятствовала увлеченью сына, лишь пожимала плечами. Юное лето промчится, будет другое лето, еще много лет и зим… Светлана однажды рассмеялась: «Ежик, ну я же старуха для тебя!.. ты же видишь, я старше тебя…» Они стояли на берегу, прибой лизал их босые ноги. Камни целовали ступни Светланы. «Я бы хотел быть этими камнями, – бледный от волненья Ежик кивнул на гальку у них под ногами, – чтобы к ним прикасались твои ноги. Чтобы ты шла по мне. И прошла». Она прищурилась. Солнечная вода слепила ей глаза. «Я чувствую, – сказала она тихо, – что мне предстоит полюбить в жизни того, кто много старше меня. Много старше. Так Бог отомстит мне за тебя. Что я тебе, мальчику, не могу ответить. Все это очень опасно, Ежик. Очень. И непонятно. И чудесно». Он радостно кивнул, с восторгом согласился. Да, да, чудесно! И пусть все так и останется!
Ничего никогда не остается так, как есть. Ничего.
Светлана жила в одной палатке с поварихой Станиславой Сатырос, гречанкой из-под Керчи. Карьера топ-модели хулиганке Славке Сатырос не улыбнулась. На поприще поварихи она чувствовала себя победительно. Вся Керчь, по слухам, знала Славку как портовую шлюшку, и она, гордясь шумом сплетен, особенно-то и не отрицала их. Славка была высоченного, мужского роста – за метр восемьдесят, как раз для подиума, – с худыми кобыльими ногами и густым «конским хвостом» на затылке, ходила в замызганной тельняшке; спряпала она отменно – перловка превращалась под ее пальцами в изысканное саго, простая уха – в тройную и ресторанную. Славка была врожденный талант, и все это понимали. Она попробовала было грубо пококетничать с Серегой Ковалевым, потом с Колей Страховым – и получила отбой. Но не растерялась. «Я самого Андрона обихожу! – крикнула она запальчиво, когда Ирена осадила ее в ее вызывающем ежевечерним верченьи задом перед мужиками. – Да, самого Андрона!.. И он меня увезет в Москву!.. И буду я кума королю и солнцу сестра!.. А вы заткнетесь тут все… а я буду…» – «Шеф-поваром ресторана „Арагви“!..» – смеясь, докончила Светлана. «А что? – выпятила Станислава грудь под тельняшкой. – Мы, керченские, лучше всех галушки стряпаем!.. и мясо вкусней всех жарим!.. и вино я умею делать – упьешься, это не вино, а песня!.. Я и сыр делать умею овечий… Да, да, вот только Андрона окручу… Мне Москва нужна, Москва…»
Кроме Славки, в экспедиции тельняшку носил еще один человек. Леон. Леонид Мурский. Он был неприметен, неряшлив, щеки у него были покрыты мягкой черной щетиной, которую он не брил, а выстригал ножницами, называя это бородой «гарлем». Волосы мотались у него вокруг башки, жирные, немытые, длинные. Лучше б он их постриг, думала с тоской и неприязнью Светлана. А Андрон, тот, на которого Славка положила глаз, был звезда. Андрон был поп-звезда. Трудно сказать, кто он был на самом деле. Заносчивый москвич, растиражированный миллионно, разнесенный экранами и радиоволнами во все концы; он пел разухабистые нахальные песни, кривлялся и изгалялся и соло, и в ансамблях, брился налысо, курил марихуану, шаманил и камлал на сцене в клубах дыма из сухого льда, и две группы почли за честь его пребыванье в них, а он кинул их, как женщин, и вдруг снялся сразу в трех фильмах молодых и сумасшедших режиссеров – и прогремел на всю страну. Он был еще молод, и ему было греметь да греметь; его беда была в том, что он не знал, куда греметь дальше. Каким ветром его занесло в Тамань, к археологам?.. Он и сам не знал. Кто-то поманил, кто-то соблазнил. Профессор Задорожный, видимо, был слишком добр. Блеск Андрона слепил и ему глаза. Эти руки – рабочие?.. Не смешите народ. Андрон, копнув земельку пару раз, вываливался из шестиметровой глубины раскопа наверх, скидывал джинсы, охал, стонал, растягивался на солнце. Пока другие копали, звезда загорала. Разделенье труда. Все правильно. Все справедливо. У Андрона была красивая, как у ангела, фигура. «Как у инкуба, – сердито поправляла Светлану Ирена. – Разве ты не видишь, что этот восходящий Люцифер – от дьявола?.. И никогда он Геспером не станет… Заносчивый хлыщик, блестящий прыщик…» Он божественно поет, возражала Светлана, а играет еще интересней!.. «Брось, – отмахивалась Ирена. – Это все энергия пола. Это ему силушку молодецкую некуда девать. Он не знает смыслов. Он презирает всех и вся. Он – кокет!»
Светлана смеялась. В экспедиции был еще один мужик. О, это была темная лошадка. Такая темная, прямо вороная. Никто о нем не знал ничего, но на ухо шептали друг другу: ну да, это он, тот самый, политический бандит, теневой владыка, жуткий Гурий Жермон. Да нет, это не он!.. Как же не он, когда он самый. Ты погляди хоть раз на него по ящику. Все повадки его. Да его ж не показывали ни разу по телевизору!.. Сколько хочешь показывали. Ну да, редко. Он прячется. Это тебе не то что Андрон – без мыла лезет всюду. Этот – молчит. Думает себе невесть что.
Жермон, играющий в политику; Жермон, ворочающий теневыми капиталами; Жермон, зачем-то оказавшийся здесь, на берегу Керченского пролива, в пустынной и полынной Тамани – что за чертовщина!.. А никакой чертовщины не было и нет; Жермон покровительствует археологам, Жермон сам следит за ходом раскопок, Жермон спонсирует погибающий от нищеты Пушкинский музей изобразительных искусств, и, может быть, это его, Жермона, темные денежки будут платить нам за земляные труды… Ну, уж это ты загнула!.. Ничуть. Мне сам Задорожный говорил… ну, не говорил прямо, конечно, а так, делал намеки…
А Моника Бельцони, с висящими белыми волосами вокруг умащенного дорогими кремами, не первой свежести лица, живет одна, в отдельной палатке, привилегированно, как и положено иностранке. И там, в палатке, у нее есть даже свой умывальник. И в волосы на затылке она вставляет черепаховый гребень. Моника – жена археолога, Ирена сказала. Какого-то сморчка-итальянца. Знаменитость сейчас в Москве. Соскучится Моника – в Москву к мужу слетает. Потом опять в Тамань прилетит. Долго ли умеючи, с мешком баксов под мышкой. Где ты будешь работать, нищая Светка, этой осенью. Где. Один Бог знает. Если знает – пусть скажет.
Вот пекло. Вот чертово пекло. Какое было чудное, ласково утро, и вот уже вся жаркая ярость мира обрушилась на берег и раскоп. Солнце пробивает насквозь все панамы, все наверченные на темя защитные тряпки, все соломенные шляпы. Солнце пляшет в небесах пляску святого Витта.
Светлана, разогнувшись, утерла лоб сгибом руки. Ее ладони были в земле. Она сидела на корточках перед тазом, в котором мыла найденные работниками осколки, черепки, утварь, украшенья. Воду в таз наливали холоднющую, добытую из колодца на краю Тамани и привезенную в экспедиционный лагерь на телеге – в распоряжении имелся гнедой тощий конь Гарпун, а утреннего водовоза выбирали каждый раз разного. Особенно старательным водовозом был Леон. Он наполнял водой все бочки и канистры, находил все пустые бутыли из-под «пепси». Понукая Гарпуна, трясясь на телеге в виду лагеря, кричал: «Воду кому!.. Воду кому!..» К полудню вода, налитая в Светланин помывочный таз, превращалась в кипяток. Она обжигала себе пальцы. Она, отмывая, держала в руках вещи, что держали в руках женщины, жившие за тысячу, за две тысячи лет до нее – обломок вазы, где хранили зерно, скол зеркала из гладко обточенного обсидиана или лабрадора, медное изогнутое кольцо, бронзовую гривну. Бронзовая гривна была хороша, так же как и бронзовый темный, почти черный браслет, отрытый замечательным и ловким Ежиком. Ежик сказал: вы никто не нашли ни одной золотой вещи, а я найду. Ежик был неутомим в поисках – даже Ирена удивлялась. «Парень, ты бы хоть отдохнул!.. иди бычков попаси…»
Близ лагеря, привязанные к колышкам, врытым в выжженную землю, тяжелыми чугунными цепками, паслись два бычка. Их кликали странно – Быча и Козя. Бычки были молоденькие, но у них уже торчали рога. Повариха Славка Сатырос боялась бычков, бегала мимо них, прикрыв глаза, визжа глупо, по-детски. Леон, придерживая коня, вылезя из-за бочек с водой, спрыгивал с телеги, подходил к бычкам, чесал у Кози за ушами, вытаскивал Быче из кармана корку хлеба.
Бычкам было тоже жарко. Все изнывали от жары. Скорей бы обед и купаться!
Море, щекочущие ноги водоросли грезились несбыточным сном.
А вон оно было, море – взгляд поднять, рукой подать…
– Я-а-а-а-а-а-а!
Дикий вопль потряс просторы, пропитанные жарой, как маслом. Все оторвались от копанья. Кричал Ежик. Он встал в раскопе во весь рост. Он что-то держал над взлохмаченной светловолосой головой. Его рот был раскрыт, как у галчонка, и он без перерыва кричал:
– Я-а-а-а-а-а! Я-а-а-а-а-а!
Серега Ковалев бросил лопатку, подошел к кричащему Ежику.
– Ты что, парень, сбрендил, что ли?.. ты что так вопишь, будто у тебя ломка началась?!.. Что это у тебя в руках, а?.. ну кончай ты орать, дай-ка я погляжу, что это у тебя…
Опытный Серега, археолог, понял сразу – это находка. Воспитанный Ежик никогда не стал бы так вопить; ну не приступ же аппендицита у него, в конце концов. Серега попытался дотянуться до поднятой Ежиком ввысь странной вещи. Она была не маленькая – вроде большой столовой тарелки. И выгнута, как тарелка. Вся в грязи, заляпана… Сквозь комья грязи и глины солнце высветило золотые пятна.
– Я наше-о-о-ол!.. Светлана, мой скорей в тазу!.. это же прелесть что такое…
Светлана, падая и спотыкаясь, бросилась к Ежику через рассыпанные камни раскопа, перешагивая через очищенные от насыпей глины городские кирпичные стены, пробегая босыми ногами по дну высохшего бассейна, по выцветшей мозаике, по древней цветной смальте. Ежик, с находкой в руках, прыгнул на край бассейна. Он протянул грязную тарелку Светлане, не Сереге. Светлана застыла внизу, на дне бассейна, впечатывая ступни в мозаичного дельфина, изогнувшего гладкую озорную спину, будто бы впрямь стояла верхом на играющем морском звере. Она приняла находку из рук Ежика, и дыханье ее пресеклось. Тяжесть металла тут же оттянула ей руки. Железо?.. Бронза?..
Она прижала тарелку к груди. Отковырнула ногтем глину. Чистое слепяще-желтое пятно, отразив солнечный луч, положило яркий отсвет на Светланино загорелое лицо.
– Золото! Ребята, золото! Ура!
Все, кидая заступы, мотыжки, лопаты, деревянные лопаточки, сбрасывая на ходу перчатки, бежали к Светлане, держащей в руках Ежикину добычу. Налетели на нее, как вихрь. Сгрудились. Загалдели. Пытались вырвать у нее золото из рук, полюбоваться, счистить глину – Серега не дал. Властно протянул руку:
– Света, мой! Вон твой таз! Сейчас все и увидим!
Она подбежала к тазу, встала на колени. Ей почему-то казалось – надо встать на колени, очищать находку от грязи, как бы молясь. Сердце у нее сильно забилось. Господи, ведь это…
Горячая, просвеченная солнцем вода в тазу быстро отмывала слои глины. Под Светланиными пальцами сияли, высвечивались в лучах солнца, под грязной водой, чистый лоб, крылья носа, золотые слепые веки, нежный улыбающийся рот…
Она встала с колен, выпрямилась над тазом. Подняла в руках драгоценность, чтобы видели все. Золотая маска молодой женщины, древней красавицы, глядела на притихших людей. С маски на голову Светланы, на белый платок, коим был обвязан ее лоб, капала вода. Будто слезы, внезапно подумал Серега Ковалев, щурясь на солнце.
– С ума спятить! Мушкетеры, ведь это же с ума просто сойти…
– Ежик, тебя директриса Пушкинского баксами с ног до головы осыплет!.. Купишь мамке норковую шубу…
– Ребята, маска, умереть-не-встать!.. маска царицы, скорей всего… глядите, по золотому вороту, около шеи, письмена… кто знает эту письменность?!.. Князь, ты?!..
Всеволод Ефимович осторожно взял маску из рук Светланы. Вгляделся пристально. Губы его шевелились, как у кролика, жующего траву.
– Неизвестные науке знаки, – наконец сказал он, поднимая голову, промакивая лоб закатанным рукавом просоленной рубахи. – Леш-ший… не разберу… похоже и на этрусское письмо, и на клинопись, и немного – на рисунки с Фестского диска… мы, ребята, ведь довольно далеко от Крита, так я понимаю?.. однако… ну, что это древнее Средиземноморье, это козе понятно… откуда она здесь?.. колонисты?..
– Не скифы?.. – деликатно спросил Серега, восторженно уставясь на маску. – Не скифское золото?.. Не звериный стиль?..
– Непохоже, – раздумчиво ответил Князь Всеволод, – непохоже… На что ж это похоже?.. Напоминает…
– Нефертити! – выкрикнул растрепанный Ежик, обводя всех сумасшедшими светлыми глазами. Веснушки на его носу ярче выявились на бледности, проступившей даже сквозь загар. – Это таманская Нефертити! Это же…
– Да, сынок, это открытие, – медленно сказал Князь Всеволод, поворачивая маску в руках, и золотые ложбины, выпуклости и впадины засветились, вспыхнули под солнцем. – Это открытие! Маска золотой царицы из Гермонассы! Царицы неизвестного государства… Смотрите, какое круглое лицо, как по циркулю выкованное, будто золотая Луна, а так красиво… и глаза стоят широко, разрез чуть раскосый, слегка восточный, глаз длинный, доходит до виска… маленький рот, короткий нос… волосы чуть вьются… да нет, не египетский, и не тюркский, все-таки средиземноморский тип… Крит?.. Эгеида?.. Нет, это не Тамань. Она попала сюда явно с корабля. Она привезена! Иначе мы бы нашли ее не внутри городского дома, а в гробнице. Ни одной гробницы мы еще в раскопе не находили, да и откуда ей тут быть, в оживленном городе, в греческой колонии?.. демос да охлос, да кучка аристократов, да торговцы, да моряки… Гермонасса никогда не была столицей никакого царства… да и надпись, друзья мои, не греческая, и даже не койнэ…
Все стояли молча. Затаили дыханье. Князь Всеволод покачал маску на руках, как ребенка. Обвел всех строгими глазами, насупил брови.
– Ну так, господа. – Не «друзья», не «ребята» – «господа»; значит, приказывать будет, он ведь теперь в экспедиции за начальника, пока Задорожного нет. – Очухивайтесь от потрясенья. Да, видно, это нам суждено – пережить это. Такое выпадает на долю не каждому археологу. Коля Страхов! – Он поискал Колю в онемевшей толпе глазами. – Сними фотографии. Ты или… – он снова пошарил глазами, – Леон, у вас же аппараты. Маска будет у меня в палатке. Уезжать сейчас из экспедиции, транспортировать драгоценность до приезда руководителя я не имею права. Все должен решить Роман Игнатьич. По моим подсчетам, он скоро будет. По крайней мере, неделя на исходе, он обещал быть в конце недели. Дисциплина должна быть на высшем уровне. Никаких истерик. Никаких поползновений, покушений. Никакой передачи информации. Все внутри лагеря. Зубы на замок. Если надо выболтать радость – нашепчите на ушко бычкам, Быче и Козе. Все все поняли?!
Ух ты, как зычно кричит, и вправду мог бы быть князем. Светлана вздрогнула, поежилась. Серега усмехнулся углом рта. Славка Сатырос шумно, как паровоз, вздохнула. Ежик шмыгнул носом.
– Все все поняли, Всеволод Ефимыч, – тихо сказала Ирена, – как тут не понять.
Светлана почувствовала жженье под лопаткой. Она чуть обернулась, скосила глаз. На нее умалишенным взглядом, мрачно и тяжело глядел небритый длинноволосый Леон. Она ощутила необоримое желанье побрить его немедленно. Опасной бритвой.
Они правильно сделали, что поехали с Жермоном на субботний вечер в Керчь. Все остальные так ухайдакались, что предпочли керченское традиционное субботнее гулянье банальному купанью в море прямо под обрывом, где раскоп, и созерцанью таманских крупных звезд вместо пантикапейских. Они с Жермоном оторвались от всех, улизнули. Какое счастье свобода. Призрачная; сияющая; жалкая; великая свобода человека, которому Бог отпустил, в сравненьи со звездами, лишь минуту жизни.
До чего у нее мятое платье, все помялось в рюкзаке, а в джинсах какое же гулянье по набережной. Да ведь можно и в джинсах; но кавалер придирчивый, да и она хочет побыть хоть чуть-чуть женщиной, а не «керамической дамой» над тазом с грязной водой. Кого ж еще было Гурию Жермону звать на гулянье, как не Светлану? Славка Сатырос тоже была девица с шиком, но ее портовый шик шибал в нос, столичный Гурий мог бы и рассердиться на ее «хиба так» и «чи шо», на острые кобыльи коленки напоказ. Правда, были еще иностранки – Моника и Ирена, да к Монике было не подступиться, она была ученая старая леди, ее пригласил сам Задорожный, ее муж был именитый археолог, ее все боялись, она говорила по-русски не слишком бегло, работала мало, солнца не переносила, все пряталась в жару в палатке; а Ирена хлопотала вокруг своего мальца: надень шорты, надень майку, читай к экзаменам книжки, не перегрейся!.. – какие фанатичной мамаше променады. А острый мужской глаз Жермона искал, щупал, вылавливал. Он выловил Светлану безошибочно. Красивая капустница в свободном полете. Он понял: она одинока и в соку, и никакой Коля Страхов тут ни при чем. Прошвырнуться по вечерним улицам Керчи, что может быть невинней?.. Разве игра в «подкидного дурака» у костра на берегу. До смерти надоел «дурак». Красивая девушка достойна большего. Светлана на удивленье легко согласилась. Ей тоже хотелось смены декораций. Ах, мятое платье, мятое! Она разглаживала его ладонями на коленях, на бедрах, плевала на пальцы, терла складки. Ни черта синтетики в натуральном шелке, мнется, будто собаки его жевали!
Они приплыли в Керчь уже на закате, пересекли пролив на верткой «комете», бегавшей два раза в сутки между Таманью и Керчью. Светлана, садясь в катер, больно стукнулась головой о железную дверь. «Ничего, это к счастью, – утешил ее Жермон, – найдем еще одну золотую маску. Царицу нашли, теперь надо царя!..» Она слабо улыбнулась. Когда они высадились на керченской пристани, Жермон намочил платок в морской воде, и она приложила его ко лбу. Лоб живой, не золотой. Хорошо быть золотой маской, у тебя ничего не болит.
Куда пойдем?.. Да куда хочешь. Светлана не нашла ничего более оригинального, чем посидеть на палубе плавучего ресторана «Фрэзи Грант». Они поднялись по трапу, по укрытым коврами лестницам на нос корабля, стоявшего на приколе, превращенного в модную харчевню. Разбитной официантик подскочил к ним, изогнулся в поклоне: «Осетринки, икорки… свежих абрикосов?.. Что пить будем?..» Жермон, усмехаясь, глядел на Светлану. Да, девочка бедная, это сразу видно, за версту. Она будет стесняться. Комплекс нищеты. Не скоро она от него избавится. Да, так и есть. Она потупилась, потом подняла глаза: «Ничего не надо, Гурий, прошу тебя, возьми два кофе… можно с коньяком… и с лимоном». Глаза-глазищи. Он впервые видел такие. Большие, широко распахнутые, как у говорящей куклы, серо-зеленые, как прозрачные озерца в осеннем лесу. И вся она была не летняя, знойная – осенняя, северная. Ему хотелось запустить руку в ее русые, чуть с золотинкой, с болотной празеленью, волосы, погладить их. Ему сейчас до полусмерти захотелось этого. Брось, Гурий. Ты стольких баб в жизни перегладил и перещупал. Зачем тебе эта нищая медсестричка. Ты уже женился, обжигался, нарывался. Лучше быть свободным. И ее оставь свободной. Но поимей. Ты же богат, и тебе все принадлежит. И она?! И она.
А она, она сама знает об этом?!
– Хорошо, дарлинг. Кофе так кофе. Ну, к кофию два бутербродика с икоркой. Мы же все-таки на море. И мы отдыхаем.
– Я не дарлинг. Я Светлана.
– Скажите пожалуйста, какие мы капризные. Ты хоть знаешь, что значит это словцо?.. я же ласково…
– Знаю. Я не неграмотная. Я…
– Ты просто маленькая стеснительная девочка. Раскрепостись и наслаждайся. Сегодня вечер наш. Не могу поверить, что ты поешь рок-музыку! Ведь там же надо так обнахалиться на сцене, так вывернуться наизнанку… а ты такая скромная…
Светлана и Жермон уселись за столик на самом носу, так, чтобы видеть черную, всю в синих и золотых масленых бликах, колышащуюся под вечерним бризом воду, огни набережной, огни звезд над головой. Светлана взяла в пальцы ножку ресторанного бокала, Жермон, будто бы небрежно, бросил руку на крахмальную скатерть и коснулся рукой ее руки.
– Совсем наоборот. – Светлана осторожно отодвинула руку. – Если ты сдерживаешь страсть, она воздействует сильнее. Необязательно вихляться и орать, размахивать руками. Ты на сцене все должен делать голосом. Так Горшок говорит.
– Кто, кто?.. Горшок?..
– Да, Горшок. Руководитель группы «Ироникс». Классный композитор, между прочим. У него будущее.
– А у тебя?..
Официантик принес кофе и два хиленьких бутерброда с черной икрой на тарелочке. Жермон презрительно взял за хвостик увядшую укропную ветку.
– Керчь, юг, жалеют овощей!.. смешно… – Он швырнул траву за борт. – У тебя-то, детка, есть будущее?
Светлана поднесла к губам чашку с кофе, вдохнула коньячный запах. Жермон увидел, как она густо, по-девчоночьи, покраснела. Вместо ответа она спросила его:
– Чем ты занимаешься в жизни, Гурий?..
Девочка переводит разговор, похвально. Он стукнул чашкой о ее чашку, будто чокнулся.
– Может, винца?.. Легонького, сухенького?.. Мы же гуляем?.. Я занимаюсь всем, чем не разрешено заниматься. Такова моя планида. Я играю в политику и делаю на этом большие деньги. Официант, вина!.. Принеси хорошего абхазского «Псоу», парень… С него не задуреешь, а вкусное… Деньги, слышишь, детка, деньги. Сейчас тот, кто не умеет делать большие деньги, погибнет. Я не хочу сыграть в ящик. Я хочу жить. Правда, есть тут небольшой риск. Тех, кто начинает делать слишком большие, на взгляд соседей, деньги, отстреливают. И отстрел людей – это сейчас вид спорта, ты в курсе. Охота. Охота на кабанов. Охота на лис. Охота на изюбря. Охота на крыс и мышей – есть и такая. Охота на крокодила. Охота на пиранью. Охота черт знает на кого. Есть охота и на самого опасного зверя. У него семь голов, двадцать ног, из пасти валит огонь, а с хвоста сыплется золотая чешуя.
– На дракона, что ли?..
– Пусть на дракона. И эти звери все, дарлинг, – люди. На самом деле все это люди. А еще верней, они все прикидываются людьми, внутри же у них сидит в каждом зверь. Все оборотни. Все клацают зубами. Все хотят друг друга пожрать.
– И ты тоже оборотень?.. Ты тоже… живешь в этом зверинце?..
– В этой дикой саванне, дарлинг, в прерии. Спасибо, парень!.. то самое вино, правильно, не разливай, я сам даме налью, не хватит бутылки – еще закажем… запиши… ну, тогда еще бутербродиков и твоих чертовых свежих абрикосов… здесь им еще рано, из Анапы, что ли, привезли?.. – Жермон налил вина в бокалы из откупоренной бутылки. Светлана задумчиво глядела на его жесткие, как клещи, руки, разливающие вино, на черно-золотую игру воды за бортом. – Я организую новые партии, добываю деньги на их раскрутку, влезаю в правительство, влезаю в Думу, и мне хорошо, я имею то, что имею. Я всегда хотел власти. Еще тогда, ребенком, когда мой отец бросил мою мать и стал губернатором славного города Сочи, здесь, на юге. И я сказал себе: я захвачу власть побольше, покрупнее, папаня!.. я буду вращаться на орбите повыше тебя, ты головенку задерешь, чтобы меня наблюдать…
– И как?.. Наблюдает?..
Он поднял бокал. Кинул в Светлану ножевой прищур.
– Он умер год назад. Этим летом година.
Выпил, не чокаясь. Светлана тоже отпила из бокала.
– Зачем ты здесь, Гурий?..
– У меня ощущенье, дарлинг, что я ужинаю не с очаровательной девушкой, а со Штирлицем. Ты еще медсестра, не врач, и рано тебе собирать анамнез. Твое дело вкалывать укольчики в попочку. Однако ты и впрямь тихая нахалка!.. Не твое, конечно, дело… Я оплачиваю эту экспедицию. Я оплачиваю тебя, Задорожного, Ирену, Всеволода, Серегу и всех остальных охламонов со всеми потрохами. Транспорт, вывоз находок, работу реставраторов в музее, выставку новых поступлений, рекламу… Я скрытый шеф. Я исторический мафик. Ты довольна?.. Твое любопытство удовлетворено?
– Это… у тебя… хобби?..
– Много будешь знать – скоро состаришься, дарлинг. А я хочу, чтобы ты не старела. Потанцуем?..
Обволакивающие волны музыки набегали изнутри корабля. Редкие пары кружились по дощатому корабельному настилу, застланному красным ковром. Вино ударило Светлане в голову, она коснулась щекой плеча Жермона. Он дышал ей в затылок.
– И ты всю жизнь будешь играть в политику?..
– У мужчин свои игры, детка. Не лезь в них. Женщина должна хорошо стряпать, великолепно делать уколы и танцевать в постели ламбаду и самбу. Большего ей не дано.
– А Тэтчер?.. а Хакамада?.. а Олбрайт?.. а…
– Дуры бабы. Весь мир смеется над ними. Все равно все, что делается за кулисами мира, делают умные мужики.
– Звери, ты хочешь сказать. А ты какой зверь?..
– О, я самый страшный зверь на свете, дарлинг.
Он все сильнее притискивал ее к себе, чувствовал под тонким шелковым платьем ее груди, жар ее живота. Залетная медсестричка, керченский ресторанчик, ночь и вино! Красиво жить не запретишь. Как же он отдыхает от московского ужаса. Еще месяц блаженства – и он окунется снова в родной вертеп. Вацлав не похвалит его за похожденья. Вацлав не похвалит его за задержку. Он обещал быть в Москве в конце июня, а торчит в Тамани уже пол-июля. Нужна ему похвала Вацлава! Он лишь контролирует его жену. Да и Задорожного надо из Турции дождаться. Время идет. Время капает с ложки медным медом, медленной медью. Золотыми каплями черноморских звезд. Понт Эвксинский, твою мать. И эта медсестричка, эта кукушечка… какие глаза, как блюдца…
Они не допили бутылку. Бутерброды и абрикосы так и остались лежать на тарелке. Жермон сунул под тарелку счет и зеленую бумажку. Официантик немедленно подскочил, увидя долларовую купюру, раскосые глазки его загорелись: сдача, господа, разве вы не… Жермон уже стаскивал Светлану вниз по корабельному трапу. Гулять, гулять! Сегодня их ночь! Они уже опоздали на последний катер, уже… лучше поздно, чем никогда…
Развалины Пантикапея встретили их недружелюбным, устрашающим молчаньем. В лунном свете призрачно мерцали ребристые, будто срезанные великанским ножом, обломки колонн, украшавших некогда царский дворец. Митридат, царь Понта, построил сей дворец для любимой жены своей, Ифигении. Умерла ли Ифигения молодой?.. Вынянчила ли внуков?.. Звездное покрывало, сухая душица, крымский дерн прикрыл ее кости, и ветер не выветрил их. Луна выкатилась на полночный небосвод, полная, победная, красно-золотая, как спелое яблоко. Светлана протянула руку. Подставила Луне.
– Ее можно взять на ладонь, смотри…
– Ты пьяна, дарлинг. Ты удивительно пьяна. Ты страшно хороша.
– Страшно?..
– Женщина, это тоже зверь. Она страшна для мужчины. На древних фресках бабу всегда изображали верхом на звере. На каком хочешь. На волке, как Лилит… и она вцеплялась ему в холку… на коне, само собой… на тигре, в Индии… на льве…
– Ты политик или историк?..
Он обнял ее за плечо. Они брели по камням, сбивая каблуки. Ее шелковую юбку задрал ветер с моря, обнажил колени. Она ни о чем не думала. Ей было страшно и весело. Она впервые была с мужчиной на берегу моря. Дожить до двадцати годов… и целоваться только со школьными прыщавыми парнягами, и лишь целоваться, в то время как ее сверстницы влюблялись и разлюбляли, делали аборты, закатывали любовные истерики, рожали, изменяли мужьям… Ты просто старая дева, Светланка, ну что ж у тебя так бьется сердчишко, как у зайца… Женщина – это никакой не зверь, это просто маленький жалкий зверек, и он дрожит и трясется, и ждет, и надеется, и верит…
Он же еще не любит, слышишь. Он же еще не любит.
– Я мужик. – Он взял ее за плечи и повернул к себе. – Какая Луна, черт бы драл. Как твои волосы блестят под Луной. У тебя глаза как изумруды. Как у кошки. Ты кошка. Я понял. Ты львица.
Она дрожала уже очень сильно. Он вминал пальцы в ее загорелые плечи. Его рука скользнула по ее груди, вниз. Ветер помог ему. Пальцы отогнули паутинный шелк. Она почувствовала живой пятипалый ожог на напрягшемся животе.
– Гурий!.. пусти…
– Мы все равно опоздали на катер. Не кричи.
Она сама не поняла, как он согнул ее, сломал, заставил опуститься на землю. Спиной она ощутила острые камни. Обломки всесокрушающего времени. И они, двое, мужчина и женщина, на камнях, на берегу. Колонна Митридата нависла над ними. Звезды вошли в ее глаза, как пытошные иглы. Чужие губы и зубы вобрали под шелком в себя ее вставший дыбом сосок. Пьяное вино горечью и блаженной болью разлилось по телу.
– Нет!..
– Да…
Его рука раздвинула под юбкой ее бедра. Из последних сил она вцепилась в его запястье, отталкивая его. Браслет из живых отчаянных рук, мучительный браслет.
Тэк-с, закурим, закурим. Еще одну – и все. Еще одну, последнюю…
Разграбил монастырь в Ладаке. Поживился на раскопках скифских курганов. Скифское царское золото в музеях – капля в море в сравненьи со скифским золотом, что он пригреб себе под живот, утянул, продал на подпольных аукционах в Москве, Варшаве, Париже, Нью-Йорке. Золотые звери, львы, олени, кабаны, золотые кони с закинутыми в скачке головами, золотые рыбы, сплетшиеся хвостами в любовной игре. На его счету – стащенные из-под носа у разгильдяев-индийцев украшенья Великих Моголов, хранившиеся пуще глаза в Тадж-Махале. Драгоценные сибирские староверские иконы в золотых окладах – без счета, он эти семечки, этот мусор и не считал; хотя на Кристи за одну его ужурскую иконку святого Иннокентия мистер Ефремиди и давал десять миллионов баксов. Нет, Вацлав Кайтох отнюдь не был дилетантом. Он презирал дилетантов. Он был виртуоз, он был бешеный, отчаянный игрец на опасном, как лезвие, инструменте. Инструмент маячил в ночи – страшней виселицы, пули. Инструмент назывался – Время, и Время стоило так же дорого, как его собственная, Кайтоха, бесценная жизнь.
Он жадно поднес сигарету ко рту. Втянул дым. Напитавшиеся вмиг табаком тоскующие легкие блаженно расправились. Каждый оттягивается по-своему. Он и пил водку, и ширялся по молодости, по глупости. Он понял: если хочешь стать хорошим грабителем могил, надо быть в отличной форме. И он разрешил себе только куренье. Пачки «Кента» ему хватало на день. Это была его норма, как овес в торбе у морды коня, больше он себе не позволял.
Да, он был не кустарь-дилетант. Он прилежно учился. У него были хорошие учителя. Взгляд его блуждал за окном офиса на Новом Арбате; он рассеянно следил, как бежали, как водомерки, внизу, по шоссе, машины, как мельтешили люди, торопливо разворачивая над головами зонты – начался дождь, изнывающая от жары Москва наконец-то напьется и задышит, влага прибьет пыль. Время, время. Пыль времени, грязные дороги столетий. Неужели когда-нибудь и этот чертов мегаполис исчезнет под слоями погребальной земли, как новая Троя. И кто-нибудь, какой-нибудь безумный Шлиман, ее раскопает. У него были отличные учителя, и он прекрасно знал, что среди грабителей древних могил были не грязные бандиты – просвещенные монархи, знаменитые ученые, крупные политики, международные авантюристы. Кайтох, ты тоже авантюрист. Авантюрист?.. Он усмехнулся. Затянулся. Пятерней откинул прядь свисающих на лоб сивых волос. Старый сивый мерин, нет, ты не авантюрист. Ты прожженный политик, ты холодный, как лед, жестокий профессионал. У тебя блестящие помощники. Твоя правая рука – Бельцони. Твоя левая рука – Жермон. Твоя левая пятка, Кайтох, – ну, что греха таить, – твоя верная женушка Ирена, дура баба, дай Бог ей здоровья, сынка на ноги поднять. А твоя пушка у тебя в кармане… да, конечно, Касперский. Доктор Касперский, натасканный, как собака, на запах древнего золота. Ты посылаешь его на самые грязные дела. Там, где нужно просто прицеливаться и стрелять. А как же в нашем деле без ствола?.. или без ножа… Нож, как тысячелетья назад. Его губы опять покривились в ухмылке. Еще бы он Касперского луком снабдил и стрелами в колчане. Вот бы клиенты похохотали всласть. Перед смертушкой.
А этот пройдоха Бельцони, возомнил себя его конкурентом. Да если понадобится, он этого конкурента вырубит одной левой. И он не встанет из нокдауна. Он превосходно знает, что Бельцони работает на английского консула в Каире господина Сола Тернера, брата знаменитого Теда Тернера, владельца крупнейших мировых СМИ; и у проклятого итальяшки есть еще под мышкой один живчик, синьор Дроветти, нефтяной магнат, в свою очередь грабящий древние восточные захороненья по порученью французского консула. Длинны щупальца европейских дипломатов, Кайтох! Они все пытаются перебежать тебе дорогу, хандловый поляк. Армандо Бельцони наворочал дел прямо у него, Кайтоха, под носом. Он и не уследил. Он, такой тиран и педант… Армандо обирал памятники, как медведь малинник. Он тащил, как суслик, себе в нору все, что плохо лежало – от драгоценных египетских синих и зеленых лазуритовых скарабеев, от золотых фараонских уреосов до огромных саркофагов хеттских вождей, затерянных в выжженных анатолийских полях. Бронзовые фигурки, литые золотые и серебряные рельефы, головы владык, изогнутые в предсмертной судороге тела животных, раненных копьями, стрелами… Бельцони крал без зазренья совести сокровища из его, Кайтоха, могильников и продавал выгодно, удачно – в Берлинский музей, в Британский музей, в Лувр, в частные коллекции Рокфеллеров, Тернеров, Гуччи, Крегеров, Фордов. Армандо ухитрился стянуть даже колокола из монастыря в Ладаке – золотые колокола, что Кайтох припрятал, перед отправкой в Россию, у тибетского старика-ламы. За Бельцони не заржавело убить старика. Своими ли руками он это сделал?.. Какая разница. Лама с простреленным черепом лежал в Ладаке на пороге монастыря, Бельцони с колоколами в чемодане трясся в транссибирском экспрессе «Владивосток – Москва». Черт с ним. Пусть гуляет, бесится, крадет по мелочам. Если цапнет что покрупнее – получит по рукам. Верней, больше не получит ничего и никогда, ибо навек закроет свои прекрасные итальянские глазки. У Кайтоха есть надежное убежище – Швейцария. Швейцария – его крыша. Банк в Цюрихе. Вилла в Монтре. Нейтральная страна. Никто не докопается. Если что – он будет жить там с Иреной под другим именем. Швейцарский паспорт смастерить и купить – копейки. Он с Иреной уже обеспечил не только себя и Георгия, но и своих далеких потомков. Того и гляди, в необозримом будущем земляне учредят Кайтоховскую премию, на манер Нобелевской. За что ее будут давать?.. За открытия в археологии?.. А может, за удачный грабеж сокровищ?..
Тимурленг, Железный Хромец Тамерлан, тоже был вором. Он тащил из подлунного мира себе в Самарканд все, что смог награбить, унести, увезти на спинах степных лошадей. Из Бруссы себе в столицу он приволок бронзовые двери, украшенные золотом и эмалью, с изображеньем апостолов Петра и Павла. Эти высокие двери – такие высокие, что в них можно было въехать на коне, – он приделал к войлочной юрте своей любимой жены. Что бы ему, Кайтоху, приделать к заднице ненавистной Ирены?.. Он устал от нее за столько лет. Но менять жену не захотел. Старой кастрюле – старая крышка. Георгия жалко. Мальчонка любит мать. А он слишком любит Георгия. Жаль, он не нарожал еще детей от разных баб. Так ли поступали библейские патриархи, грозные древние цари! Иеровоам родил Еноха, Енох родил Ахава… Вацлав родил Георгия. Одного Георгия, хоть и переспал с половиной бабенок старушки Земли. В своих странствиях по свету он овладевал разномастными женщинами. В Тибете ему подсовывали малюток-таек в подпольных борделях. Лучше полек и француженок он никого не пробовал. Изящны, тонки, умны в постели, загадочны – никогда не покажут мужику ни краешка грязного белья, лишь таинственные белоснежные кружева.
Его учителя… Он учился у Тамерлана и Наполеона, разграбившего пол-Египта, у Гитлера и Геринга, расхитивших пол-Европы в заварушке Второй мировой. Что там Батый и Тамерлан! Он-то все знает про тайные хранилища Германии, Австрии, Швейцарии. Он поднаторел в своем страшном ремесле, и его находила удача за удачей. Удача ждала его всегда – там, завтра, за поворотом, на восходе солнца. Он тщательно исследовал Анатолийское плато в Турции – место рожденья и гибели многих цивилизаций и городов древности. Троя, дивная Троя! Ты тоже там цвела и шумела, рядом… Колыбель человечества? Люди всегда искали ее. Быть может, каменная колыбель затаилась под землей в Анатолии, и Время спало в ней, шевеля костяными ручонками, вздымая ребра детского скелета в мерном дыханье. Быть может, она ждала того, кто найдет ее, в горах Саян, в Тибете, в сердце Азии. Найти и завладеть. Это воля мужчины. Земля – женщина, она всегда украшала себя сокровищами. Люди нагружали драгоценностями, отправляя в Мир Иной, любимого вождя, дорогую жену, усопшую милую мать, думая, что там, в Ином Мире, побрякушки понадобятся умершим. Как жестоко ошибались бедные люди. Сокровища надобны живым. И лишь живым. Он тоже будет мертвым, Вацлав Кайтох. И, пока он не стал мертвецом, не превратился в гремящий костяной мешок – грести, грабить, присваивать, овладевать! Владеть. Вот высшее счастье. Выше счастья власти и воли ничего нет на земле. Никакая любовь, никакое совокупленье, содроганья зверя о двух спинах не сравнятся с властью. Тут тебе и вся любовь, и весь мир. И все деньги мира, россыпи золота, ночные золотые огни в кромешной тьме внизу, там, у подножья многоглазой каменной пирамиды, упирающейся в черный зенит.
Он, Кайтох, откроет свою Трою. Это будет только его Троя. Только его. Он никому ее не уступит. Он убьет Бельцони, если он сунется. Он отшвырнет локтем Жермона. Он разрушит любые крепости, стоящие на его пути. Это его путь. У каждого свой путь, и свернуть с него – не во власти человека.
Он докурил сигарету, замял в пепельнице; поднес пропахшую табаком руку ко лбу и перекрестился по-католически – слева направо, всей ладонью, потом прижал ладонь к губам. Матка Боска видит все его кровавые дела; все его копошенье в золотых игрушках; и до сих пор она не покарала его, и Езус Христус тоже. Главное – не забывать заходить в костел, что в Большом Гнездниковском переулке. И ставить свечу-громницу. В конце концов, он старается не только для себя. Он спасает то, что другие люди, звери и варвары, могли бы уничтожить, изрубить на куски, сжечь без следа, взорвать, бросить на дно моря.
Макинтош на плечи; беглый взгляд на часы на руке. Касперский в Турции, он занимается Задорожным; шофер опаздывает. Когда Касперский в Москве, он подвозит его домой. Красивый у них с Иреной дом на Каширке, ничего не скажешь. Поместье. Рядом американский поселок Росинка, там живут те, кто работает в посольстве. Посол – его друг. Они с Иреной иногда ходят к Кеннетту Фэрфаксу есть жаренное на мангалах мясо и пить холодное пиво, доставая банки из ведер со льдом. Ежи будет учиться в Нью-Йорке, решено. Пусть глотнет заокеанской цивилизации. Старая Европа – сама уже почти могильник. Вот ужо он займется раскопками. А Америка девственна. Она еще свежа, дика и нетронута. Три небоскреба в Нью-Йорке и парочка ракет в Хьюстоне – еще не дефлорация. Америка ждет того, кто овладеет ею. Это должен быть человек, самый богатый в мире. И самый умный. Ежи дурак. А у него, у Кайтоха, уже слишком мало времени. Надейся, поляк, по-русски на авось.
Дверь хлопнула. В погруженную в летний сумрак комнату вошел человек. Дождь шумел, нежно шуршал за окном. В открытое окно залетал острый запах тополиной влажной смолы.
– Машина внизу, господин Кайтох.
Он поправил перстень-печатку с алмазами на безымянном пальце. Италия, Венеция, шестнадцатый век, кольцо дожа. Подарок подхалима Бельцони.
– Идем, я уже проголодался.
Он спустился с шофером вниз с пятнадцатого этажа в бесшумном лифте. Ком подкатил к горлу. Захотелось плакать. Зачем он вспомнил Ирену. Ее не теперешнюю, нет, – девочку с косичками на концерте Эдиты Пьехи, которую он подцепил и затащил к себе домой, изнасиловав в первый же вечер.
Наедине с сокровищами неведомого царства, в тюрьме, взаперти, жить, дышать, есть, спать. Это так трудно. Это же невозможно, Боже.
Крестьянский турецкий сундук, обитый кованой медью. Прямо как у нас в России. Он забывался на миг тяжелым, беспросветно-черным сном, просыпался, весь в поту, задыхаясь – в каморе было очень душно. Окна не открывались. Стекла были зарешечены. За окнами шумел на жарком ветру сад. Хотя бы глоток воздуха, ветра. Он обливался потом, чертыхаясь, стаскивал с себя и отжимал рубаху прямо на пол. Ходил по каморе голый, сначала в джинсах, потом в плавках. Проснувшись, сразу бросался к сундуку. Господи! Кольца, нанизанные на кривую медную проволоку, княжеские перстни. Тысячи лет назад мастера-ювелиры могли делать такие шедевры, что и не снятся нашим Левшам. Громадная шпинель, вставленная в золотую оправу в виде распахнутой львиной пасти, потрясала его. Лев держит в зубах сгусток крови, кусок жизни! Чье-то красное, живое сердце… все страданье и весь праздник видны напросвет… Вот чаша, всем чашам чаша… Как потир из Троице-Сергиевой лавры, только еще массивнее, еще царственней… Он бережно, как ребенка, брал чашу в руки. Налить бы в нее вина. Холодного вина. Или колодезной воды. И он выпил бы воду, как лучшее вино. Он подбегал к двери, неистово стучал, кричал по-русски: «Сволочи, принесите мне воды!» Раздавался шорох, переговариванья, смешки. Приходила девушка – не Хрисула, другая, безмолвная турчанка, до самых глаз закутанная в полупрозрачную черную паранджу, – приносила на замызганном подносе кувшин с водой, пахлаву, тонко нарезанное вяленое мясо. Его кормили хорошо, даже слишком хорошо. Он не терпел восточные сладости, а его заваливали сладким. Когда фарфоровый истукан просовывал в дверь рожу и, сладко улыбаясь, справлялся: как там наши научные изысканья, профессор?.. – он, голый, весь мокрый и блестящий от пота, стоя над сундуком, в окруженьи разложенных на полу рукописей, листов из блокнота, начатых и законченных рисунков, торопливых бешеных записей, кричал ему: «Забери назад все свои финики, сука!.. Свари мне лучше тюремную баланду, как в славной русской каталажке!.. Как в ГУЛАГе!..» Он обнаружил, что умеет материться. Да, Роман Игнатьич, вот так ломаются люди. Ну, врешь, меня голыми руками не возьмешь. И я не сломался. Я выкарабкаюсь отсюда. Я собираю информацию для людей, которые, сволочь ты фарфоровая, щенок породистый, займутся вами.
Он склонялся над сундуком. Брал в руки карандаш. Клал на голое колено картон, листок бумаги, выдранный из альбома. «Никон» у него отобрали еще тогда, когда эта шлюха привезла его сюда. Вот он, ее витой браслет, в сундуке. Она, улыбаясь, сняла его с руки и положила в сундук. Медленно, насмешливо, неотрывно глядя на него, ему в глаза.
Он досконально изучил браслет. Он несомненно царский. Он не греческий, нет. Он рисовал его, рисовал – крупные витки металла, золотую косичку, щербины письмен, бегущего льва со всадником на спине. Лев и всадник! Или – всадница… Он всматривался в фигуру, сидящую верхом на льве. Кто же это?.. Охотник?.. Божество?.. Повернув неожиданно браслет к тусклым лучам керосиновой лампы – в нее турчанка аккуратно, каждый день, подливала керосину, – он увидел внезапно, как блеснули в мрачном тоскливом, будто подземельном, свете длинные волосы, развевавшиеся за плечами, за спиной всадника. Женщина?!.. Он поднес браслет ближе к глазам. Да! Так и есть! Как же он не понял – нежно выгнутое бедро, маленькая стопа, длинные тонкие пальцы в гриве зверя… Богиня… или царица?.. Почти нет на ней украшений… боги всегда изображались без украшений, их красота исторгалась из их нетленных тел сама собою… стоп, стоп!.. Рассмотри ее голову, Роман… видишь, видишь – обруч?.. диадема… еле видный ободок вокруг золотых волос… Диадема, знак царской власти… Царица, владычица неизвестного, забытого государства…
Он точно занес на листы ватмана, в альбомы и блокноты все письмена, все знаки, встречавшиеся на золотых сокровищах. Непонятный, мертвый язык, который не знал ни он, ни кто другой в мире. Он жадно пил из кувшина, вознося его над головой, выгибая шею, двигая кадыком. Он жрал это чертово вяленое турецкое мясо, лопал икру, что приносили ему в маленьких серебряных вазочках, давился еще теплыми лавашами, с ненавистью глядел на горсти рассыпанных по подносу фиников. Клинопись, иероглифы, тайные клейма! Господи, он забыл перерисовать еще вот этого золотого зверя. Кажется, бык; рога мощные, как у тура… или горного козла-архара. Нет, бык, судя по могучей груди, по тонкому хвосту, взвитому над сухими задними ногами. А что это под ним… еще золотая фигурка… лев! Ну да, лев! У какого древнего народа лев был божеством?! А?!.. ты, профессор кислых щей, а ну-ка, поднатужься… львы здесь, в Анатолии?.. почему бы нет, Африка рядом…
Сколько времени он в заточеньи?.. Неделю?.. Больше?.. Сколько еще сокровищ не зарисовал, не рассмотрел он?.. Шлиман, увидя впервые сокровища царя Приама, так не рыдал, стоя на коленях перед ними, как перед святыней – от радости открытья, от ужаса бессилья… Он уже о многом догадался. Вещи все были из одного могильника. Похоронены были владыка и его жена – вещицы в саркофаге, откуда наверняка они перекочевали в сундук, принадлежали и мужчине, и женщине. Золотые наконечники копий, колчаны, изукрашенные золотом и аметистами, соседствовали с женскими золотыми гребешками, с гривнами, одеваемыми на грудь, даже с маленькими ножными браслетами – перисцелидами, что надевались на женские щиколотки, – украшенными крохотными золотыми колокольчиками. Царица шла, и при каждом движеньи браслеты издавали легкий звон… Боже мой, Боже…
Он запустил руку в сундук. Дно сундука было уже близко. Все драгоценности, рассмотренные, зарисованные и описанные им, уже лежали по всей каморе, где угодно – на полу, на колченогих стульях, на столе, на подоконниках. Оставалось совсем немного. А это что такое?.. Скелет… Они вытащили кости людей, но не смогли выбросить кости животного… Собачий скелет. Маленький верный пес. Любимая собака царской четы. Ее тоже положили вместе с ними.
Задорожный осторожно выпростал кости из груды золота, сложил на бумагу. Когда-то они были внутри живой, радующейся жизни плоти, собака бегала, кусала врага, приветственно лаяла, ласкаясь к хозяину. Скажи, собака, кто был твой хозяин?.. Роман морщил лоб, пытаясь понять. Вот крошечная фигурка женщины-жрицы. Одежда странная. На Крите, он знал, носили юбки и открывали наголо грудь. Здесь жрица закутана в кусок ткани наподобье индийского сари, но это не сари. Какая простота! Никакой вычурности, никчемности… Нет, это не греки, не египтяне, не хетты, хотя кое-что похоже, похоже… О, серебряный кинжал, на рукоятке – изображенье прыгающего в море дельфина… И ни одного изображенья, изваянья корабля! Морская цивилизация – без кораблей, без воспеванья моря?.. Греки тоже любили дельфинов, обожествляли их, но рисовали их немного иначе… Вот сосуд, формой напомнивший ему гончарные изделья из раскопанного государства царя Креза… Странные изогнутые светильники в виде турьих рогов… Золотое нагрудное украшенье – такие, отправляясь на смертную битву, надевали воины Урарту… Нет, это и не Урарту! Другой узор! Иные знаки!
Что же там еще, что еще?.. Он заглянул в темный сундук. По его обнаженной спине пот тек уже ручьем. Он то и дело стряхивал капли пота с лица. Его седые волосы, отросшие в застенке, сияньем встали вокруг головы. На дне сундука лежал большой золотой слиток. Он протянул руки, взял, вынул. Не слиток! Маска!
На него глядело надменное золотое лицо. Властный прикус тонких губ. Высокий лоб. Красивый вырез ноздрей крупного, гордого носа. Глаза узкие, длинные, чуть скошенные к вискам, широко расставленные. Вокруг лба – диадема с тремя зубцами. Лицо, лик, личина… Он дрожащими пальцами, боясь поверить себе, погладил маску.
Он глядел на лик древнего царя, а царь слепыми золотыми глазами глядел на него. Они глядели друг на друга – живой и мертвый.
И Роман понял, что глядит в зеркало.
Царь был как две капли воды похож на него.
Он был как две капли воды похож на царя.
Ему стало плохо. У него все завертелось перед глазами. Он хотел положить тяжелую маску обратно в сундук – и не смог. Он ничего не понимал. В его висках билось: да, да, да, он нашел себя, это он, это он. Да, он жил тогда. Да, он жил всегда!
Люди не боги, господин профессор Задорожный, ой, не боги. Ты загнул, казак, не ту оглоблю. Древний царь неведомой земли! И ты! Три отрока горели в пещи Вавилонской, Сусанна купалась в бассейне, а старцы глядели на нее… А вы были братья, там, на небе, как две звезды. Ой, бредишь ты, Роман Игнатьич! Рюмочку бы тебе сейчас хлобыстнуть… родной горилки, с красным перчиком…
Дверь стукнула. В камору вошел тот, гладкорожий. До чего выхолен, гад, а. В руке револьвер. Он поигрывал им, мял его, как эспандер.
– Хороша мордочка, ты не находишь, профессор?.. – Фарфоровый манекен ткнул стволом револьвера в золотую скулу. – Ты уже определил, кто это?.. долго, долго ты копаешься… запоминаешь во всех подробностях все?.. все равно тебе спецы не поверят, а народ ты заинтригуешь… народ, он падок на рекламку, как муха на мед… ты понял, почему мы тебя тут держим, знаменитость недорезанная?!..
Задорожный, подняв голову от маски, что держал по-прежнему в руках – пальцы побелели от напряженья, – тупо, тускло поглядел на красавца. Он молодой, а ты старый, Роман. Все его – при нем. Вся жизнь – при нем. А у тебя – уже на дне дорожной торбы. На дне сундука. Вот она вся, твоя жизнь – твоя золотая маска.
– Я попрошу тебя, подонок, выпустить меня отсюда сразу же, как я закончу изученье этой уникальной…
– Не бойся, папаша, все твои записки сумасшедшего отксерокопируют и к делу пришьют! – Фарфоровый откровенно смеялся. Револьвер блестел черно, лаково. – Если ты не допер еще, что к чему, значит, ты совсем дурак… или святой!.. Вас в Совдепии всех святыми воспитывали… А мы не хотим возносить хвалы властелину, когда тот нас колесует. Мы сами хотим его колесовать. И сами будем властвовать. Да мы уже владеем всем. А вы, идеалисты…
– Да, мы идеалисты. У нас была Вифлеемская звезда, пащенок, – холодными губами проговорил Роман. Положил маску на дощатый стол. – Не красная, гад, запомни – Вифлеемская. К какой звезде идете вы?! К Богу или к маммоне?!
Фарфоровый, глумясь, приставил револьвер к его виску. Роман вздрогнул от прикосновенья ледяного дула.
– Ты, кончай забавляться…
– Кончаю. – Красавчик отступил на шаг, оценивающе обмерил глазами голого, потного, в одних плавках, Романа. – Жизнь бесконечна, запомни. И в ней все забавляются. Каждый кейфует, как может. Хочешь поразвлечься, профессор?.. – Он протопал к двери, припечатывая половицы тяжелыми, похожими на военные, ботинками, резко распахнул ее, свистнул, будто подзывал собаку. На свист отозвалось шуршанье ткани. Чьи-то ножки просеменили по коридору. – Я так догадался – тебе приглянулась наша Хрисула, так получи ее… ты поработал славно, отдохни, ты заслужил… это тебе вместо вечерних фиников…
Задорожный отшатнулся. В дверь вошла гречанка. На ней была длинная черная шелковая юбка, расшитая по подолу золотыми звездами. Грудь и спина были обнажены. До пояса на ней не было надето ничего.
Критский наряд, прошелестели его враз пересохшие губы. Они нарядили ее древней критянкой. Зачем этот маскарад?.. Ну да, это же ее работа… каждый отрабатывает свой хлеб, как умеет… ей, бедняжке, платят за это… Господи, каково же быть женщиной на этой земле.
– Оставляю вас вдвоем, голубки, поворкуйте, – хохотнул фарфоровый, шагнул за порог. – Замечаю время. Если что не понравится – ты нам, папаша, скажи. Исправим.
Дверь нагло хлопнула. Они остались в каморе одни.
Он подошел к Хрисуле, подошел близко, дерзко. Его грудь была гола и мокра. Ее – поднималась часто, порывисто. Вокруг сосков мерцали темные круги. От ее тела сильно пахло розовым маслом.
Они стояли близко друг к другу, и он чувствовал ее тепло. Она слегка приоткрыла рот, глядя на него, и под губой у нее чуть поблескивали зубки, как у зверька.
– Ты давно на них работаешь?..
Он спросил это тихо, по-английски. Она не опустила глаз. Он рассмотрел ее глаза. Карие радужки с золотыми крапинами. Чуть синеватые белки. Веки чуть скошены к вискам, как у царской маски.
– Давно, – выдохнула она. – Это русская антикварная… археологическая мафия. Они изловили меня в Стамбуле, в ресторане. Они тогда работали в Греции. В Греции раскопали уже все, что можно раскопать. Турция была еще терра инкогнита. Турция дикая, тут много диких, заброшенных мест, как в России, пустынные пространства. Хеттам было где разгуляться. Османцам тоже.
Она смотрела на его голую грудь. Подняла руку, провела ладонью по выпуклой пластине мышцы. Рука заскользила, как по маслу.
– Ты вспотел…
– Не виляй. Ты не ресторанная шлюшка. Ты хорошо образована. Где ты училась?.. В Чикаго?.. В Виндзоре?..
– Тебе незачем это знать. Шлюхи тоже могут быть весьма образованы.
Он вспомнил знаменитых гетер – Аспазию, Таис, Сапфо, Лесбию. Устыдился. Почему бы девочке не знать английский, не знать историю своей родины. Она же не вокзальная подстилка за динар. Она отловила его в поезде, сыграв не хуже, чем в голливудском кино. А сейчас? Она играет и сейчас?.. Или она пришла к нему потому, что хочет его?.. Она не снимала руку с его груди. Рука скользила все ниже. Она с ним одного роста. Как все пошло, плоско, страшно. Вон оно, его ложе – нищая деревенская постель, укрытая овечьим вязаным одеялом. И керосиновая лампа мигает, тлеет. Светильник, древний лампион.
– Как ты думаешь… – Он спросил то, что не должен был спрашивать. – Я останусь жив? Меня убьют?..
Она подалась чуть вперед. Ее приподнятые соски коснулись его торчащих под кожей ребер. Да, мощен и строен божественный царь бесконечных просторов, тысячу жен он имел и пятьсот чернокудрых наложниц. Ее прикосновенье заставило его дернуться всем телом. Внутри него, как в светильнике, зажегся огонь. Продажная тварь! Она получает за это деньги! Деньги…
– Я не знаю. Я ничего не знаю, поверь мне. Если бы знала – сказала.
Он схватил ее в объятья. Он сам не помнил, как у него это вырвалось:
– Спаси меня! Освободи!
Она легко потрогала губами его потную ключицу.
– Но тогда убьют меня. Доктор Касперский сначала поимеет меня, потом выстрелит мне в живот, потом в рот. Он сам так сказал. Он знал, что ты меня об этом попросишь.
Он изругался вслух по-русски. Потом добавил по-английски: fucking mother. Хрисула кротко заглянула ему в глаза. Потом нагло просунула руку ему между ног.
– Мы теряем время, профессор. Я же вижу – ты хочешь меня. Зачем людям притворяться.
Он застонал, весь искривился, с силой, преодолевая невидимое страшное препятствие, будто толкал телегу, отшвырнул ее от себя.
– Затем, что если б люди совокуплялись под каждым забором, Бог бы совсем отвернулся от земли. Я же здесь истязуемый! И ты приходишь сюда по приказу истязателей! Где же тут наслажденье, Хрисула! – Он уже хрипло кричал, не сдерживаясь, как пьяный. – Где же тут удовольствие! Или ты машина! Ты механическая кукла! Ты просто классная проститутка, и тебе все равно, кто движется в тебе, кто насаживает тебя на себя, под какой лавкой ты раздвигаешь ноги!
Она опять подалась к нему, к его искаженному лицу. Ловила его за руки. Ее пот, смешавшись с растекшимся по телу розовым маслом, ударил ему в ноздри.
– Ты думаешь, я только раздвигаю ноги, да… да, я действительно их раздвигаю… я раздвигаю их всю жизнь… всю жизнь!.. и это меня Бог создал такой, да, такой… а зачем же он меня такой вот создал, а?!.. за мои грехи?!.. но ведь я была маленькой хорошенькой девочкой, я не грешила, я ходила в школу, я вышивала и вязала, я любила маму и бабушку… я не хотела раздвигать ноги перед каждым, слышишь?!.. мы никто этого не хотим!.. но так получается, так все выходит, так…
Она поймала его руку, не выпускала. Он сжал ее руку до хруста. Вспомнил, как сжимал ее руку в поезде. Она опять положила ему другую руку на потный, поджарый живот, ощупала напряженные до боли мышцы, прижала ладонью. Он застонал.
– Это невозможно… так же нельзя, Хрисула… что ты делаешь…
Она встала на колени перед ним. Он положил руки ей на плечи, потом, сжав обеими руками ее виски, отодвинул от себя ее голову, ее жаждущие, протянутые, продажные губы. Она в ярости хотела встать, ударить его по щеке – он это понял, почувствовал, как напряглась, готовая взлететь, ее смуглая рука; он опередил ее, упал на колени рядом с ней. Два голых человека на коленях друг перед другом. Ее черная юбка разлетелась в стороны – искусный разрез, браво портному. Он видел, как блестят на черных курчавых волосках между ног капельки влаги.
– Я хочу тебя, – прохрипела она ненавидяще, – а ты не…
– Я не оскорбляю тебя. – Он положил ладонь ей на рот, заклеив его, готовый вытолкнуть крики, ругательства. Она сперва укусила ладонь, потом поцеловала. – Я хочу тебе помочь. Я хочу… я не знаю, что… я хочу, чтобы все было не так!.. не так… ведь есть же, есть же, в конце концов, Бог, так опоганенный, так… – он подыскивал английское слово, – так оплеванный нами…
Она согнулась. Спина ее выгнулась голым живым колесом. Лопатки торчали беспомощно. Она зарыдала, упрятав лицо в ладони. Может быть, ее слезы – яблочный сок? Он погладил ее по загривку, как зверя – там, где торчал позвонок и дорожка золотистого пушка сбегала вниз по хребту между лопаток.
– Бог, Бог… – пробормотала она по-английски, потом добавила по-гречески: – Теос… Где пребывает Бог, когда на земле люди убивают именем Его?! Когда люди готовы удавиться за золото, как эти… мои хозяева… за мертвые, никому не нужные желтые слитки, на которые можно купить все, все, ты понимаешь, профессор, – все!..
Он взял ее голову в ладони, стоя перед ней на коленях. Заглянул ей в глаза, блестевшие от слез. Синеватые белки светились. Соленая влага катилась по скулам, по подбородку. Он наклонился и слизнул слезу.
– Соленая, – прошептал он. – Как море.
Она рванула на себе юбку. Взяла его руку и положила себе на живот, горячий, как печка.
– Я сама как море… я вся прибой… хочешь – проверь…
Она стала целовать его, еле касаясь губами губ. Он целовал распухшие от слез губы, прижимая пылающий живот к ее продажному бедному животу, мгновенно и остро жалея ее, смертельно и жадно желая ее всю, сейчас, сразу, без остатка, и, кладя ее на холодные грязные половицы, не на утлое тюремное ложе, узкое, как долбленка, он подумал о том, что вот Бог, наверное, и есть любовь, если только этим люди могут сказать друг другу то, что не могут вымолвить языком; утешить и простить друг друга.
Ирена дождалась, пока Ежик заснет. Он долго ворочался на надувном матраце, вздыхал, бормотал. Наконец она услышала его тихое сопенье. Бедный мальчик, он влюблен в эту красивую сучку. А она не преминула, загуляла. Укатила на всю ночь в Керчь с этим Гурием, с думцем недорезанным. Думают они в Думе, да мы их всех передумаем все равно. Они думают – они держат кормило власти. Ан нет, просчитались, господа. Его держим мы.
Вчера она ездила на тряском вонючем автобусе в Темрюк, поговорила по телефону с почты, запрятанной в недрах покосившейся мазанки, с мужем. Кайтох сразу все понял. «Кто сделал снимки?!» – рыкнул только. «Леон и Страхов», – быстро ответила она. «Возьми снимки у того и у другого. Спрячь. Укради маску у мужика, у которого она в палатке. Сделай все шито-крыто. Сможешь?!» Она услышала по голосу – он волновался. Может быть, даже курил, кусал сигарету. «Хорошо, – сказала она, судорожно глотая слюну, но голосом улыбаясь и успокаивая его, – я все сделаю, ты не должен беспокоиться». Никто никому ничего не должен. Маска должна быть у нее. И она должна переправить ее в Москву.
Она натянула джинсы и выползла из палатки. Полночь, чуть за полночь. Вега, Денеб и Альтаир льют синий свет на землю. Вега в зените. Звезды аргонавтов, созвездья Архипелага. Которая палатка этого… Прораба?.. Вот уж он точно Прораб, никакой не Князь. Она облизнула губы. Ей предстоит его совратить. Занятье не из приятных, ежели мужик тебе не по нраву. Лучше лететь в горящем самолете, чем ложиться под не нравящегося мужика. Что бы ей такое придумать, как оправдать ночной визит. Главное – ввязаться в серьезный бой, так, кажется, сболтнул Наполеон?.. Серьезный бой. Кайтох не вооружил ее напрасно. И еще здесь болтается эта поганая Моника. Белая вошь, английская ведьма. И с нее ей тоже надо глаз не сводить.
Она подошла к палатке Сереги и Егорова. Палатка была закрыта на «молнию». Ирена расстегнула «молнию», просунула голову в душную тьму. Тихонько позвала:
– Всеволод Ефимович!..
Нет ответа.
– Всеволод… – Молчанье. – Ефимович!.. Проснитесь!..
Неужели спят в такую рань?.. Утрудились.
– Всеволод…
– О Господи, – низкий, хриплый голос Князя Всеволода; слава Богу, он здесь, не пошел купаться на море, некому его соблазнять – эта вертихвостка-медсестричка укатила в Керчь с Жермоном. – Кого еще там…
– Всеволод Ефимыч, – Ирена постаралась вложить в голос неслыханную нежность и мольбу, – вы мне нужны. Я случайно… совершенно случайно… нашла… ну, я не могу вам здесь об этом говорить…
Князь Всеволод, потягиваясь, на ходу застегивая ремень, вышел из палатки.
– Что еще… ах, Ирена, простите, это вы… я не разобрал впотьмах, чей голосок ангельский…
Она взяла его за руку. Потянула за собой.
– Идемте, – бормотала она, – идемте… Я вам сейчас это покажу… такое… такое… я сама очумела, когда нашла…
– Да что такое?.. Еще одну золотую маску?..
– Лучше, Всеволод Ефимыч, лучше…
Она тянула его за собой все дальше, все властнее. Туда, в заросли степного вереска и тамариска. На ковер высохшей на солнце душицы. На самый край обрыва. Далеко от всех глаз и ушей. Он позволял себя вести, покорно, недоумевающе. Когда она обернулась к нему, он увидел, как Луна просветила голубым призрачным светом насквозь, до дна радужки, ее сумасшедшие польские глаза.
Когда он заснул здесь, прямо на берегу, утомившись в потной и сладкой любовной борьбе – она расстаралась вовсю, извивалась под ним, кусала его и царапала, садилась на него верхом, едва он просил пощады и передышки, снова начинала его неистово целовать, – она прокралась к нему в палатку тише мыши. Серега Ковалев сладко спал в спальном мешке, похрапывал. Ирена не разбудила его ни шорохом, ни звуком. Она сама себе казалась призраком. Пошарив под подушкой, под матрацем у Всеволода, она вытащила золотую маску. Сунула ее под куртку, наспех накинутую на голое мокрое тело. Тяжка ты, любовная работа. Кайтох и не подозревает, какими путями она добывает сокровище. Врешь, он подозревает. Он все прекрасно знает. Не лукавь.






