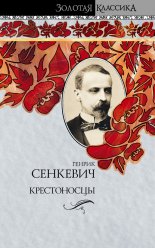Перевёрнутый мир Сазанович Елена

– Ну… Что я наблюдаю за тобой?
– Конечно, знала, – просто ответила она. – Ну, какой нормальный мужик не придет на свидание, если его назначает такая девушка, как я.
– Какая девушка? – Я нахмурился. – Лгунья, врунья, интриганка…
– Продолжай, продолжай! – Лида уже откровенно смеялась.
Мне так хотелось продолжить – и к тому же бездарная актриса. Но Лида прижалась ко мне всем телом. Ее волосы, еще мокрые, приятно щекотали мое лицо и пахли желтыми кувшинками.
– И к тому же прекрасная актриса, – продолжила она за меня.
И я не смог ей возразить. Я погладил ее влажные волосы, прикоснулся к ним губами. У нас был всего лишь месяц…
А вечером, проводив Лиду, я ждал появления Вальки. Это было в ее духе. Она непременно должна была появиться и устроить скандал. К чему я был готов. Даже придумал красочный монолог и привлек Чижика к своей защите.
– Ты любишь эту девчонку, Чижик. Так что, брат, помоги мне. Ну, лизни ее руку. Или посмотри на нее жалобно. Уж что-что, а это ты, дружище, умеешь.
Чижик вздохнул и, свернувшись калачиком, улегся у порога. Но Валька так и не пришла. Она не пришла и на следующий день. В глубине души я был раздосадован. В конце концов, она же влюбилась в меня и даже возомнила себя моей невестой. Однако же Валька стала для меня не единственной досадой. В этот вечер не пришла и Лида. И я уже не на шутку разволновался. Столкнувшись на пороге дома с запыхавшимся Мишкой, я и вовсе испугался.
– Ну же, – я втащил его за ворот пиджака в дом. – Только без предисловий, что случилось?
– Заболела, – выдохнул Мишка. И уже более спокойно добавил: – Но ты, Данька, не волнуйся. Просто перегрелась на солнце. Знаешь этих столичных штучек. Они и солнца-то у себя за небоскребами не видят. Вот и, вдохнув глоток свежего воздуха, падают почти замертво. И где такое видано, чтобы люди болели от солнца и воздуха?! Чокнуться можно. Нет уж… Такая жизнь не по мне.
Мишка уселся развязно на диван и, забросив ногу за ногу, вытащил из пиджака «Кэмел» и золотистую зажигалку той же фирмы. Но не успел прикурить. Я мгновенно выхватил пачку сигарет из его рук.
– Мишка! Вот отцу расскажу!
Мишка от души расхохотался.
– Ну, Данька! Ты меня совсем уморил! Словно из каменного века! Да я уже год как курю! Даже если бы не курил, то непременно с сегодняшнего дня бы начал. Разве от такого шика отказываются! Я ведь только «Приму» и пробовал.
Я внимательно посмотрел на Мишку. Его уши торчали в разные стороны, старый пиджак с отцовского плеча болтался на худеньких плечах, глаза по-детски блестели при виде новой игрушки. «Кэмел» Мишке был так же к лицу, как медведю смокинг.
Я устало опустился на диван рядом с парнем.
– М-да… А мне все кажется, ты ребенок. Совсем не замечаю времени. Знаешь, Мишка, оно для меня словно застывает здесь, на природе. Словно ничего не взрослеет, не стареет, не умирает. Только рождается. А ведь это далеко не так.
– М-да-а-а, – вторя мне, глубокомысленно протянул Мишка. – Ты совсем одичал, Данька. Совсем. И, не в обиду тебе сказано, постарел. Хоть и на природе.
Мишка мастерски чиркнул блестящей зажигалкой из фальшивого золота.
– Артисты подарили? – показал я на «Кэмел».
– Угу. Они, кто же еще. У них там все знаменитости такие курят. А про спички они вообще уже думать забыли. Да, мы с тобой – темнота, каменный век. Сигареты, кстати, твоя… эта… артистка преза… презентовала – за успешную работу. А зажигалку ее дружок. Ух, как я обрадовался, мне в жизни таких подарков не делали. Даже на день рождения. Самый дорогой подарок был – перочинный ножик от отца. Да разве сравнить с такой зажигалкой!
– А где ты их встретил? – направил я разговор Мишки в нужное русло.
– Да в номер к твоей артистке заходил, отец велел занести ей лекарства. Она лежит на кровати с мокрым полотенцем на лбу. А этот красавчик сидит у ее ног, как верный пес.
Внутри у меня все перевернулось. Я сжал кулаки. И почему-то спросил:
– Целуются?
– Чего? – не понял Мишка.
– Ну, ты же сам говорил. Они когда-то целовались.
– Я? Ах да! – Мишка стукнул себя по лбу. – Совсем забыл. Почему-то когда врешь, всегда забываешь.
– Зачем ты мне врал, Мишка? – Я не разозлился на него, а только облегченно вздохнул.
– Да я б ни в жизнь! – Мишка стукнул себя кулаком в грудь. – Это она мне велела тебе сказать… Ну, что целовалась.
Я уже ничего не понимал. Моя голова шла кругом. Почему-то ужасно захотелось спать.
– А ей-то зачем это было нужно?
– Ты, Данька, как ребенок. Ничего не понимаешь в жизни. Ведь только так, с помощью ее безбожного вранья, ты и попался на удочку.
– Все вранье, кругом одно вранье. – Я устало провел ладонью по вспотевшему лбу. – Презенты ты от нее получил за это?
– И за это тоже. Да ты не отчаивайся, Данька. Любой бы только мечтал попасться на ее удочку. С помощью вранья или нет – какая разница.
– Наверное, никакой. Для них там вообще не существует разницы между правдой и кривдой. Все одно. Артисты.
– Ну же, Данька, – Мишка встревожено смотрел на мое равнодушное лицо, на мои потухшие сонные глаза. И даже встряхнул меня за плечо. – Ну же, Данька. Чего ты? Все же нормально. Ну… Ну, хочешь, хочешь, я и ей что-нибудь скажу, в отместку. К примеру, как ты целовался с Валькой, хочешь? И презент мне никакой от тебя не нужен, ты же мой друг. Это от тех брать можно, для них это нормально.
– Не хочу, Мишка, – я потрепал его по щеке. – А ты иди, Мишка, иди. И Вальку не впутывай. Она хорошая девчонка.
– Хорошая… Только хороших почему-то не так сильно любят. А этой, твоей артистке, чего-нибудь передать?
– Пусть выздоравливает.
Я вышел проводить Мишку за порог. Мишка опрокинул голову к небу. Тяжелые тучи повисли над лесом. Особенно остро чувствовались запахи смолы и бессмертника. Птицы низко летали над соснами, задевая их крыльями.
– Скоро дождина зарядит, на неделю, – усмехнулся Мишка, видимо, вспомнив Самсонов день. – Не придется им больше умирать от солнца. Ну разве что от глотка свежего воздуха.
Мишка небрежно чирикнул золотой зажигалкой. Яркий огонь вспыхнул у него в руках.
– Красиво, – почему-то печально вздохнул Мишка. – И руки не обжигает. От спичек так не бывает.
– Огонь он и есть огонь. Может согреть, а может обжечь. Ну, бывай, дружище.
Мишка, приподняв ворот пиджака, быстрым шагом направился прочь от моего дома. Я пошел закрывать ставни. Дождь хлынул раньше времени. Я уже собирался бежать домой, как заметил, что в кустах неподалеку от моего дома что-то белеет. Глаз мой был зоркий и натренированный.
– Вот чертяги столичные! Вечно мусорят, нет от них покоя. Словно у себя в городе, а не в лесу.
Я, сварливо ворча себе под нос, разгреб руками кусты и заметил в глубине их насквозь промокшую полную пачку «Кэмела», недалеко валялась обляпанная грязью блестящая зажигалка…
Следующим утром, забросив все дела, я, как верный пес, сидел у ног Лиды. Вновь заменяя Эдика. Лида играла уже не беспомощного ребенка, барахтающегося в воде, а несчастную больную девчонку. Она то и дело шмыгала носом, лоб ее был перевязан мокрым полотенцем.
– У вас такое солнце вредное, – капризно пробормотала она, перед этим пару раз охнув и ахнув от боли. – Даже на югах со мной ничего подобного не случалось.
– Солнце, Лидка, не бывает вредным, – улыбнулся я, гладя ее запутанные волосы. – Только люди.
– Такие, как я? – обиженно надула пухлые губы Лида.
– Нет, ты ведь у меня солнце.
Я огляделся. Мне стало немножечко грустно. С самого начала я знал, что это номер Марианны Кирилловны. И сейчас, впервые заглянув сюда после ее смерти, я вдруг по-настоящему понял, как мне не хватает моей костюмерши, наших прогулок у озера, наших долгих бесед у затухающего костра, нашей сирени с пятью лепестками. Пожалуй, никто меня в жизни так не понимал, как Марианна Кирилловна. И я знал, что это понимание было взаимным.
Лида, заметив, что я погрузился в мысли, тут же принялась вновь капризно охать и ахать, жалуясь на свое недомогание, изо всех сил стараясь привлечь к себе внимание. Вообще-то она была плохой актрисой. Хотя, возможно, я мало что смыслил в актерской игре.
– А ты где-нибудь уже снималась, Лидка? – зачем-то спросил я у нее.
Ее глаза растерянно забегали по моему лицу. Но тут же решительно остановились где-то у переносицы.
– Конечно, снималась! – Она вызывающе встряхнула головой, забыв, что та у нее болит. – А ты думал, я плохая актриса?
Именно так я и думал. Ей сниматься противопоказано. Пожалуй, настоящие съемки у нее начались только здесь, в Сосновке. Где играла она исключительно для меня.
В дверь постучали. Молодая горничная, моя старая знакомая Галка, принесла нам чаю. По Лидиному приказу. Именно приказу. Не меньше.
– Фу! – фыркнула Лида, пригубив чай. – Совсем остывший! Я же просила – горячий! Совсем ничего делать не умеют!
Лида вела себя по меньшей мере, как Любовь Орлова, словно в запасе у нее были десятки знаменитых ролей. Хотя подозреваю, что великая актриса так не поступила бы ни за что в жизни.
Горничная покраснела и, заикаясь, стала оправдываться перед этой разбалованной девицей. Но я тут же ее прервал.
– Не слушайте ее, милая, – с нескрываемым наслаждением я отпил глоток чая, закатывая от удовольствия глаза. – Замечательный чай. Ничего подобного не пил, хотя вы прекрасно знаете, что в чем-чем, а в чаях я разбираюсь. Вы даже добавили веточки смородины, подумать только!
Галка расплылась в довольной улыбке, но все еще опасливо поглядывала на Лиду.
– Знаете, – обратился я к Галке, чтобы до конца ее успокоить, – а ведь так не хватает Марианны Кирилловны. Едва переступив порог этого номера, я сразу понял, как ее не хватает. По-настоящему.
Горничная была свидетелем нашей дружбы с костюмершей и понимающе вздохнула.
– Мы все ее здесь любили. Она от всех отличалась. Такая вежливая, милая, понимающая. – Это был камешек в огород Лиды.
– Ты можешь идти! Ну, чего встала! – закричала на нее Лида, вскочив с кровати.
Я схватил ее за руки и силой усадил на место.
– Как тебе не стыдно! Что с тобой! Ты и впрямь перегрелась! – Я обернулся к горничной. – Иди, Галка, все в порядке, иди.
И все же последнее слово Галка решила оставить за собой.
– Это же надо, такая была чудесная бабушка и такая оказалась невоспитанная внучка! Господи, как тесен мир, – едко заметила она и тут же смылась.
Воцарилось молчание. Я в оцепенении уставился на Лиду.
– Что она сказала?
– Откуда мне знать! – Лида мгновенно успокоилась и вновь приняла больной вид, прикладывая к голове влажное полотенце.
– Она что… То есть… Марианна Кирилловна – твоя бабушка?! – Это был настоящий шок для меня.
– Ну и что тут такого? У всех есть бабки. Я же не виновата, что моя оказалась именно Марианной.
Я сидел, обхватив голову руками. Очередное вранье. Даже для одного месяца многовато. Я медленно повернулся к Лиде. Наверное, у меня был устрашающий вид, потому что она испуганно вздрогнула.
– Но почему ты мне ничего не сказала? Я же не раз рассказывал тебе про Марианну Кирилловну. Почему? Я не понимаю. Ты только объясни – почему?
– Да потому!
Лида вновь вскочила, полотенце упало на пол. И вообще, по-моему, она выглядела совсем здоровой.
– Потому что пришлось бы рассказывать про нее, тебе же она так нравилась. Тратить время на пустые воспоминания и прочую чепуху… А я хотела, чтобы ты был только мой. Только мой и все! – Лида топнула в подтверждение своих слов ножкой.
– Странно, а костюмерша говорила, что она совсем одна. Одна на всем белом свете.
– Это ей захотелось быть совсем одной. Придумывать свой фантастический мир и жить в нем. Грезить о каком-то великом кино, которое мы якобы потеряли. А по-моему, потеряла только она. Я лично все приобрела. И кино, и настоящий мир. И меня он вполне устраивает.
– Она обо мне говорила? – Я не отрывал от Лиды взгляд.
Я знал, чувствовал, понимал, что говорила. Но каждую секунду боялся, что Лида соврет.
– Да, – почему-то на этот раз она не соврала. – Говорила. Более того, утверждала, что ты у нее самый близкий человек на земле. И твоя земля тоже самая близкая. Потому что вы настоящие, а мы, видите ли, из папье-маше. Поэтому для нас она и шьет костюмы. В общем, бред какой-то. Как может стать самым близким случайный человек?
– Я же – случайный человек, но для тебя стал самым близким.
– Ты – другое. У нас ведь любовь…
– Кроме любви есть и другие отношения. Может, более глубокие. Иногда люди, зная друг друга всю жизнь, так и не находят общего языка. А иногда… Одного дня достаточно, чтобы друг друга понять. В общем… Знаешь, мне кажется, Марианна Кирилловна действительно была очень одинока…
Мне так и не удалось закончить эту глубокую мысль, потому что в комнату ворвался Эдик с охапкой полевых цветов. Увидев меня, он застыл на пороге, как статуя, и его губы скривились в презрительной усмешке.
– А… Охранники зеленых насаждений! Надеюсь, вы меня не арестуете за ущерб, нанесенный лесам и полям. – Он протянул цветы Лиде, и она уткнула в них лицо, жадно вдохнув приторный аромат.
– Не арестую, – резко ответил я и поднялся.
– Еще бы. Все это народное достояние, а не достояние одного человека.
Лида заметно оживилась с приходом Эдика. Она чувствовала себя рядом с ним в своей тарелке. И я подумал, что они здорово подходят друг другу. Она ему так же преувеличенно и театрально принялась жаловаться на солнечное недомогание. И он проглатывал ее слова без остатка. Как ни парадоксально, но они искренне верили в ложь, которой ежедневно кормили друг друга до отвала. Эдик даже умудрился пафосно продекламировать какой-то новомодный стишок без ритма и рифмы, который выучил накануне специально для Лиды. И девушка восторженно благодарила его. Стишок был бездарный, Лидка вполуха слушала его, так ничего и не поняв, но правила игры диктовали другую реакцию. А они строго следовали правилам игры. Мне здесь делать нечего. Я не артист, так что поспешил откланяться. Эдик даже не обернулся в мою сторону, а Лида послала ничего не значащий воздушный поцелуй.
Мне же вдруг захотелось увидеть Вальку, которая меня старательно избегала. И, собравшись с духом, «вдохновленный» встречей с Лидой, этим же вечером я нагрянул в дом доктора Кнутова. По дороге я почему-то собрал целую охапку полевых цветов. Кнутов встретил меня довольно радушно, он был интеллигентом до мозга костей, хотя я не мог не уловить в его тоне некоторой официальности.
– Вы знаете, Даниил, Валечки нет дома.
Был уже глубокий вечер, и я не поверил ни единому слову Кнутова. Где ей еще быть? Валька наверняка пряталась за дверьми соседней комнаты. И я как можно громче сказал:
– Как жаль, а я вот ей цветы принес. И еще орехи, – протянул я пакет с недозрелыми, еще зелеными плодами. – Она любит такие. Неспелые, самые сочные. Словно в молоке.
Кнутов подчеркнуто вежливо принял подарки.
– Я ей обязательно передам. Она будет рада.
За дверью соседней комнаты послышались шорохи.
– Всего доброго, Даниил. – Кнутов открыл двери.
– Андрей Леонидович. – Я прикрыл двери и понизил голос на два тона. – Не обижайтесь на меня.
– Вы ничего не обещали, Даниил. Абсолютно ничего. Вы всегда поступали честно.
– И все же… Я все равно чувствую за собой вину.
– Вы не можете винить себя за то, что вас любит моя дочь. За чужую любовь не судят. А вы полюбили другого человека. И за свою любовь не судят тоже.
– Вы все понимаете. И все же… Как Валька?
– Я слишком долго пожил на свете, чтобы не понимать, что все проходит. И первой, возможно, проходит любовь. Но Валя еще слишком молода, чтобы понять это. Поэтому ей тяжело. И все же, я думаю, это к лучшему. Лучше больше эмоций, трагедий, разочарований пережить в молодости. Потому что они переживаются. Думаю, потом моей дочери жить станет гораздо легче. Трудности зачастую идут на пользу. Вырабатывают, так сказать, иммунитет. Моя дочь обязательно выздоровеет. А пока… Не ищите с ней встречи. Вы понимаете?
– Я понимаю.
Меня действительно мучила совесть по отношению к Вальке. Но я думал о Лиде. И я думал, что моя любовь может все оправдать. Доктор Кнутов был прав. Я не мог судить себя за любовь. И я не виноват, что не всегда она выбирает тех, кто этого заслуживает. Я все списал на любовь.
Мы больше не ссорились с Лидой, если вообще наши мелкие разногласия можно было назвать ссорами. Я многое в ней не принимал. Но не мог не понимать, что она дитя города, в котором живут по другому уставу. Отклонение от него грозит одиночеством. Что и случилось с моей костюмершей. Этого я Лиде не желал.
В последние дни наша любовь приобрела более яркие и более сумасшедшие краски, передающие дыхание каждого мига, улавливающие чувственность каждого движения. Если бы я был теоретиком любви, я бы назвал ее импрессионизмом.
Однажды я даже привел Лиду на могилу Марианны Кирилловны, ее бабушки. И долго доказывал, что она похоронена именно здесь. На этом пригорке, где мы когда-то с ней подолгу стояли, наблюдая за уходящим за горизонт солнцем. Где я посадил в честь костюмерши маленький куст сирени. Который обязательно расцветет яркими цветами. Но Лида никак не могла уловить и принять мою мысль. Она опровергала все мои доводы, топала от негодования ногами и крутила пальцем у виска.
– Ну же, Данька, я тебе тысячу раз объясняла! – краснела она от возмущения. И становилась еще прекрасней. – Ты словно глухой! Я сама, понимаешь, сама, лично была на похоронах бабушки.
Лида била себя кулачком в грудь.
– Я даже помню, в чем ее хоронила – в черном длинном платье с большим воротом. Когда-то бабушка мне его сама сшила в расчете, что я получу роль молодой вдовы в одном фильме. Нет, ты не думай, я ее получила…
Я слегка зажал рот Лиды ладонью.
– Я не об этом, девочка. Ну, как… Как ты не понимаешь, что человек похоронен не там, где его закапывают. А там, где поселяется его душа, его сердце, где он оставил свои мысли и лучшие воспоминания.
Лида вырвалась из моих цепких рук.
– Человек похоронен там, где его похоронили, где стоит памятник на могиле и куда могут приходить его родные, чтобы положить букет цветов! – злилась она. – Ну, как же ты не понимаешь! И кто ты, чтобы решать, где должна селиться душа! И тем более – сердце!
– Да, я никто, увы, – я развел руками, признав себя пораженным.
– Фу-у-у, – отдышалась Лида, словно на ринге. – Дурачок ты мой, как вы с ней все-таки похожи. Миру не нужны идеалисты, они ему даже мешают.
– И тебе тоже?
Лида обвила шею мою руками и легко прикоснулась губами к моим губам.
– Только не мне, только не мне, только не мне…
Голова моя закружилась. Я изо всей силы обнял Лиду, и ее тело обмякло в моих объятиях. Я покосился на пригорок, заросший одуванчиками, на молоденький кустик сирени с сочными зелеными листочками, на огненный шар, уплывающий за горизонт. И подмигнул просто так, неизвестно кому.
– Я знаю, Марианна Кирилловна, вы здесь, – еле слышно прошептал я.
– Что, что ты сказал, повтори, любимый, повтори, – горячо прошептала Лида в ответ. – Повтори, что меня любишь… Что любишь… Любишь…
И я повторял и повторял снова, что люблю. И веточки сирени колыхались на легком ветру. И моя костюмерша улыбалась мне улыбкой уходящего солнца. Она была совсем рядом…
Последние дни нашей любви с Лидой не просто быстро прошли, даже не промелькнули и не промчались. Они просто слились в один день, одно мгновение яркого и сильного чувства. Не знаю, насколько похожа у людей любовь, но прощание наверняка у всех одинаково. Грусть, слезы и общие воспоминания. Потом грусть проходит, слезы высыхают, а воспоминания стираются. Я, видимо, не единственный, кто так горячо желал, чтобы у нас все было по-другому. Любовь, не похожая ни на какую другую. И расставание. Мне так хотелось, чтобы после нашей разлуки легкая грусть осталась навсегда, слезы до конца не высохли, а по ночам мучили воспоминания. Возможно, я был очень наивен.
Мы встретились с Лидой вечером накануне ее отъезда возле нашего засохшего дуба. И почему-то долго не знали, о чем разговаривать, словно уже наговорились за месяц или просто слишком мало осталось времени для фраз. Любые слова, произнесенные вслух, казались не главными. А главные, наверное, еще не были придуманы. И мы молчали. И молча вслушивались в мертвую, почти пугающую тишину. Я давно не помнил такого безветрия. Ни один листик не шелохнулся на деревьях. Почему-то не пели птицы. И на небе ни одного облачка. Только красные полосы, словно кто-то небрежно провел по небу кистью.
Мы стояли у мертвого дерева и придумывали главные слова. И на ум приходили одни штампы: прощай навсегда, я буду помнить тебя всю жизнь, ты главная любовь моей жизни и все в том же духе. И я уже было попытался одну из этих фраз выдавить, как Лида опередила меня:
– Ну что, Данька… Прощай, в общем, навсегда. Но я буду помнить тебя всю жизнь. Потому что ты главная любовь моей жизни…
И штампы в один миг превратились в нежные слова, которые, оказывается, я так ждал. И которые так приятно было услышать. Я крепко обнял Лиду.
– Лида, Лидок, ну скажи, ты можешь все бросить ради меня. Ну, хотя бы попытаться. Как у нас говорят: был бы хлеб да муж, и к лесу привыкнешь.
– Мне не все нравится, что у вас говорят. К тому же, мне хлеба и мужа мало. Впрочем, привыкнуть можно ко всему, если есть хлеб. Даже к городу.
– Ну вот ты и попытайся! Все брось ради меня! И город в том числе! Что это за родина, к которой нужно еще привыкать! – Я споткнулся на слове и опустил взгляд. – Лида, ну попытайся. Ну хотя бы в мечтах.
Я прекрасно знал ответ – она не могла. Это было слишком неправдоподобно. И слишком кинематографично. Я не настаивал. И вряд ли даже мог представить, что может произойти, если бы вдруг Лида осталась здесь. Она, конечно, не превратилась бы в Вальку. Но наверняка превратила бы нашу жизнь в ад. Как когда-то говорила Марианна, каждый живет там, где жить привыкает. И я бы добавил: где ему уготовано жить. Лида никогда не привыкнет, и тем более ей не уготовано здесь остаться.
Она провела холодной ладонью по моей заросшей щеке.
– А ты ради меня можешь все бросить? Не отвечай, я знаю ответ. И даже не могу представить, что случится, если ты уедешь со мной. Конечно, ты не превратился бы в Эдика. Но наверняка превратил бы нашу жизнь в кошмар, тоскуя о своем доме. Так что мы не можем вдвоем ни уехать, ни остаться.
– Как мало, оказывается, мы можем ради друг друга.
– Но у нас был целый месяц. А это уже не мало. И только потом мы поймем – было ли все это настоящее. И стоящее. Хотя так хочется знать теперь.
Лида запрокинула голову вверх, внимательно вглядываясь в засохшие, корявые ветви дуба. И вдруг громко вскрикнула.
– Данька! – Она до боли вцепилась в мою руку. – Данька, этого не может быть! Смотри! Этого быть не может!
Я растерянно мотал головой, не понимая.
– Ну, вон же! Какой ты слепой! Листочки! Ну, посмотри! Такие яркие! Совсем молоденькие! Как зеленые огоньки!
– Ничего не вижу. – Я старательно щурился.
– Ну какой же ты слепой! Слепым нельзя работать лесниками! Я напишу на тебя жалобу! – возбужденно кричала Лида. Она схватила мою руку и подняла ее вверх, по направлению к ветке, где выросла зелень. – Ну же, ну же, видишь?
– Да, точно, вижу, – я недоуменно почесал затылок. – Точно, листочки. Вот это чудо!
– Чудо?! Ты что! Это даже не чудо! Это больше, чем чудо! Так просто не бывает и не может быть!
Конечно, не бывает, я не мог не согласиться с Лидой. Но мне так захотелось, чтобы это случилось. Чтобы та сказка, которую я придумал специально для нее, наконец-то сбылась. Что я еще мог для нее сделать? Только позволить себе этот маленький обман. Накануне я залез на дерево и аккуратно зацепил тонкой проволокой молодые листочки к сухой ветке, чтобы все выглядело правдоподобно. Оставалось главное – правдоподобно сыграть удивление.
– Ну конечно, Данька, я даже не знаю, что думать. Ты сам рассуди, так не бывает. Разве могут на мертвом, совершенно безжизненном дереве вырасти листочки? Сколько их? Раз, два, три… Целых три листочка!
Я хотел и больше прицепить в порыве безбожного вранья и во имя божественной любви, но вовремя остановился. Это выглядело бы совсем глупо.
– Лида, Лидок мой! – Я взял ее руки. – Конечно же так бывает. И было не один раз. Неужели ты не веришь в легенды, не веришь нашим предкам, не веришь, в конце концов, в настоящую любовь?
Лида подозрительно на меня покосилась.
– Вообще-то я больше верю в науку. И в школе проходила биологию. Мертвое не порождает живое. Как мертвого человека невозможно заставить дышать, так и мертвое дерево – зацвести.
– Извини, но у тебя представления какого-то допотопного века! На свете столько непознанных явлений и необъяснимых событий! Если хочешь знать, уже почти доказано, что и мертвого человека можно заставить дышать. Его на определенное время помещают в такую специальную камеру… А тут дерево… Природа вообще – сплошная загадка. Тут одни тайны. И жаль, что их так мало изучают и разгадывают. В основном силы брошены на людей. Все забыли, что природа – первоначальна, а от нее зависит и наша жизнь, и наша смерть. А потому начинать нужно с нее. Потому что именно она может спасти или погубить…
– И все же я не понимаю, – уже менее уверенно пробормотала Лида. Она, похоже, почти верила моим сомнительным гипотезам. Похоже, она разбиралась в науке так же, как и я.
– А зачем тебе понимать? Скажи, зачем? Неужели это так важно? Или ты… Ты просто не веришь в нашу любовь? Ведь ты мне поверила, когда я рассказывал про влюбленных под этим дубом. И про внезапно появившиеся листочки. Значит, ты просто не веришь в нас…
Лида бросилась мне на шею. И стала лихорадочно целовать мое лицо, шею, пытаясь заглушить мои слова.
– Ну конечно, конечно, я верю в нашу любовь. И в эти листочки тоже. Но это означает, что мы должны быть вместе… А это так нереально.
– Кто знает, Лида, что реально в этой жизни, что нет. Нам кажется, что мы расстаемся навсегда, но знать наверняка не можем. И может быть, встретиться окажется гораздо проще, чем мы думаем. Другим же кажется, что они расстаются всего на час, а получается навеки. Что мы можем знать в этой жизни? Я думаю, что он, – я кивнул на дерево, – знает гораздо больше нашего.
Лида бережно погладила черную скрюченную ветвь старика дуба.
– Спасибо, дружище.
Мне показалось, он слегка покачнулся в легком поклоне. А возможно, просто начался ветер. Зашумели кроны зеленых елей, загалдели наперебой птицы, взбунтовалась водная гладь озера, по небу, как в зеркале, поплыли перистые облака. Мир оживал. Словно после разлуки. Мне все-таки удалось сделать наше прощание не похожим ни на какое другое. И стало немножечко легче.
Говорят, самые тяжелые – это первые недели разлуки. Со мной же все случилось наоборот. Именно первые недели мне жилось довольно легко и беззаботно. Жизнь как-то сразу вошла в свою колею. Хотя в доме еще пахло дорогими духами Лиды, мои губы хранили ее поцелуи и мне казалось, что она вот-вот легко и весело ворвется в мой дом. Я вздрагивал при каждом шорохе и ночами спал беспокойно. Но все же мудро принял неизбежное. У нас был целый месяц любви, а это немало. И разлука не означает, что любовь ушла навсегда. Я верил, что она может вернуться в любое мгновенье.
Чижик же откровенно ликовал по поводу отъезда Лиды. Он вновь стал прежним, веселым шустрым псом, с которым мы вновь проводили дни и вечера. Вновь разжигали костер и лакомились печеной картошкой. И все же ликование Чижика было недолгим.
Проходили недели, и у меня все тяжелее становилось на сердце. Я все чаще хмурился и раздражался по каждому поводу. Окончательно замкнулся в себе, все реже заглядывал в деревню, а если меня иногда навещал Мишка, я поскорее его выпроваживал… Потому что вместе с Лидой уехал и я. И Чижик это понял. Он остался один.
Возможно, во всем была виновата осень. Хотя я раньше принимал с благодарностью все времена года и самую разную погоду. Теперь же осень вместе с тучами и дождями нагоняла на меня такую тоску, что впору было завыть. И я вечерами подолгу стоял на крыльце, натянув на лоб капюшон ветровки, прислушиваясь к шуму дождя и крикам птиц. Я физически, до боли чувствовал свое безграничное одиночество. И меня все чаще посещали лукавые мысли: кто сказал, что это и есть моя судьба? Эта сторожка, и этот лес, и этот пес Чижик? Кто сказал, что моими собеседниками могут быть только деревья и птицы, моей женой – деревенская девчонка, а моим гостем – лопоухий пацан? Кто это сказал?!
И я все чаще рисовал в своих мыслях другую картину. Картину яркого большого города, переливающегося огнями и гирляндами. Я растворялся в шумной, ликующей, нарядной толпе. Солнце освещало ярко разукрашенные дома и магазины. Картина моя выходила непременно в стиле импрессионизма. И я ей верил. Как верил и в то, что я, сильный и здоровый, закаленный ветром и непогодами, смогу запросто добиться другой, более счастливой судьбы, в большом городе. И моей женой непременно станет красавица Лида. Конечно, придется принять и Эдика. Но, в конце концов, не такой уж он плохой парень. И вполне может стать моим другом. Безусловно, придется еще многое выучить про пуантилизм и модернизм. Но это не так уж сложно. Тем более что про импрессионизм я уже знаю все. А Чижик… Да, черт побери, Чижик! Он привык совсем к другому воздуху и другой жизни. Он, скорее, лесной зверь. К тому же вряд ли Лида станет жить в ухоженной городской квартире вместе с беспородным псом…
Чижик устало приблизился ко мне и виновато лизнул мою руку. К тому же он совсем стар. Вряд ли ему захочется быть похороненным в городе. И я вдруг вспомнил Марианну Кирилловну. Что бы она посоветовала? Мне показалось, что она укоризненно качает головой. Но при чем тут костюмерша? Это моя жизнь. К тому же Марианна Кирилловна может и ошибаться. И я постарался больше о ней не думать. Она сбивала меня с толку, запутывала мои мысли, вселяла сомнение.
Так прошли осень, зима и наступила весна, которой я впервые не обрадовался. Потому что меня здесь уже давно не было. Была моя тень. Машинальные фразы, механические движения. Тени не радуются весне. Хотя именно весна их рождает. И мне уже не хотелось выбегать на крыльцо вместе с Чижиком и кричать на весь лес, приветствуя первый весенний день. Я молча погладил Чижика по загривку и недовольно прищурился от назойливого солнца.
– В городе весной, пожалуй, веселее, – только и выдавил я.
Чижик испуганно забился в темный угол. И жалобно заскулил.
– Прекрати, – сердито прикрикнул я. – Твоего нытья еще не хватало.
Чижик первым понял, что меня здесь давно уже нет. У него было звериное чутье. Он это понял даже раньше меня. В этом доме осталась лишь моя тень. А я все чаще злился. И срывал злость на собаке. Я рисовал Чижику заманчивые импрессионистские картины большого города и сокрушался, что привязанность к нему мешает осуществлению планов. Чижик ничего не понимал в импрессионизме. Но насчет долгоиграющих планов он, кажется, понял. И когда однажды вечером я вернулся в сторожку и увидел, что Чижика нет, даже не удивился. Чижик не хотел мне мешать жить дальше, идти тем путем, который я уже выбрал. К тому же собаки не живут с тенями. Им нужен человек. И когда я увидел пустой дом, наполненный мертвой тишиной, то в оцепенении опустился на диван и схватился за голову.
– Чижик, Чижик, – прошептал я пересохшими губами. – Что я наделал, Чижик… Что я наделал…
Черт побери! Я вскочил с места. В конце концов, возможно, я ошибаюсь. Ну конечно. Я не верю, не могу поверить, что мой пес мог меня просто так бросить. Впрочем, разве не я бросил его первым… Нет, я не верю, он где-то рядом, возможно, просто обиделся и решил меня проучить. Нет, это не в духе Чижика. Он не настолько мелочен. Уж чего-чего, а благородства моей собаке не занимать.
Схватив куртку, я бросился из дому. И закричал во весь голос:
– Чижик! Чи-и-и-жик! Чи-и-ижик!!!
Галдели птицы, дурачился ветер, шушукались листья деревьев. Пришла весна. Она была уже не моей. Она существовала где-то в стороне, стучала зелеными ветками в чужие дома, пела скворцом на другом дворе. Словно я не имел к ней никакого отношения.
– Чи-и-ижик!!!
В ответ – пугающее молчание.
Я искал собаку всю ночь, весь день и всю ночь. Я сорвал горло. Исцарапал себе руки о колючие ветви елей. Перед глазами плыли желтые круги, словно маленькие солнышки. Но ни одно из них не было солнцем. Весь мой зеленый мир словно сговорился, весь мой зеленый мир был против меня. Словно я предал не только Чижика. Словно я предал всех, с кем жил эти годы. Кого любил. И кто так беззаветно любил меня.
В поисках приняли участие все жители Сосновки, весь персонал санатория. Мне даже помогали мои друзья-вертолетчики. Но Чижика никто не нашел. И я понял, что он никогда не вернется.
А потом я словно одеревенел. Я часами лежал на диване, и моя голова была совсем пуста. Именно теперь я должен был принять какое-то решение. Потому поклялся, что если Чижик вернется, то никогда отсюда не уеду. С его уходом я остался совсем один. Это были дни, словно после похорон. А мне так нужны были силы, чтобы жить дальше. Но сил не было. И я понял, что у меня остался лишь один выход. Тем более, это решение созрело еще прошлым летом. Когда я впервые предал Чижика. И теперь его уход открыл все двери в большой мир. Хотя я уже туда не хотел. Но и остаться тоже не мог. Если бы только Чижик вернулся… Я решил ждать еще месяц. Предупредил о своем увольнении начальство, чтобы успели подыскать замену. И часами валялся на койке. Мне не хотелось даже бродить по лесу. Мне казалось, что я стал всем чужим. И все стало для меня чужое.
Поначалу меня пытались утешить, поддержать. Пришел как-то доктор Кнутов. И я, нехотя поднявшись с дивана, пожал ему руку.
– Извините, Андрей Леонидович, но ничем не могу угостить. Я болен.
– Говорят, вы уезжаете.
– Говорят… Но это лишь разговоры. – Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы знали о моем отъезде. Мне этот отъезд напоминал побег.
– Вы совершаете ошибку. Впрочем, не мне об этом судить. И все же… Никогда не спешите. Уехать вы всегда сможете. Уехать легко, вернуться гораздо сложнее. Как говорится, лес к селу крест, а безлесье неугоже поместье. Вы не выживете в безлесье. Это не про вас.
– Я никуда не уезжаю. Я болен.
– Да, я вижу.
Вид у меня действительно был неважный, хотя я чувствовал себя абсолютно здоровым. Я просто постарел – в один миг.
– Может, нужна моя помощь, лекарства? – Доктор сделал еще один шаг навстречу.
– Нет, спасибо, я лечусь народными средствами, у меня все есть.