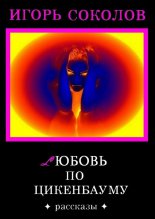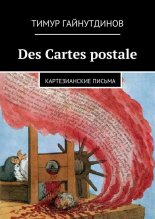Река, трава, чайник и некоторые коты Серебренитский Кирилл

– Ты – Серый?
– Ну.
– Руслана Косого знаешь?
– Ну.
– Ты его ишаком нерусским обозвал?
– Я чё? Не, я ничё… я просто. Это самое.
Серый, подрагивая, оглядывается по сторонам – все приятели уже испарились; остальные смотрят заинтересованно. Издали.
И тут ошарашенно вспоминает Серый, что – дело-то было: два дня назад мяч гоняли, и вполне дружественный Руслан Косой вместо мяча нечаянно дал Серому под колено. Серый заскрипел, зажав ногу: «Ты, ишак нерусский…»
Через час уже Руслан всё забыл.
Но кто-то запомнил.
– Пошли (чёткий кивок – в сторону кустов; были такие там обширные тёмные заросли за туалетами – целый перелесок).
– Олег, а чё такое-то, ну? Чё за дела-то, а?
– Пошли, сказал.
И вскоре из кустов – треск, стоны, и резкие окрики Олега:
– Ответишь за ишака нерусского? Ответишь, бля, я сказал?
Бил Олег долго, жестоко, сбивал на землю, месил ногами.
И так чуть не каждый день он зажимал кого-то в углу: «Ты в суп в столовке плевался?»; «Ты у Жирного батарейки своровал? Пошли».
И оправдываться было бесполезно, да уже и некогда.
Стали замечать, что иногда изменяло Олегу чувство справедливости. Бывало, просто подкатывал:
– Ты – Вовик?
– Я.
– Ты, что ли, больно тут борзый?
– А чё такое-то?
– Не, больно борзый, да?
– Да Олег, да чё такое-то, блин?
– Пошли.
Меня Олег так и не заприметил.
Я был такой тихий, мелкий, неинтересный.
Вот Батю он ни разу не тронул.
Батя по-своему был грозен. Только не всегда. Иногда. Как грозовая туча.
На нас он громы не тратил, потому что ему лень было, да и западло.
Вот: однажды ночью он вылез в окно: за забором его ждали человек семь. Тёмные тени, сиплый шёпот. И ушли они в ночь.
Сражаться с врагами?
Грабить?
Убивать?
А мы были маленькие мальчики, мы и темноты-то ночной побаивались.
Батя был хозяйственный и голодный. Его интересовали шкафчики наши, тумбочки и чемоданы.
К Бате никто никогда не приезжал; а к нам, к приличным мальчикам, часто приезжали родители. И Батя так наглатывался наших персиков, шоколада, груш, колбасы, огурцов, яиц, помидоров, пирожных, лука, рулетов, что раздувался дня на три. В растяжимом брюхе его шла стрельба, наружу вырывались облака ядовитого газа.
Батя неукоснительно проверял наши шкафчики, карманы даже – и деловито изымал фонарики, ножики, значки.
Слава Богу, не надобилась ему одежда – а то половина из нас ходила бы без штанов.
Так вот.
К концу смены вокруг Олега постепенно смыкалось кольцо горячей ненависти. Его уже видеть не могли. И вот уже один, не помню, как его, совсем не сильный, такой даже носатый, ушастый, вечно простуженный – когда прижали его очередной раз, вдруг размахнулся и длинной граблей Олегу врезал по уху.
И что?
Ну побили.
Ну – больно.
И – только-то.
Потом я увидел, как Олег ковылял вдоль забора, зажав руками обколоченную свою голову. Били его чуть ли не вдесятером. Свои же.
И дело вот в чём, я полагаю. Благородный Робин Гуд был – утомителен. Всё время нужно было о нём помнить. Опасаться, беречься; угадывать; не попадаться на глаза, не встречаться с ним взглядом. И усталость от него – всё нарастала, заглушая все страхи.
А Батя – его, в сравнении с Олегом, даже как-то полюбили постепенно. Шепчемся мы по ночам, страшные истории рассказываем – и вдруг пускает Батя короткую очередь, как пулемёт. Зажмём носы и гнусаво удивляемся:
– Оба, как бзднул.
В сущности, вполне терпим был Батя. С ним всё было ясно: всё ценное (ножик и фонарик) прячь, конфеты – быстро уничтожай, останется пара мандаринов – ну и пёс с ними.
Очки
Лет в десять пришлось мне надеть очки по близорукости. Что определило многое из того, что было после.
Для очкарика главное – это не очки носить. А – достойно встретить миг, когда они полетят с носа.
Очки – это непрерывное ощущение хрупкости бытия.
Тонкие линзы – дзынь! Слабенькие дужки – крак!
Дитя грудное справится.
С самого начала я осознавал, что очки – это судьба.
И это меня не устраивало.
Очконос – это не очкист, не очкарь, а именно – Очкарик.
Небольшой такой, забавный. Но при этом вдумчивый, сосредоточенный. Часто встречаются мягкие, шаловливые, резвые очкарики. Но для этого нужна округлость, щёки, брюшко; это не про меня. Я и тогда, и ныне – тощий очкарик. Что предполагает задумчивость, даже некоторую печаль там, за стёклами.
Очкарик – во всём старателен и за всё признателен.
Очкастость – это, кстати, долг перед обществом.
Очкастый грузчик, фрезеровщик, электрик – это нечто серенькое, больное: он порождает мысль о пропащей судьбе, о падении на дно общества. Если не шизофреник, то – эпилептик.
Разумеется, есть множество исключений.
Рыщут по свету очкастые уголовники, некоторые из них пробиваются в авторитеты. Среди серийных убийц очкариков – треть, если не половина.
Много лет – до последнего – я держался изо всех сил. Только в крайнем случае я натягивал окуляры на нос – и, высмотрев что требовалось, быстро срывал. И прятал.
В молодые годы, когда без очков было уже совсем трудно, одна милая дама сшила мне особый кожаный футляр – я носил его на ремне, как кобуру, и вытаскивал очки только по необходимости.
Как кольт.
«Вокруг света»
То паршиво, что долгое время я книги читал.
Собственно, только этим я и занимался.
Оглядываюсь на школьные годы – и вижу только: уходящие за облака башни из книг, между ними – книжные зубчатые стены; и в самой сердцевине – я, маленький такой очкарик. Лежу на животе, листаю, впиваюсь. Впитываю книжный неисчерпаемый нектар.
А вокруг расстилались бескрайние, исполненные угрозами пространства.
Некнижные.
Даже часто – непечатные.
Но на самом деле они-то меня и манили.
Классе в шестом я раздобыл несколько чрезвычайно учёных книг: «Критику чистого разума» Канта, трактат о раннехристианских гностиках и ещё что-то. После уроков валился на диван, открывал том – и лежал.
А когда кто-нибудь ко мне приближался, я гордо думал: «А я, между прочим, – Канта читаю».
Что профессор Иммануил (не Эмм-, а именно Имм-, во как) Кант был одним из величайших философов, я тогда уже знал.
Одно название чего стоило.
Чистый разум – и тот ему не угодил.
И был раскритикован.
А тут, кругом, и нечистый-то редко попадается, думалось мне.
Да и где же он вообще бродит – Разум?
Где же вы, братья мои по Нему?
Аууу…
Себя я считал весьма разумным, помнится. Чисто разумным.
Так бы и дал бы сейчас сам себе по очкастой роже.
Обжиться в этом мире, на этой планете, мне помог не Кант. А – журнал «Вокруг света».
Не помню, когда точно мне впервые попался номер этого журнала, но это была – роковая встреча.
Внутри «Вокруг света» содержалось именно то, что нужно было мне. Лично мне.
Как выяснилось.
Кант годился, как оказалось, только для прикрытия.
Настоящий Я – будущий, долгожданно взрослый? какой? – из «Вокруг света».
Канта я, откладывая годами, хотел прочитать. Так и не осилил. До сих пор, почти до сорока лет, – наверно, безнадёжно.
В «Вокруг света» я уже лет в десять вознамерился писать – сам. И чтобы про меня там писали.
Каждый номер, каждый без исключения – это была дверь. Запертая; но – пока запертая.
На каждой обложке были – пальмы, синие лагуны, бамбуковые мачты, огромные рыбы, раскалённые дюны, – это был солнечный, роскошно жаркий журнал. Когда речь шла там про Антарктиду, про леденящие метели, это было уютно, – как прохладная ночь после жаркого дня, а завтра снова – чудесная жизнетворная жара.
Помнится, один номер выпадал из общего ряда, какой-то юбилейный: на обложке скучная серая картинка, привычная в то время настолько, что воспринималась как пустое место: здоровенный оскаленный Ленин указывает пальцем, за ним в порыве атаки – солдаты и матросы, со штыками, развеваются знамёна. И грозная надпись внизу: «Вокруг света».
Откроешь: там повести. Одна фантастическая, скажем, «Планета Печального Шерифа», американская, – галактические ковбои на сверхзвуковых мустангах, двухголовые добрые великаны, яростные алые карлики: нигде больше такого не печатали.
Следующая повесть – «Берег Обглоданных Скелетов», про контрабандистов Южной Африки; если наше что-нибудь, то тоже: как студенты-стройотрядовцы из Каменогорска спасают почти социалистическую латиноамериканскую республику от заговора агентов ЦРУ. После чего всё-таки отстраивают взорванную злобным агентом ГЭС на реке Оро де ла Орриба.
На улице Ленинградской был такой маленький полутёмный магазин – «Букинист»; там грудами лежал «Вокруг света» за многие годы, – чуть ли не за 50-е – правда, разрозненные номера. Знал я ещё два-три книжных магазина, где также пылился на полках мой журнал.
Вставала проблема. На еду мне выдавали ежедневно 25 копеек. Каждый старый журнал стоил дорого: 45 копеек. Я гордо жертвовал любимым коржиком (8 копеек) и молочным коктейлем (11 копеек).
Но денег всё равно не хватало.
Значит – война.
Партизанская.
Собственно, зачем им, всем остальным, «Вокруг света»? Они все как-нибудь и без журнала этого проживут.
Мне он нужен – весь. Все номера, какие только есть.
Повести-то печатались – с продолжением.
Днём в «Букинисте» – два-три покупателя, кипы журналов – в дальнем тёмном углу. В распоряжении моём рубль – на два журнала. Третий я быстро (от страха леденеют зубы) – за ремень, под куртку. Четвёртый – в трубочку и во внутренний карман.
И медленно иду к кассе, спокойно (изо всех сил спокойно) забираю сдачу – десять копеек.
И поймали меня – всего один раз: как истинного фраера, спалила жадность. Куртку так распёрло, что продавщица вцепилась – и выдернула из внутреннего кармана «Вокруг света». И у меня неожиданно тут же прошли все страхи. Я уверенно стал отбрехиваться: что журнал купил раньше. Тётка постыдила меня, постыдила – а я всё своё бормотал.
Несчастный такой, глуповатый маленький мальчик, взъерошенный, схватил сдуру журнал – ой, да он что, сейчас – заплачет?
И меня отпустили. И пошёл я неторопливо. Вразвалку.
Даже отчасти враскорячку.
На животе у меня упрятаны были три плотных журнала, один провалился до самой ширинки.
И некоторые коты
Потусторонние котята
Детство своё я прожил на старинной улице Степана Разина. Улице этой уже было века два с половиной. Её старое имя – Вознесенская улица.
Старая Самара вознесена на нагорье и спускается к Волге как раз от Степана Разина. Три квартала сходят уступами вниз по склону.
А потом – Волга.
Когда с той стороны дул ветер – у нас пахло большими водами.